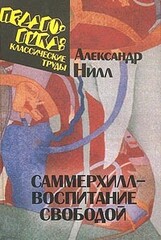Глава четвертая. Проблема неосознаваемых форм психики и высшей нервной деятельности в свете современной теории биологического регулирования и психологической теории установки
III. О взаимоотношении сознания и "бессознательного"
§90 Осознание как «презентирование» и преимущества, создаваемые осознанием в отношении регулирования деятельности
Анализ отношения фактора «установки» к функциональной структуре действия помог нам понять вторую важную функцию неосознаваемой высшей нервной деятельности (считая первой, неосознаваемую переработку информации) — регулирующее воздействие, оказываемое этой активностью на приспособительное поведение. Вместе с тем рассмотрение этой проблемы подводит нас вплотную к вопросу, который мы много раз упоминали на предыдущих страницах, не задерживаясь на нем специально: какая же роль остается при подобном подходе за фактором сознания? Должны ли мы присоединиться к эпифеноменалистической трактовке сознания, предлагаемой современной нейрокибернетикой, или же, не отвергая общего разработанного нейрокибернетикой подхода, оставаясь логически в его же рамках, мы можем указать на какую-то специфическую роль сознания в организации действия, освобождаясь тем самым от неприятной необходимости рассматривать сознание как «бледную тень» мозговых событий, с которой детерминистически ориентированному анализу делать, строго говоря, нечего?
Этот вопрос, очень сложный по самому своему существу, стал еще сложнее когда была выявлена упомянутая в предыдущем параграфе тесная связь «установки» с представлением о «рефлекторном кольце». Действительно, концепция «рефлекторного кольца», как и упоминавшиеся ранее нейрокибернетические построения более широкого плана, к фактору «сознания» не апеллируют. По схеме «кольца» развертываются как наиболее сложные формы
осознаваемой деятельности, так и полностью ускользающие от сознания двигательные и иные автоматизмы. А поскольку, как мы говорили выше, рефлекторная регуляция немыслима без активного участия «установок», то становится очевидным, что и последние не связаны обязательно и непосредственно с параметром сознания.
Это обстоятельство лишний раз подчеркивает, что нет, конечно, никаких оснований ограничивать функцию «установок» регулированием только осознаваемых психических явлений. Такое ограничение было бы столь же ошибочным, как и привязывание установок только к области неосознаваемого. Но отсюда же следует, что существо отношений между параметром сознания и поведением раскрывается теорией установки не в большей степени, чем теорией нейронных сетей. Сторонники обеих концепций явно предпочитают эту запутанейшую проблему по возможности не задевать.
Для теории неосознаваемых форм высшей нервной деятельности такая уклончивая позиция является, однако, принципиально неприемлемой: без определения специфической роли сознания становится трудно определимой и вся специфика «бессознательного» и даже, более того, снимается как самостоятельная проблема весь вопрос о соотношениях между осознаваемыми и неосознаваемыми, переживаемыми и непереживаемыми формами мозговой деятельности.
В §73 мы охарактеризовали позицию, которую в этом вопросе занимает George. Исключая из рассмотрения категорию сознания, как «псевдонаучную», он без особых раздумий ликвидирует все те дифференциации, которые настойчиво возводились психологией на протяжении десятилетий между качественными особенностями осознаваемых и неосознаваемых форм психики. Обе эти категории явлений объединяются как «активность мышления», которая независимо от того, совершается ли она в условиях бодрствования или во время сна, регулируется, по мнению George, одними и теми же фундаментальными закономерностями. О какой-либо специфической функции сознания при такой нивеллирующей трактовке говорить, конечно, не приходится.
В чем же заключается неправильность этого характерного для современной нейрокибернетики общего подхода? Эта неправильность выступит отчетливо, если мы вспомним своеобразное положение, создавшееся в современной психологической теории сознания.
Тенденция нейрокибернетики к исключению представления о сознании из круга используемых ею «операциональных» рабочих категорий основана, естественно, на определенном истолковании этого понятия. Это истолкование обычно не формулируется наиболее убежденными сторонниками изгнания идеи сознания (например, Uttley). Оно скорее молчаливо ими подразумевается. Но его легко понять и надо согласиться, что, если оно принимается как исходное, то, действительно, трудно что-либо возразить против скептических выводов, к которым приходят его адепты. Дело заключается, однако, в том, что эта некритически усвоенная нейрокибернетикой концепция сознания, являясь традиционной для определенных направлений западноевропейской психологии, остается вместе с тем глубоко ошибочной.
Эта концепция, логично приводящая к эпифеномена- листической трактовке сознания, хорошо охарактеризована А. Н. Леонтьевым: «Выдавая сознание классового человека за вечное и общечеловеческое, буржуазная психология изображает его как нечто абсолютное — бескачественное и "неопределимое". Это особое психическое пространство ("сцена" по Jaspers). Оно является, следовательно, только "условием психологии, но не ее предметом" (Natorp). "Сознание, —писал Wundt, — заключается лишь в том, что мы вообще находим в себе какие бы то ни было психические состояния". Сознание психологически представляет собой с этой точки зрения как бы внутреннее "свечение", которое бывает ярким или помраченным или даже угасает совсем, как, например, в глубоком обмороке» [52, стр. 283—284]
Очевидно, насколько такая трактовка сознания отлична от упоминавшегося выше понимания сознания как «осознания субъектом объективной реальности» (С. Л. Рубинштейн), как «знания о чем-то», что «как объект противостоит познающему субъекту», как качество психики, возникающего у человека лишь постольку, поскольку он выделяет себя из внешней среды, становится способным воспринимать свои переживания как данность, не тождественную окружающему его миру материальных предметов. А. Н. Леонтьев в точных выражениях определяет основную черту этого неэпифеноменалистического понимания. Она заключается в том, что «действительность открывается человеку в объективной устойчивости ее свойств, в ее отделенности, независимости от субъективного отношения к ней человека, от наличных его потребностей или, как говорят, "презентируется" ему. В факте такой "презентированности" собственно и состоит факт сознания, факт превращения несознательного психического отражения в сознательное» [52, стр. 285].
Таковы две противостоящие друг другу концепции сознания. И если из первой действительно следует, что сознание это гораздо скорее «условие» всякого психологического исследования, чем его «предмет», что ни на какое регулирование психических явлений сознание не вправе претендовать, поскольку ничего нового в динамику этих явлений осознание последних не приносит, то вторая вынуждает к выводам прямо противоположного характера.
Основное обстоятельство, всю серьезность которого явно недоучитывают Uttley, George и другие авторы, предлагающие исключить представление о сознании из числа категорий, необходимых для построения адекватной теории работы мозга, заключается в том, что осознание объективной действительности, как таковой (ее «презентированность» в смысле, придаваемом этому термину А. Н. Леонтьевым), глубоко влияет на все последующее развертывание мыслительной активности и поведения. Психологический анализ позволяет без особого труда определить и условия, которые способствуют такому «презентированию» действительности на основе ее осознания: эти условия в первую очередь связаны с возникновением каких-либо неожиданных препятствий в гладком развертывании целенаправленного действия, с трудностью выполнения последнего («закон Клапареда»). Осознание, т.е. процесс, основанный на «презентировании», выступает поэтому как своеобразное средство экстремальной регуляции мозговой деятельности, т.е. регуляции в чрезвычайных условиях, при которых другие, менее эффективные средства управления мыслительными операциями и поведением оказываются недостаточными.
При такой интерпретации, естественно, возникает вопрос: что же именно придает осознанию и неразрывно связанному с ним «презентированию» действительности эту способность оказывать мощные регулирующие воздействия на мозговую активность? Отвечая на этот вопрос, мы вновь касаемся, быть может несколько неожиданно, представлений, характерных для нейрокибернетического направления.
Когда А. Н. Леонтьев впервые применил представление о «презентированности» действительности, как о характеристике осознания, по-видимому, только традиции словоупотребления помешали ему подчеркнуть близкое отношение этого представления к идее «моделирования», широко вошедшей в обиход психологии и неврологии в несколько более позднем периоде58. Вряд ли требует особых разъяснений, в каком смысле при отражении, сопровождаемом «презентированностью» действительности субъекту, мы сталкиваемся со своеобразным «удвоением» картины мира (А. Н. Леонтьев). При таком отражении содержанием последнего становится не только объективная действительность как таковая, но и переживание отношения к этой действительности, противостоящее как более или менее ясно осознаваемая субъективная данность тем элементам внешнего мира, которые это переживание непосредственно вызывают.
58 Это отношение было им подчеркнуто спустя несколько лет [53].
Переживание этого отношения приводит к созданию аналога (или «Образа») объективной действительности не отождествляемого, однако, субъектом с последней и выступающего для сознания как своеобразная «модель» мира предметов. Использование этой модели в процессе регулирования поведения позволяет получить все те неисчислимые преимущества, которые возникают, если непосредственному управлению каким-либо процессом предшествует фаза предварительной наметки этого управления на более или менее точной копии, «слепке», «модели» предстоящих реакций. Перефразируя Valensin, можно поэтому сказать, что человек стал неизмеримо богаче в своих возможностях воздействия на мир, после того, как он оказался в состоянии не только воспринимать, мыслить и чувствовать, но и сознавать, что он есть существо, которое воспринимает, чувствует и мыслит.
Очень показательным для состояния современной дискуссии об активной роли сознания является то, что сходное понимание прйчйн и механизмов этой роли и, следовательно, какой-то отход от скептической позиции Uttley и др. можно встретить и в рамках самой нейрокибернетической литературы. Мы упомянули выше (§14) о работах по теории управления, в которых подвергается анализу возможность для саморегулирующейся системы дать ответ на вюпрос о вероятном исходе эксперимента, без того чтобы последний был фактически этой системой поставлен. Как указывает Minsky, такой ответ может быть получен только от какой-то подсистемы, которая находится внутри саморегулирующейся системы и выступает как модель взаимоотношений последней и внешней среды. Если информация, полученная от такой подсистемы, может повлиять на процессы, разыгрывающиеся на общем выходе всей конструкции, то перед нами возникает своеобразная картина автомата, деятельность которого регулируется на основе «презентироваиности» ему не только совокупности внешних воздействий, но и информации, поступающей от его собственной поведенческой «модели». По полушутливому замечанию Minsky, подобный автомат, располагая знанием внешнего мира и «самого себя» и корригируя свою деятельность, направленную на внешний мир, на основании данных «интроспекции» должен был бы различать в себе уровень «тела» и уровень «духа» и был бы вынужден энергично сопротивляться указанию на то, что он вопреки всему остается только неодушевленным роботом [125].
Мы напоминаем этот пример потому, что он отчетливо показывает, что даже если мы остаемся в рамках обычных кибернетических трактовок, мы отнюдь не обязаны неукоснительно следовать за Shannon, Uttley, George, Rosenblatt и др. в их скептической оценке роли сознания. Эта оценка вытекает в гораздо большей степени из особого смысла, который вкладывается этими авторами в представление о сознании, чем из подлинной логики нейроки- бернетического подхода.
Принимая, как это справедливо подчеркивает А. Н. Леонтьев, что факт осознания сводится в основном к «презентированности» субъекту объективной действительности, в ее «отделенности, в ее независимости от субъективного к ней отношения» [52] и что эта отделенно «презентированная» данность может быть использована как модель при отработке процессов регулирования, мы получаем возможность понять не только функцию сознания как фактора регуляции поведения, но и активное отношение сознания к другим формам психики. В работе мозга, как и в работе логической конструкции Minsky, использование информации, идущей от подобных «презен- тированных» «аутомоделей», резко расширяет операци- альные и адаптивные возможности, хотя физиологические механизмы, на основе которых происходит это расширение, остаются далеко не ясными. В связи с этим становится очевидной органическая включенность этих «аутомоделей» в работу саморегулирующихся систем, внутренними элементами которых они являются, следовательно, подлинно активный характер их роли.
Можно, таким образом, сказать, что функции сознания раскрываются в какой-то степени, если учитывается участие сознания в процессах психологического моделирования действительности и тем самым регулирования предстоящей деятельности. Эволюционный процесс разрешил задачу подобного моделирования, обеспечив способность человеческого мозга создавать «презентированное» отражение окружающего мира. Можно, конечно, по этому поводу задавать много на первый взгляд странных вопросов: является ли, например, этот избранный филогенезом вариант решения задачи моделирования единственным, который вообще возможен? А если моделирование, необходимое для продуктивной деятельности саморегулирующихся систем, осуществимо на разных путях, в том числе на путях, не обязательно связанных с осознанием, то почему биологическая эволюция избрала в данном случае именно путь развития сознания, а не какой-либо другой и т.д.
Вряд ли, стоит сейчас задерживаться на вопросах подобного рода. Не исключено, конечно, — позволим себе эту улыбку, — что в процессе освоения Галактики человечеству придется когда-нибудь столкнуться с саморегулирующимися системами, у которых задача внутреннего моделирования решается на основе качественно иных принципов, чем те, которые используются с этой целью в мозгу человека. Для нас важны сейчас не более или менее фантастические предположения о подобных принципах, а понимание осознания, как одного из элементов класса потенциально возможных способов решения задачи прогностического моделирования и тем самым как активности, которая последовательно и в весьма специфической роли (вопреки тому, что думают многие из ведущих теоретиков нейрокибернетики) вписывается в круг общих представлений современной теории биологического регулирования.
Для нас важно также понимание сознания как особенности мозговой деятельности, которая полностью подчинена общим закономерностям биологической и социальной адаптации. С точки зрения Uttley и других «эпифеноменалистов», развитие сознания на высших уровнях фило- и онтогенеза выступает как трудно объяснимый парадокс (все функционально бесполезное должно, как известно, эволюционным процессом не стимулироваться, а устраняться). Представление же о сознании как о факторе, приспособительно влияющем на развертывание поведения, избавляет нас от довольно неприятного конфликта с теорией эволюции. Это тоже, конечно, является немаловажным аргументом в дискуссии.
Всего сказанного выше, по-видимому, достаточно, чтобы показать не только философскую, но и логическую несостоятельность мнения о том, что категорию сознания так уж легко сбросить со счетов. В действительности дело оказывается гораздо более сложным. Но в таком случае перед нами возникает задача, от которой те, кто стоит на позиции Uttley и его единомышленников, себя освободили: показав реальность сознания как фактора регуляции, охарактеризовать особенности отношения этого фактора к не менее реальному «бессознательному».