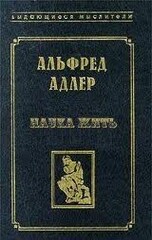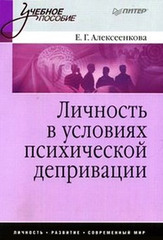Глава пятая. Роль неосознаваемых форм высшей нервной деятельности в регулировании психофизиологической активности организма и поведения человека
§116 «Только вербализуемое» желание, «подлинная» установка и болезнь
В одной из своих работ, посвященных теории обработки информации, Lindsay указывает, что к важным вопросам, возникающим при рассмотрении адекватности линейных нейронных моделей для объяснения сложно организованных систем, неизбежно относится и проблема «установки». Lindsay подчеркивает, что в психологических теориях эта проблема также давно выступает, фигурируя под разнородными названиями, но мало меняясь из-за этого по смыслу. Понимая «установку» как состояние системы, при котором введенная информация вызывает ответы лишь определенного класса (т. е. исключает ответы, возможные в другой ситуации), Lindsay напоминает, что условием получения реакций подобного типа у машины является возможность для «установочной» информации, поступающей до предъявления основной задачи, воздействовать на программу. Это достигается путем введения одного или нескольких корректирующих сигналов, пригодность которых контролируется специальными подпрограммами.
Мы напомнили это своеобразное кибернетическое понимание «установки» потому, что в нем выступает наиболее характерная — и весьма общая — функция последней, заключающаяся в придании поступающей информации определенного «значения», которое обусловливает возникновение ответов специфического типа. Если «установка» в каком бы то ни было из возможных вариантов ее конкретной реализации отсутствует, то эффект поступившей информации становится (как мы об этом уже говорили однажды) совершенно непредвидимым. При наличии же «установки», опосредующей связь между поступающей информацией и ответом, соотношение обоих этих элементов становится закономерным и потому прогнозируемым.
Мы не будем сейчас вновь возвращаться к обоснованию того, почему эта общая логическая схема полностью сохраняет свою силу также применительно к поведению человека. Напомним только, что выше мы много внимания уделили представлению, по которому эффект любого воздействия, рассматриваемый как в его психологическом, так и физиологическом аспекте, глубоко зависит от предсуществующих, обусловленных ранее накопленным опытов установок субъекта. Для нас важно сейчас признание лишь того фундаментального факта, что включение субъекта в новую для него объективную ситуацию болезни было бы неправильно рассматривать как событие, клинические последствия которого определяются только «сензи- тивным» и «интеллектуальным» уровнями «аутопластической» картины. Клинические результаты этого включения выступают в действительности как функции, во-первых, дополнительной информации, получаемой субъектом в этих новых условиях, и, во-вторых, установок, преформированных или возникших лишь после включения субъекта со всеми его «субстанциональными», «функциональными» и «теоретическими» потребностями (по терминологии Д. Н. Узнадзе) в эту новую ситуацию.
Ввиду же того, что мы допускаем возможность неосознаваемости последней группы факторов, мы приходим кнеизбежному логически заключению, что реакция субъекта на его собственное заболевание и, следовательно, в какой-то мере судьба его болезни должны зависеть от процессов его высшей нервной деятельности, которые могут оставаться иногда (а с позиций школы Д. Н. Узнадзе даже должны быть всегда) неосознаваемыми.
Это — очень важное положение. Оно требует, однако, некоторых дополнительных пояснений.
Прежде всего следует вновь подтвердить, что принимая его, мы как бы возвращаемся к традиционным полу- интуитивным представлениям о факторах, влияющих на течение клинических процессов. Этими представлениями всегда подчеркивалась роль той же «установки», только понимаемой не как строгая психофизиологическая категория, а как один из терминов «житейской» психологии, широко используемый в художественной литературе и поэтому легко смешиваемый с такими же интуитивно постигаемыми выражениями, как «воля к жизни», или, напротив, как «установка на использование клиническога расстройства» (в смысле придаваемом этому выражению в психиатрии) и т.п.
Подобная близость выводов анализа функциональной структуры реакций к данным интуитивного восприятия и художественного описания менее всего, конечно, снижает значимость первых. Вряд ли у кого-либо могут возникнуть сомнения по поводу того, что своеобразная форма постиженин мира, которая дается созданием и последующим восприятием художественных образов также основана на результатах накопления и переработки информации, только не всегда достаточно ясно осознаваемых97. Эта форма постижения иногда даже опережает научное знание, но она не позволяет подвергать объективному контролю ее выводы и не дает возможности произвольно ставить проблемы. Поэтому только рационализировав интуитивные представления о сано- и патогенетической роли установок, только внеся в эту область обычную для научного анализа строгость в использовании категорий, мы сможем ответить на множество важных вопросов, которые на протяжении «художественного этапа разработки» (если можно так выразиться) всей этой темы оставались по необходимости открытыми.
97 Неосознаваемые «выводы», возникающие в результате восприятия художественных образов, обычно имеют характер интуитивного (рационально не аргументируемого) и, несмотря на это, очень твердого, подчас, и эмоционально окрашенного «убеждения». Их формирование требует качественно особого психологического акта — интимно-индивидуального эстетического переживания. Поэтому подлинное постижение художественного образа не достигается в результате одного только рационального разъяснения смысла этого образа, хотя такое разъяснение создает важные предпосылки для более глубокого восприятия произведения искусства. Именно поэтому результаты художественного постижения действительности не вливаются непосредственно в фонд коллективного знания, т. е. сведений, которые имеют логически принудительный и непосредственно передаваемый характер.
97 Вся эта проблема «интуитивного знания» настолько сложна, что многие до последнего времени предпочитали ее обходить. Однако понимание важности этого вопроса, причем не только для теории художественного восприятия, проявлялось во многих психологических и философских течениях, в том числе в полузабытых. Э. Ю. Соловьев недавно напомнил, что еще Husserl обращал внимание на тот примечательный психологический факт, что «живое восприятие всегда... содержит... непроизвольное (и часто противоречащее нашему рациональному умыслу) истолкование: непосредственный эмоциональный приговор воспринимаемому. Я вижу лицо... человека, и у меня мгновенно возникает необъяснимое отвращение к нему. Мое "первое впечатление" уже содержит... какое-то убеждение, родственное логической интуиции по своей стойкости и категоричности... В восприятии оно уже завершено, уже имеет определенность личного мотива и не требует никакого развертывания в мысль для того, чтобы превратиться в поступок... Heidegger... называет убеждение, присутствующее в живом восприятии, настроением» [Вопр. филос., 12, 1966, стр. 83].
97 В подобных истолкованиях отражается понимание широкой представленности того, что мы сейчас называем неосознаваемой переработкой информации. Но очень показательно, что углубить теоретически это понимание ни Husserl, ни возникший в более позднем периоде экзистенциализм с его принципиальным непринятием рациональных категорий и экспериментального подхода так и не смогли.
Первой проблемой, которая, естественно, возникает при такой рационализации, — это в высшей степени трудно разрешимый вопрос: чем психологически и физиологически отличается почти всегда присутствующее, но остающееся часто клинически довольно малоэффективным вербально выражаемое «желание» выздороветь от подлинной «установки на выздоровление», которая нередко дает (как это подсказывает почти каждому практическому терапевту его клинический опыт, особенно опыт прослеживания динамики патологических процессов в разнообразных «стрессовых» условиях) весьма ощутимые результаты.
Ставя этот вопрос, мы подходим к тому, что является на сегодня рубежом научного знания. Рубеж намечается здесь по той причине, что мы еще не располагаем разработанной теорией, которая осветила бы фундаментальное (как это видно из клинических фактов) различие, существующее между двумя нетождественными видами «готовности», — той, которая находит выражение только в вербальном «желании», и той, которая проявляется в форме «подлинной установки». То, что мы узнали о психологической структуре и физиологической природе установок, подсказывает в данном случае лишь одну мысль, которая может быть использована в качестве отправной гипотезы.
Мы говорили выше (§95) о «больших фарах» сознания, включаемых на критических участках пути, в то время как непрерывное целенаправленное регулирование деятельности обеспечивается светом «малых фар бессознательного». Мы воспользовались этим образом, чтобы упростить описание сложных соотношений, вытекающих из одновременного существования содержательно-дискретного характера активности сознания и непрерывного характера функции регулирования. Применяя эти представления, можно сказать, что готовность, которая проявляется только осознанно, является «презентируемым» и вербализуемым психическим актом, переживаемым как «желание». Но если она только осознается, то в силу уже одной лишь дискретности подобных осознаваемых переживаний она не может выполнять функцию непрерывного регулирования физиологических «мер защиты» организма. Для того чтобы возникло такое непрерывное регулирование, необходимо, очевидно, участие в нем также неосознаваемых форм высшей нервной деятельности. В этих и только в этих условиях готовность типа «желания» преобразуется в готовность типа «подлинной установки», способную оказывать на динамику психологических явлений и физиологических процессов далеко идущие воздействия.
Такое представление последовательно вытекает из всего, что было сказано ранее. Формулируя его, приходится, однако, сожалеть о почти полной еще теоретической неразработанности проблемы превращения вербализуемых «желаний» в установки, обладающие мощными сано- и патогенетическими потенциалами. Если генетической психологии удалось, прослеживая вопросы формирования психологических функций, выработать ряд важных специальных понятий, таких, например, как «интериоризация» этих функций (представление об организации психологической функции на основе уподобления ее структуры структуре предметного действия) и т.п., то проблема смены разных форм и степеней «готовности», вопрос о преобразовании более поверхностных из этих форм, носящих преимущественно вербальный характер, в более глубокие (т.е. также в каком-то смысле «интериоризированные»), затрагивающие основы личности и систему главных мотивов поведения, еще очень далеки от аналогичной степени разработанности.
Интересно, что и в данном случае можно заметить своеобразное опережение искусством с его интуитивными методами познания действительности выводов точной науки. В художественной литературе отрицательный образ человека, готовность которого к поступкам определенного типа носит только вербальный, «резонерский», «словесный» (хотя, может быть, одновременно и достаточно искренний субъективно) характер и который противопоставлен положительному герою, чья готовность, напротив, действенна, потому что она накрепко спаяна с основами его личности, с системой устойчивых и сильных влечений, дан, как известно, во многих ярких формах, ставших подчас классическими. Искусство учло, следовательно, и отразило в меру своих возможностей эту интереснейшую проблему иерархии степеней готовности к действию. Научная же психология в этом специфическом для нее вопросе резко отстала. И мы только сейчас начинаем понимать, насколько подобное отставание затруднило рассмотрение и очень важных клинических проблем, относящихся к этой области.
Для того чтобы закончить обсуждение вопроса о разных уровнях готовности к действию и об их влияниях на развертывание патофизиологических процессов, нам остается высказать лишь несколько резюмирующих соображений.
Согласно обрисованной выше схеме, «желание» выздоровления приобретает значение клинически действенного фактора только после того, как оно, преобразуясь в «подлинную установку», актуализирует характерные для последней непрерывные формы регулирования физиологических «мер защиты» организма. При всей неясности физиологических механизмов и психологических закономерностей этого процесса очевидно, что происходить он должен в тесной связи с активной работой сознания, которая подкрепляет поверхностное, «вербальное» переживание системой доминирующих мотивов, целей и коренных потребностей личности. Это обстоятельство подчеркивает ведущую роль сознания в формировании саногенных установок и позволяет заметить отчетливо выступающую здесь своеобразную диалектику отношений: терапевтическую недостаточность «желания», пока оно остается только «презентируемым», только вербализуемым, только осознаваемым переживанием, и одновременно решающую роль нервных процессов, лежащих в основе сознания, в функциональной активации неосознаваемых форм высшей нервной деятельности, без опоры на которые превращение «вербализуемых» переживаний в «подлинные установки» является, по-видимому, невозможным.
Предлагаемая схема, однако, не только утверждает эту диалектику осознанного и «бессознательного». Она апеллирует к формированию установок, крепко спаянных с личностью, подчеркивает значение связи поведения с системой фундаментальных, а не случайных и преходящих мотивов и приобретает благодаря этому определенный воспитывающий, этический оттенок.
И она является, конечно, подлинной антитезой психоаналитического мифа о «Бессознательном», как о психической сущности, роль которой в клинике способна быть только отрицательной, поскольку ограничение этой сущности нормами общественной морали может лишь препятствовать, с точки зрения теории психоанализа, достижению того, что Nietzsche называл «Великим здоровьем». Теория установки (и в этом ее основное значение для клиники) раскрывает идею «бессознательного» как фактора, который способен, напротив, столь же активно участвовать в сопротивлении болезни, как и в провокации последней, необычно расширяя тем самым представление о потенциальных возможностях сознательно направляемой нервной деятельности человека.
Вряд ли мы ошибемся, если скажем в заключение, что стремление понять эти возможности было одной из сокровенных потребностей человека на протяжении многих веков его культурного развития. Ибо только глубокая вера в их скрытое богатство смогла породить прекрасный афоризм одного из основателей атеистического направления древней индийской философии: «Спящий Бог? Да ведь это сам Человек».