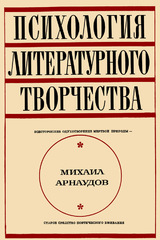По ту сторону принципа удовольствия, повторение
IV. Материалистическое определение феномена сознания
3
Что же происходит в этой перспективе с собственным Я? Я — это чистой воды объект. Ваше Я, которое вы воспринимаете якобы внутри поля ясного сознания в качестве единства этого последнего, как раз и представляет собой то самое, перед лицом чего непосредственность ощущения оказывается под угрозой. Единство это вовсе не однородно с тем, что происходит на поверхности вашего поля сознания, которое само по себе нейтрально. Именно сознание как физический феномен угрозу и порождает.
Вся диалектика, развернутая мною в качестве примера под именем стадии зеркала, основана на соотношении между, с одной стороны, определенным уровнем устремлений, которые опробываются (сейчас нам достаточно сказать: в определенный момент жизни) в виде разрозненном, бессвязном, несогласованном (от них всегда что-нибудь в нас остается), и, с другой стороны, тем единством, с которым уровень этот сливается и как бы спаривается. Это единство представляет собой то, в чем субъект впервые познает себя как единство, но единство отчужденное, виртуальное. Ему не свойственны черты инерции, присущие феномену сознания в его примитивной форме, оно, напротив, вступает с субъектом в отношения витального, или анти-витального, характера.
Похоже, что опыт такого рода является привилегией человека. Не исключено, конечно, что встречается нечто подобное и у других видов животных. Для нас это не слишком важно. Не будем создавать скороспелых гипотез. Мы знаем, что диалектика
эта налицо в опыте на всех уровнях построения человеческого Я, — с нас этого достаточно.
Чтобы лучше вам эту диалектику дать почувствовать, я хотел бы воспользоваться образом, еще не стершимися от употребления, поскольку я еще ни разу вам не предлагал его, — образом слепого и паралитика.
Субъективность на уровне Я можно сравнить с этой парочкой, столь настойчиво заявляющей о себе — и не случайно, конечно, — в изобразительном искусстве XVстолетия. Субъективную половину до опыта встречи с зеркалом можно уподобить паралитику, который без посторонней помощи способен лишь на движения некоординированные и беспомощные. Господство над ним получает образ Я, который слеп и который несет его. Вопреки ложной очевидности (и в этом-то вся проблема диалектики и состоит), господин не седлает раба, подобно всаднику, как полагал Платон, а как раз наоборот. И паралитик, с точки зрения которого вся эта перспектива выстраивается, не может идентифицировать себя в собственном единстве иначе, нежели через зачарованность, застывание в фундаментальной неподвижности, сообразуясь тем самым с устремленным на него взглядом, взглядом невидящим.
Другой образ — это образ змеи и птицы, зачарованной ее взглядом. В феномене построения Я зачарованность эта играет самую существенную роль. Лишь под этими чарами нескоординированное и несвязное многообразие первоначальной разрозненности получает свое единство. Рефлексия тоже представляет собой зачарованность, торможение. Эта функция зачарованности, даже ужаса — она дает о себе знать и под пером Фрейда, причем именно там, где он пишет о построении Я.
Третий образ. Если бы то, о чем идет речь в этой диалектике, могли воплотить машины, я предложил бы следующую модель.
Возьмем одну из тех маленьких лисичек или черепашек, что мы с некоторых пор так хорошо научились делать и которые служат ученым наших дней на потеху — автоматы играли очень важную роль всегда, а в наши дни роль их вновь возросла, — возьмем одну из этих маленьких машинок, которым мы научились теперь с помощью всякого рода промежуточных органов придавать способность к гомеостазу и некое подобие желаний.
Представим себе, что машина эта сконструирована таким образом, что остается незаконченной и блокированной, не складывается в завершенный механизм до тех пор, пока не воспримет — любым путем: скажем, с помощью фотоэлемента или реле — другой механизм, подобный ей абсолютно во всем, с тем единственным исключением, что он уже успел обрести единство в ходе чего-то, что можно назвать загодя приобретенным опытом (у машин тоже может быть свой опыт). Движение каждой машины обусловлено, таким образом, восприятием определенной стадии, достигнутой другой машиной. Это как раз и есть то, что соответствует элементу зачарованности.
Теперь вы видите, какая цепная зависимость может тем самым установиться. Поскольку единство первой машины зависит от единства другой, поскольку другая представляет ей модель и саму форму ее единства, то, к чему устремится первая, всегда будет определяться тем, к чему направляется вторая.
Результатом же будет ни больше ни меньше, как тупиковая ситуация, подобная той, что наблюдаем мы и в образовании человеческого объекта. Ведь это последнее всецело обусловлено той диалектикой ревности-симпатии, которая в традиционной психологии находит свое точное выражение в идее несовместимости сознаний. Дело не в том, что одно сознание не может представить себе другое, а в том, что Я, всецело определяемое формой единства другого Я, принципиально несовместимо с ним в плане желания. Воспринимаемый и желанный объект может получить либо он, либо Я, — это обязательно должен быть либо один, либо другой. И когда им обладает другой, происходит это потому, что принадлежит он мне.
Это определяющее для познания в чистом виде соперничество представляет собой, разумеется, этап виртуальный. Познания в чистом виде не бывает, ибо возникшая в желании объекта общность меня и другого кладет начало совершенно иному, а именно, признанию.
Признание, очевидно, предполагает третьего. Чтобы первая машина, фиксированная на образе второй, оказалась с ней согласована, чтобы в точке схождения их желания — ведь это, в конечном счете, одно и то же желание, ибо на этом уровне обе они представляют собой одно и то же существо, — не произошло поневоле их взаимного уничтожения, нужно, чтобы одна машинка могла информировать другую, могла сказать ей: "Я хочу вот этого!" Но это невозможно. Даже если мы допустим, что имеет место некое я, сообщение все равно немедленно преобразуется в форму: ты хочешь вот этого. Я хочу вот этого означает: ты, другой, представляющий собой мое единство, ты хочешь вот этого.
Можно подумать, что перед нами вновь фундаментальная форма всякого человеческого сообщения: каждый получает свое собственное сообщение от другого, в обращенной форме. Ничего подобного. То, что я вам тут рассказываю, — это миф чистой воды. Невозможно, чтобы первая машина сказала что бы то ни было, ибо она еще не имеет единства, она представляет собой непосредственное желание, она лишена слова, она никто. Она кто-то не в большей мере, чем, скажем, отражение горы в озере. Паралитик безгласен, ему нечего сказать. Чтобы какие-то отношения установились, нужно, чтобы был некто третий, который поместился бы внутри одной из машин — например, первой — и произнес бы пресловутое я (je). Но на уровне опыта это совершенно невозможно!
Этот третий и есть, однако, то самое, что мы обнаруживаем в бессознательном. Он, собственно, и есть в бессознательном — там, где и должен он находиться, чтобы весь этот балет маленьких механизмов мог быть разыгран, то есть над ними, в том совсем другом месте, где поддерживаются, по словам выступавшего здесь Леви-Стросса, системы обменов, элементарные структуры. Чтобы мог осуществиться обмен, нечто такое, что было бы признанием, а не познанием, необходимо, чтобы в действие системы, обусловленной образом собственного Я, вмешалась система символическая.
Вы видите, таким образом, что собственное Я ничем, кроме функции воображаемой, быть не может, хотя построение субъекта на каком-то уровне оно действительно определяет. Оно не менее двусмысленно, чем может оказаться и сам объект, не только этапом, но и верным коррелятом которого оно является.
Субъект полагает себя как действующий, как человеческий, как я, лишь начиная с того момента, как появляется символическая система. И момент этот принципиально невыводим из любой модели индивидуальной структурной самоорганизации. Другими словами, для появления на свет человеческого субъекта необходимо, чтобы машиной выдаваемых в информационных сообщениях, она учитывала, в качестве единицы среди других, и саму себя. А вот этого-то она как раз сделать и не может. Чтобы принять в расчет саму себя, она должна перестать быть той машиной, что она есть, ибо добиться можно всего, но чтобы машина учитывала в качестве элемента в своих расчетах саму себя — этого добиться нельзя.
В следующий раз я представлю вам вещи под углом зрения не столь абстрактным. Я не является всего лишь функцией. С того момента, как символический мир входит в свои права, оно может послужить символом и само, и именно с этим мы как раз и сталкиваемся.
Поскольку из Я хотят сделать субъекта, поскольку ему стремятся приписать в качестве функции и в качестве символа единство, мы постарались лишить его сегодня того символического, гипнотизирующего нас достоинства, благодаря которому единство это кажется столь убедительным. В следующий раз мы восстановим его в этом достоинстве вновь, и вы сами увидите, насколько непосредственное отношение имеет все это к аналитической практике.
8 декабря 1954 года.