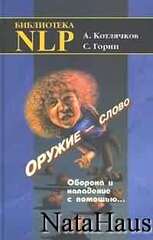По ту сторону принципа удовольствия, повторение
VI. Фрейд, Гегель и машина
2
Я начну, коли уж мы об этом заговорили, с того, что Вы вчера вечером высказали нам по поводу Феноменологии духа. Если принять Вашу точку зрения, то очевидно, что речь идет о прогрессе знания. Гегелевское Bewusstsienгораздо ближе к знанию, чем к сознанию. Но несмотря на все это, не будь вчерашнее собрание столь поспешным, один из вопросов которые я задал бы, заключался бы в следующем: какова у Гегеля функция не-знания? В следующем семестре нам следовало попросить вас посвятить этому вопросу специальную лекцию. Не одну статью написал Фрейд о том, что же конкретно можем мы ожидать от освоения того психологического Zuiderzee, что зовется бессознательным. Когда польдеры "оно" будут осушены, какой выгодой обернется это для человечества? И надо сказать, что перспектива эта отнюдь не приводила его в восторг. Ему казалось, что это грозит прорывом каких-то плотин. Все это у Фрейда написано, и говоря об этом, я просто лишний раз напоминаю вам, что мы остаемся лишь его комментаторами. Какая реализация, какой конец ждет историю в гегелевской перспективе? Я полагаю, что в конечном счете прогресс, о котором идет речь в Феноменологии духа, — это вы все, именно для этого вы и здесь. Говоря для этого, я имею в виду то, что вы делаете, даже когда вовсе об этом не думаете. Все те же нити, приводящие в движение марионетки. Одобрит ли г-н Ипполит, если я определю прогресс, о котором говорит Феноменология духа, как все более изощренное господство?
Ипполит: — Это зависит от того, какой смысл вы в это слово вкладываете.
Лакан: — Разумеется. Я попытаюсь это проиллюстрировать, не сглаживая при этом острых углов. Я не хочу сделать свой термин обтекаемым — наоборот, мне хотелось бы показать, что в каком-то отношении он может встать поперек горла.
Ипполит: — Не принимайте меня за противника. Я не гегельянец. Может быть, даже совсем наоборот. Не принимайте меня за полномочного представителя Гегеля.
Лакан: — Это нам облегчит дело. Просто, зная, что Вы разбираетесь в Гегеле лучше меня, я попрошу сказать мне, не захожу ли я слишком далеко, то есть: нет ли у Гегеля каких-то важных текстов, которые могли бы противоречить мне.
Как я уже не раз говорил, мне не очень нравится, когда кто-нибудь утверждает, будто Гегеля или, скажем, Декарта, уже превзошли. Да, мы всё превосходим и остаемся ровно на том же месте. Итак, господство все более и более изощренное. Давайте это проиллюстрируем.
Конец истории — это абсолютное знание. Из него уже нет исхода: если сознание — это знание, то окончательный итог диалектики сознания — это абсолютное знание, зафиксированное в письменной форме Гегелем.
Ипполит: — Да, но Гегеля можно толковать по-разному. Можно, например, задать себе такой вопрос: имеется ли в ходе опыта какой-то один определенный момент, к которому абсолютное знание позволено отнести, или же абсолютное знание предъявляется всем опытом в его целокупности? Другими словами: пребываем ли мы в абсолютном знании всегда, во всякое время? Или же абсолютное знание есть лишь момент? Говорится ли в Феноменологии о последовательности этапов, абсолютному знанию предшествовавших, а затем о финальном этапе, на котором является Наполеон или кто-то еще и который как раз абсолютным знанием и называется? Что-то в этом роде у Гегеля есть, но его можно понять и совершенно иначе. Хайдеггер, например, толкует его тенденциозно, но, к счастью, вполне правдоподобно. Именно поэтому и нельзя сказать, будто Гегеля превзошли. Можно ведь понять так, что абсолютное знание является каждому этапу Феноменологии как бы имманентным. Вот только сознание его не ухватывает. Из истины этой, которая и является, в принципе, абсолютным знанием, оно делает очередное природное явление, которое абсолютным знанием не является. Поэтому абсолютное знание не является, в такой интерпретации, моментом истории,
оно всегда налицо. Абсолютное знание есть опыт как таковой, а не отдельный момент его. Сознание, находясь внутри поля, самого поля не видит. Видеть поле — это и есть абсолютное
знание.
Лакан: — У Гегеля, однако, абсолютное знание получает своевоплощение в дискурсе.
Ипполит: — Несомненно.
Лакан: — Мне кажется, что для Гегеля все всегда дано прямо здесь — в каждый момент актуально, по вертикали, присутствует вся история. А иначе то была бы не история, а детская басня. Понятие об абсолютном знании, почившем на нас со времен простецов-неандертальцев, подразумевает, что дискурс замыкается на себя, что он целиком с собой согласуется, что все, что в дискурсе может быть выражено, является связанным и обоснованным.
На этом мне хотелось бы немного остановиться. Мы продвигаемся медленно, но спешка здесь неуместна. Надеюсь, мы найдем здесь, что ищем, — смысл, оригинальность того, что привнес Фрейд по отношению к Гегелю.
В гегелевской перспективе завершенный дискурс — ясно, что с момента, когда дискурс пришел к завершению, говорить больше незачем, что как раз и называют послереволюционными этапами, но они нас сейчас не интересуют, — так вот, завершенный дискурс, воплощение абсолютного знания — это орудие власти, скипетр и держава тех, кто знает. Ниоткуда не следует, будто к этому причастны все. Когда знающим, о которых я вчера вечером говорил, — а это больше, чем миф, это направление и смысл завоеваний символа, — удается человеческий дискурс замкнуть, он становится их достоянием, а остальным, обделенным — этим славным, милым, либидинозным созданиям — остаются лишь танцы, джаз и прочие развлечения. Именно это и называю я изощренным господством.
В абсолютном знании остается, однако, еще одно, последнее разделение, последняя трещина, носящая у человека характер, если можно так выразиться, онтологический. Ведь если Гегель и преодолел определенного рода религиозный индивидуализм, обосновывающий существование индивида его личной, один на
один, встречей с Богом, то сделал он это, лишь показав, что реальность, если можно так выразиться, каждого человеческого существа заключена в бытии другого. В конечном счете, между ними, как Вы вчера вечером это отлично нам объяснили, налицо взаимное отчуждение, носящее — на чем я настаиваю — характер непреодолимый, безвыходный. Можно ли представить себе что-нибудь более тупое и зверское, чем господин в его первобытных формах? Но подлинный господин именно таков. Уж мы-то прожили на свете достаточно, чтобы знать, что из этого выходит, когда люди начинают стремиться к господству. Во время войны мы воочию стали свидетелями политической ошибки тех, чья идеология требовала от них видеть в себе господ и верить, что достаточно протянуть руку, чтобы взять. Немцы движутся к Тулону, чтобы захватить флот, — вот типичная для господ история. Господство же оказывается на стороне раба, оно в мастерстве, которое тот изощряет, чтобы направить его против своего господина. И длиться этому взаимному отчуждению суждено до конца. Посудите сами, какое дело до изощренного дискурса тем, кто развлекается джазом в кафе на углу? Только представьте себе, как хотелось бы господам от всей души к ним присоединиться! Они же, напротив, считают себя несчастными, ничтожествами и думают: как счастлив господин, наслаждаясь своим господством! — в то время как тот, разумеется, вполне отчаялся хоть в чем-то достичь удовлетворения. Именно сюда, мне кажется, к этой последней черте и приводит нас Гегель.
Гегель достиг пределов антропологии. Фрейд за эти пределы вышел. Открытие его состоит в том, что всего человека в человеке не найти. Фрейд не гуманист. И я вам попробую сейчас объяснить, почему.