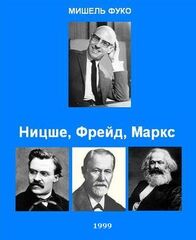Глава тринадцатая
Теоретические аспекты этостетики
О предшественниках этоэстетики
Горацио: Вы замечаете, как он выдохся? Все золотые слова истрачены.
Понятие «этоэстетка» происходит от греческих слов ethos (нрав) и aisthetikos (чувствующий), вместе с тем, ее не следует смешивать с традиционными моделями этики и эстетики, хотя она и может рассматриваться их преемницей. Этоэстетика, в первую очередь, наука практическая, наука, способная дать основу как для развития человека, его личности, так и для его творчества. Этика и эстетика накапливают данные о человеческой деятельности в указанных сферах и пытаются его каким-то образом организовывать. Этоэстетику интересует иное — не то, что «произведено» человеком в сфере этического и эстетического, а то, как работает это «производство», сама его природа. Еще точнее — ее интересует не продукт психической деятельности, а способ существования сущности человека, то, как она проявляет себя в отношениях с другими (этическая сфера) и с миром (эстетическая сфера).
При том что «этика» и «мораль» часто и вполне оправданно используются как синонимы, есть в них некое едва различимое отличие, которое бы следовало принять во внимание. «Этика» — понятие древнегреческого происхождения (ethika от ethos), а понятие «морали» имеет латинские корни (moralitas от moralis или mores), при этом лингвисты считают их, по преимуществу, идентичными, причем они ссылаются на их этимологическое соответствие. Однако, философы далеко не столь единодушны в определении семантических полей этих понятий. Основной нюанс, на который обращают внимание, состоит в следующем: «этика» в большей степени отражает «внутреннее», собственно переживания человека, а «мораль», напротив, акцентируется как нечто «внешнее», как некий фиксированный субстрат межличностных отношений, как их «законодательная база». В чем-то это различие отражает то внутреннее, сущностное расхождение, которое было в мировоззрении древних греков («этиков») и древних римлян («моралистов»).
Философский спор о происхождении этики не прекращается. Надо сказать, что, несмотря на его продолжительность и даже страстность, оригинальных идей в нем немного. Основных направлений, в которых развиваются эти философские идеи, два: одни полагают, что этика суть божественного происхождения, другие же отдают ее на откуп обществу, то ли полагая, что это природное свойство его индивидов, то ли закон, развившийся на базе общественных же отношений, как необходимый и защитный механизм. Но, например, Бенедикт Спиноза предлагает синтез того и другого, нравственное, согласно ему, в одно и то же время и божественное, и человеческое. Именно Б. Спиноза свел воедино свободу и необходимость, чем, желая того или нет, утвердил на многие лета права общественной морали над индивидуальными чувствами, впрочем, «внешняя» мораль не сильно его занимала, так что он оставил в стороне этический вопрос отношений индивида и группы.
Для Иммануила Канта этот вопрос, напротив, был очень важен, что и привело к формулировке знаменитого «категорического императива», который, как известно, гласит: «Поступай так, чтобы побуждение твоей воли могло послужить принципом всемирного законодательства». Это утверждение кажется правомочным, но является труднодоказуемым, и, в конечном итоге, философ остановился на идее о божественном происхождении рассматриваемого феномена. В работе «Философская теория веры» он заключил, что «непостижимость нравственной способности, указывает на ее божественное происхождение». Интересно отметить, П.А. Кропоткин считал, что, несмотря на стойкую приверженность автора своему «категорическому императиву», «лучшие страницы Канта именно те, где он доказывает, что ни в каком случае соображения о полезности не должны считаться основой нравственности»91, в чем и находил противоречие.
Основателем второй группы — последователей идеи небожественного происхождения этики — следовало бы, наверное, считать Чарльза Дарвина, хотя он, разумеется, и не был здесь первым. Принято считать, что этика Дарвина — это этика «естественного отбора», мол, выживает сильнейший. Но не следует забывать, что Ч. Дарвин все-таки, кроме прочего, был священником. Да, он усмотрел в отношениях животных «общественные чувства», которые, согласно его взглядам, произрастают из способности их ощущать «сочувствие» (где сочувствие или симпатию следует понимать как чувство товарищества, чувство взаимности чувствований — способность заражаться мыслями другого). Именно этим «общественным чувствам» у «общественных животных» он и отводил роль основного эволюционного фактора, приведшего к развитию человека. Ч. Дарвин полагал, что в человеке чувство социальной симпатии преобладают над личным эгоизмом.
Впоследствии Конрад Лоренц предположил, что дело не в «общественном чувстве» как таковом, а в феномене «воодушевления»: «Ребенок падает в воду, мужчина прыгает за ним, вытаскивает его, исследует норму своего поступка и находит, что она — будучи возвышена до естественного закона — звучала бы примерно так: “Когда взрослый самец Homo sapiens видит, что жизни детеныша его вида угрожает опасность, от которой он может его спасти, – он это делает”. Находится такая абстракция в каком-либо противоречии с разумом? Конечно же, нет! Спаситель может похлопать себя по плечу и гордиться тем, как разумно и морально он себя вел. Если бы он на самом деле занялся этими рассуждениями, ребенок давно бы уже утонул, прежде чем он прыгнул бы в воду. Однако человек — по крайней мере, принадлежащий нашей западной культуре — крайне неохотно узнает, что действовал он чисто инстинктивно, что каждый павиан в аналогичной ситуации сделал бы то же самое.
Древняя китайская мудрость, – продолжает К. Лоренц, – гласит, что не все люди есть в зверях, но все звери есть в людях. Однако из этого вовсе не следует, что этот “зверь в человеке” с самого начала являет собой нечто злое и опасное, по возможности подлежащее искоренению. Существует одна человеческая реакция, в которой лучше всего проявляется, насколько необходимо может быть безусловно “животное” поведение, унаследованное от антропоидных предков, причем именно для поступков, которые не только считаются сугубо человеческими и высокоморальными, но и на самом деле являются таковыми. Эта реакция — так называемое воодушевление. Уже само название, которое создал для нее немецкий язык, подчеркивает, что человеком овладевает нечто очень высокое, сугубо человеческое, а именно — дух. Греческое слово “энтузиазм” означает даже, что человеком владеет бог. Однако в действительности воодушевленным человеком овладевает наш давнишний друг и недавний враг — внутривидовая агрессия в форме древней и едва ли сколько-нибудь сублимированной реакции социальной защиты»92.
В конечном итоге, К. Лоренц приходит к выводу, что человек суть «Двуликий Янус» и «единственное существо», способное «увивать своих собратьев в убеждении, будто так надо для достижения тех самых высших целей. Се — человек!»93. И этот вывод не кажется утешительным, напротив, если согласиться с ним, то моральные качества и нравственность человека не могут тягаться с аналогичным «образованием» животных.
Так или иначе, но этические идеи Дарвина, так и не получили достаточного отзвука и продолжения, если не считать ошибочных интерпретаций его эволюционной теории и вытекающих из нее следствий. По этому поводу П.А. Кропоткин указывает: «В одном из своих писем, не помню к кому, Дарвин писал: “На это не обращают внимания, должно быть, потому, что я слишком кратко писал об этом”. Так случилось именно с тем, что он высказал об этике… В наш век капитализма и меркантилизма “борьба за существование” так отвечала требованиям большинства, что затмила все остальное»94. Эту ошибку совершил даже Томас Гексли — ученик и соратник Ч. Дарвина, популяризатор его теории. Противоречивость «естествоиспытательской» этики была определена им на многие годы вперед: или этика — это закон природы, вытекающий из привычки, инстинкта, взаимопомощи (а уже не сочувствия, как полагал Ч. Дарвин), или же нравственные понятия суть внушенные свыше божественные императивы.
Экзистенциализм и феноменология, от которых, мы, в целом, могли бы ожидать некого прояснения этической проблемы, к сожалению, так же не выработали ясной позиции, касаемо природы нравственного чувства. Из значительных работ в этом плане следует отметить почти что «боговдохновленный» текст «Страха и трепета» Сёрена Кьеркегора — этого предшественника экзистенциализма. Здесь автор жестко противопоставляет «героя веры» (Авраама) «трагическому герою» (Агамемнону), оба из них вынуждены принести в жертву своих детей, но Кьеркегор однозначно встает на сторону первого, демонстрируя таким образом, что вся этика — хоть с большой, хоть с малой буквы — целиком и полностью принадлежит Богу, от Него исходит и к Нему возвращается. А вот, например, у К. Ясперса мы уже не находим такой определенности позиции, и хотя он восклицает: «Каждый знает — кто завоюет молодежь, обладает будущим!»95, сам он никаких серьезных попыток завоевать эту молодежь, опираясь на этическое знание, не предпринимает, а лишь ограничивается достаточно общими рассуждениями о духе, ответственности перед временем и тому подобных вещах.
Может быть, самое серьезное решение проблемы этического мы находим в работах Мартина Хайдеггера (который, однако же, не является ни чистым экзистенциалистом, ни феноменологом), он говорит о «заботе» как о первоначале человеческого существа. Впрочем, сложность конструкции не позволяет взять философию М. Хайдеггера на вооружение. Вместе с тем, в «Бытии и времени» он приводит старинную басню о сотворении человека, которая вполне проясняет его позицию в этом отношении. Между Землей, Юпитером и Заботой разгорелся спор о том, как называть существо, которое Забота вылепила из Земли и одухотворила Юпитером. Сатурн, призванный в качестве третейского судьи, принял такое решение: после смерти дух существа вернется Юпитеру, тело — Земле, а при жизни владеть этим существом будет Забота. Поскольку же спор шел относительно имени, то Сатурн посчитал, что существо надо назвать Homo, поскольку он сотворен из Земли. Иными словами, забота — есть основание человеческого существа, и это очень близко позиции, которую занимает этоэстетика.
Эстетика, в свою очередь, оказалась не в менее сложном положении. Этика, не найдя внутреннего основания в человеке, формализовалась и перешла в систему абстрактных идей, образовав что-то вроде «морали ради самой морали». Но этой же судьбы не избежала и эстетика, пройдя путь от живого ощущения к формальной оценке. Эстетика ныне формальна. Любые наши суждения о прекрасном, восприятие прекрасного — есть лишь точка, локализованная на оси координат, где с одной стороны абсолютный минус, с другой — абсолютный плюс, а посередине ноль. И это железное правило является смертным приговором для формальной красоты. Психологический механизм оценки состоит в том, что, решая для себя — «это хорошо», мы, на самом деле, думаем в этом момент о плохом. Как пишет Макс Люшер: «Каждое абсолютное притязание (“Меня следует считать симпатичной”) вызывает страх (“Я ни в коем случае не хочу, чтобы меня считали несимпатичной”)…Каждый “+” порождает “-”, и наоборот: чем сильнее страх, тем неотложнее и безмернее стремление к исполнению притязания» 96.
Таким образом, суждение о прекрасном подразумевает ощущение безобразного, хороший вкус возможен только в противопоставлении с безвкусицей. В общем, как бы мы ни пытались попасть в сферу прекрасного, мы, будучи в границах формальной эстетики, неизбежно «замараемся» в безобразном. И это, хотим мы того или нет, низводит к нулю все наше ощущение красоты и даже само стремление к красоте. Да, внешне, казалось бы, мы воспринимаем прекрасное, но сама логика этого прекрасного такова, что ощущать ее мы можем, только актуализируя в памяти «эталон сравнения» — то есть безобразное. Формализм в прекрасном — есть фактическое отречение от красоты. Истинное переживание красоты утеряно человеком.
Вот как Фридрих Ницше определяет эту проблему: «“Мораль ради морали” — важная ступень в денатурализации последней: мораль сама является в роли верховной ценности. В этой фазе она пропитывает собой религию: например, в иудействе. Но есть и такая форма, где она снова отмежевывается от религии, где ее никакой Бог не достаточно “морален”: поэтому она предпочитает безличный идеал… Это имеет место в настоящее время. “Искусство ради искусства” столько же опасный принцип: этим вносится мнимая противоположность вещи — в результате оклеветания реальности (“идеализация в сторону безобразного”). Отрывая известный идеал от действительности, мы тем самым уничтожаем действительность, делая ее беднее содержанием, клевещем на нее. “Прекрасное” ради “прекрасного”, “истинное ради истинного”, “добро ради добра” — это ли формы враждебного отношения к действительности»97.
Все закрытые системы, рано или поздно, лопаются подобно мыльным пузырям. Этика и эстетика закрыто-системны, они определяют собственные границы и обустраиваются в них, они отсекают себя от живого человека и пытаются расположиться над ним. Но человек открыто-системен, он не знает, что такое «граница», его граница заканчивается там, где заканчивается возможность его восприятия, то есть — для него — мир заканчивается на той линии, где кончается все, что есть. Как такое существо может удовлетвориться закрыто-системной моделью этического и эстетического знания? Разумеется, здесь никогда не будет удовлетворительного решения. В результате, работает только частный подход с неизбежными для него постоянными противоречиями и конфликтами ситуаций.
В середине XVIII века Дижонская академия объявила конкурс, в котором желающим конкурсантам предстояло ответить на вопрос — «Способствовало ли возрождение науки и искусств улучшению нравов?» Ответ Жан Жака Руссо был категорично отрицательным, его работа утверждала, что науки и искусства порождают честолюбие и препятствуют естественному поведению людей. Следовало бы еще спросить, а способствует ли развитие общественной этики улучшению этих самых нравов? Вероятно, ответ и в данном случае не прозвучит оптимистично. Этика и эстетика действительно сошлись вместе — «поступай красиво», «слушай хорошую музыку». Но это смешение произошло на уровне знаков, абстрактных смыслов, не затронув сущности самого человека.
Элементарные вопросы, лежащие в основе наук о «нравственном чувстве» и «чувстве прекрасного», до сих пор остаются без ответа. Кто является носителем «высшей морали»? Есть ли она вообще? А если нет, то можно ли считать «частную мораль», вне «основного закона», хоть сколько-либо оправданной? Где и каким образом определен эталон «абсолютной справедливости»? Каким образом «священный долг» отличается от простых обязанностей? Где, если не в конкретном человеке, локализуется мораль? В обществе или традиции? И не оказываемся ли мы тут заложниками некой иллюзии, поскольку ни то, ни другое нельзя, так сказать, пощупать? При этом, мы понимаем, что не существует высказывания без говорящего, но кто говорит в данном случае? У общества нет голоса, это блеф. И как, в таком случае, на каком таком последнем основании можно судить о том, что «справедливо», а что «несправедливо», «красиво» и «некрасиво»? Пока эти вопросы лишь повисают в воздухе.