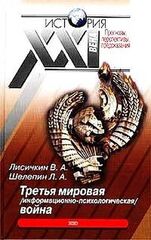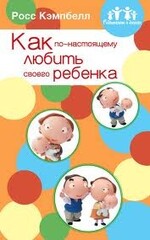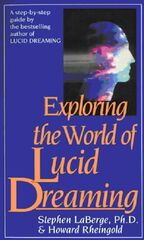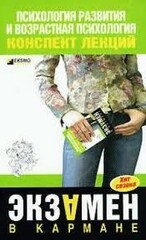ГЛАВА III АФФЕКТЫ И ВЖИВАНИЕ
3. РУССКИЕ РЕАЛИСТЫ: ПУШКИН, ГОГОЛЬ, ТОЛСТОЙ, ТУРГЕНЕВ И ГОНЧАРОВ
Первый великий представитель русского романа, родоначальник направления 50—60-х гг. XIX в., Гоголь оставил нам чрезвычайно любопытные страницы о своём методе творчества. Они ясно раскрывают нам, на чём зиждется правда в его бытовых картинах и как он умеет изобразить перед нами лица, которые действуют и говорят как вполне достоверные характеры. В своей статье «В чём состоит сущность русской поэзии и в чём её особенность» (1846) он указывает на Пушкина как на типичного представителя русского реализма, потому что именно у него было развито в наивысшей степени «национальное свойство» живо откликаться на каждый предмет в природе, обладать особой «чуткостью» ко временам, местам, народам, сближаться и сливаться с действительностью. «Что же было предметом его поэзии?», — спрашивает себя Гоголь об авторе «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и «Капитанской дочки», в которых мы имеем неподражаемо безыскусственное изображение русской жизни. И он отвечает как будто по примеру Гёте о Шекспире:
«Всё стало её предметом и ничто в особенности. Немеет мысль перед бесчисленностью его предметов. Чем он не поразился и перед чем он не остановился? От заоблачного Кавказа и картинного черкеса до бедной северной деревушки с балалайкою и трепаком у кабака — везде, всюду: на модном бале, в избе, в степи, в дорожной кибитке — всё становится его предметом. На всё, что ни есть во внутреннем человеке, начиная от его высокой и великой черты до малейшего вздоха его слабости и ничтожной приметы, его смутившей, он откликнулся так же, как откликнулся на всё, что ни есть в природе видимой и внешней. Всё становится у него отдельной картиной; всё предмет его; изо всего, как ничтожного, так и великого, он исторгает одну электрическую искру того поэтического огня, который присутствует во всяком творении Бога… Одному Пушкину определено было показать, в себе это… звонкое эхо, откликающееся на всякий отдельный звук, порождаемый в воздухе».
Пушкин поясняет для Гоголя скрытую или явную миссию поэта, которая состоит в том, «чтобы из нас же взять нас и нас же возвратить нам в очищенном и лучшем виде». Какая тонкость и глубина его наблюдения! Как рано и как полно развивается у него «эта чуткость на всё откликаться» — всё равно, читает ли он поэзию разных веков и народов (Байрона, Гёте, Данте), или смотрит на мир вокруг себя. «И как верен его отклик, как чутко его ухо!» На Кавказе, среди русской старины, среди русских современников или в русской избе он преображается, перевоплощается, понимает изнутри: «все черты нашей природы в нём отозвались, и всё окинуто одним словом, одним чутко найденным и метко прибранным прилагательным именем» 203.
203 Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 384.
Эту восторженную, но и верную характеристику можно отнести в её последнем пункте и к самому Гоголю с его поэтическим натурализмом. Он думает, что обладает «драгоценным даром слышать душу человека» 204, которым руководствуется и в своих разговорах с людьми; а его друзья находили, что он обладает «умением замечать те особенности, которые ускользают от внимания других людей, как крупные, так и мелкие и смешные. Говорили также, что он умеет не то что передразнить, а угадать человека, то есть угадать, что он должен в таких и таких случаях сказать с удержанием самого склада и образа его мыслей и речей» 205. Это искусство Гоголь разделяет со многими писателями, например с Гёте, который тоже замечает: «Беседуя с кем-нибудь четверть часа, я могу заставить его говорить два часа». Как? Естественно, улавливая путём сосредоточенного внимания личную ноту языка и проникая во внутренние пружины мыслей. Если наблюдение верно, то возможна и такая передача характера в разговоре, которая вызывает иллюзию точного копирования. Допустимо, что даже целые произведения возникли так, если верить Гёте, потому что эпистолярная форма страданий молодого Вертера отвечала тем воображаемым разговорам, которые он вёл с близкими и не близкими людьми, вызывая их мысленно в своём уединении, задавая им вопросы и слушая их206. И Пушкин признаёт, что был способен на подобные беседы с отсутствующими лицами. Он рассказывает князю Вяземскому, что если ему понравится женщина, то, уходя или уезжая от неё, он долго продолжает быть мысленно с нею и в воображении увозит её с собой, сажает её в экипаж, предупреждает, что в таком-то месте будет толчок, одевает ей плечи, целует ей руки и прочее207. «Беседа» является плодом продолженного, предполагаемого наблюдения, она покоится на полных жизни впечатлениях от лиц, виденных и слышанных, она является своего рода экспериментом благодаря возможностям характеров, вероятным, допустимым словам и мыслям, и отсюда всё правдоподобно в таком странном разговоре.
204 Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. XIII, стр. 169.
205 Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 439.
206 См.: Гёте, Собр. соч., т. X, М., 1937, стр. 130—131, 136—137.
207 Н. Сумцов, А. С. Пушкин. Исследования, Харьков, 1900, стр. 79—80.
Две черты характеризуют талант Гоголя. Одна — это та «страсть узнать всё», то «желание познать человека», которое заставляет его искать людей всех сословий и подмечать что-нибудь у каждого. О своих первых повестях в письме к Жуковскому он замечает: «Страсть наблюдать за человеком, питаемая мною ещё сызмала, придала им некоторую естественность; их даже стали называть верными снимками с натуры»208. Он постоянно стремится к впечатлениям и, боясь измены памяти, ведёт обстоятельные записи. Он решительно отрицает, что создавал когда бы то ни было что-то «из воображения»; у него выходило хорошо только то, что было взято из действительности, из хорошо известных фактов. Не «воображение», а «соображение» признаёт Гоголь движущей силой своего творчества. «Чем больше вещей принимал я в соображенье, тем у меня выходило верней созданье… Воображенье моё до сих пор не подарило меня ни одним замечательным характером и не создало ни одной такой вещи, которую где-нибудь не пометил мой взгляд в натуре»209. В данном случае Гоголь ограничивает воображение только такими комбинациями, которые далеко отступают от реального; всякий образ, который вблизи напоминает пережитое, он выводит просто из «соображения». Но коренного различия здесь нет, и незаметный переход от одного способа художественного мышления к другому — вещь самая обыкновенная.
208 Н. В. Гоголь, Собр. соч., т. VI, М., ГИХЛ, 1950, стр. 306.
209 Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, 1952, стр. 447.
В зависимости от своего метода работы, основанного главным образом на «соображении», Гоголь имеет необыкновенно простую теорию о тайне всякого поэтического мастерства. По свидетельству П. В. Анненкова, в начале 30-х годов он уверял своих друзей, что для успеха одной повести или одного рассказа достаточно, если автор опишет какую-нибудь хорошо знакомую ему комнату или улицу. «У кого есть способность передать живописно свою квартиру тот может быть и весьма замечательным автором впоследствии»210. И хотя эта теория забывает многие другие существенные качества писателя, она имеет большое значение для самого Гоголя, что отличает его от умничающих, которые якобы всегда располагают «готовыми выводами и заключениями», а не фактами и заставляет его искать и внимательно слушать сведущих лиц, основательно знающих жизнь, даже коннозаводчиков, например, или созерцать природу, вещи, людей в их действительной поэзии. Даже своим языком, столь колоритным и столь характерным для изображаемой среды, он во многом обязан тому сближению с жизнью, той чуткости к индивидуальным и народным оттенкам в говоре, которые ведут своё начало от Пушкина. Именно Пушкин настаивает на глубоком исследовании языка простого народа и рекомендует своим молодым собратьям: «Не худо нам иногда прислушиваться к московским просвирням: они говорят удивительно чистым и правильным языком. А не на флорентийских ли рынках Альфиери изучал живой чистый итальянский язык?»211.
210 П. В. Анненков, Литературные воспоминания, Спб., 1877, стр. 189.
211 А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. XI, Изд-во АН СССР, 1949, стр. 149.
Вторую черту таланта Гоголя образует вживание в характеры. Оно возможно, если обратить взгляд прежде всего к самому себе, к собственной душе212. Оно возможно также при наличии богатого материала, предварительно усвоенного, при пробуждённых к жизни (из «мглы» воспоминаний) живых образах, говорящих о том, что напоминает о внутреннем, служа его прямым показателем. «Угадать человека я мог только тогда, когда мне представлялись мельчайшие подробности его внешности». Если автор это сделал, вспомнил всё необходимое, то он, подобно читателю при чтении увлекательной книги, сливается со своим героем и незаметно получает от него внушение. «Это полное воплощенье в плоть, это полное округление характера совершалось у меня только тогда, когда я заберу в уме своём весь этот прозаический существенный дрязг жизни, когда, содержа в голове все крупные черты характера, соберу в то же время вокруг его всё тряпье до малейшей булавки, которое кружится ежедневно вокруг человека, словом — когда соображу всё от мала до велика, ничего не пропустивши»213. Значит, и у Гоголя мы сталкиваемся с теми же психологическими предпосылками правдивого изображения чужих духовных состояний, которые можно уловить и в приведённых уже признаниях западных писателей. О нём, как и обо всех наблюдателях, обладающих такой способностью вживаться в скрытые внутренние состояния и воспроизводить их верно, можно было бы сказать то, что Достоевский пишет о своём старце Зосиме:
212 Н. В. Гоголь, Собр. соч., т. VI, стр. 306.
213 Н. В. Гоголь, Полн. собр. соч., т. VIII, стр. 453.
«Про старца Зосима говорили многие, что он, допуская к себе столь многие годы всех приходивших к нему исповедывать сердце своё и жаждавших от него совета и врачебного слова, — до того много принял в душу свою откровений, сокрушений, сознаний, что под конец приобрёл прозорливость уже столь тонкую, что с первого взгляда на лицо незнакомого, приходившего к нему, мог угадывать: с чем тот пришёл, чего тому нужно, и даже какого рода мучение терзает его совесть и удивлял, смущал и почти пугал иногда пришедшего таким знанием тайны его, прежде чем тот молвил слово»214.
214 Ф. М. Достоевский, Собр. соч., т. IX, стр. 40.
Подобно Гоголю, необходимость непосредственно схваченных жизненных характеров чувствуют и другие русские реалисты, такие, например, как Тургенев, Толстой и Гончаров. Толстой в «Войне и мире» изображает Оболенских и Щербатовых под сходными семейными именами Облонских и Щербацких; в романе и многие остальные типы соответствуют живым, знакомым лицам. Определённую модель имеет он и для Анны Карениной в одноимённом романе, а также и для Нехлюдова в «Воскресении». Главные образы в «Детстве» взяты из двух семейств: Толстых и Исленовых. Но и Толстой так же, как и все другие реалисты, не копирует рабски весь нравственный облик, а берёт его только как отправную точку поэтической биографии215. То же самое надо сказать и о Тургеневе. Не подлежит сомнению, что его герои созданы на основе действительных личностей из русской жизни и таких, которых он лично знал, а также и таких, о которых другие доставляли ему обильный материал. Бакунин, например, каким он был до 1842 г., служил моделью для Рудина; доктор Дмитриев — прообразом Базарова; главные черты Варвары Павловны Лаврецкой взяты у А. Я. Головачевой-Пановой; образ Ирины Ратмировой — с Альбединской; но прообразы Инсарова (болгарина Катранова) и Клары Милич (артистки Карминой) он изучает по источникам из вторых рук216. Имеются свидетельства, что Тургенев будто бы определял точное число действительных образов, необходимых ему для поэтических характеров: в течение года он должен был завязать пятьдесят знакомств для изучения новых типов и новых черт. Но достоверным является его собственное признание: «Я… никогда не покушался «создавать образ», если не имел исходной точкой не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикладывались подходящие элементы. Не обладая большой долей свободной изобретательности, я всегда нуждался в данной почве, на которой я бы мог твёрдо ступать ногами»217. И он считает возможным с художественной точки зрения свести — совсем в духе Мольера, как мы видели выше, — сатиру нравов и характеров к типичному рисунку лиц данной среды, хорошо знакомых, так как «художественное воспроизведение, если оно удалось, злее самой злой сатиры»218.
215 См.: А. Цейтлин, Работа писателя над образом, Литературное творчество, № 1, 1946, Изд-во «Советский писатель», стр. 20 и далее.
216 См.: Н. М. Гутьяр, И. С. Тургенев, Юрьев, 1907, стр. 370.
217 Цит. по: И. Иванов, И. С. Тургенев. Жизнь, личность, творчество, Спб., 1896, стр. 244.
218 Там же стр. 348.
Некоторые более строгие критики Тургенева были склонны делать выводы из долгого его пребывания на чужбине и думать, что он иногда рисовал образы, руководствуясь предвзятой мыслью, не имея в душе оригиналов из русской действительности. Романист Гончаров так, например, формулирует свой взгляд в письме от 1870 г., хваля «Записки охотника» как изображение пережитой действительности, но скептически оценивая повести, в которых автор «уже не творит а выдумывает»: «Этот рассказ я отношу к «Запискам охотника», в которых Тургенев — истинный художник, творец, потому что он знает эту жизнь, видал её сам, жил ею и пишет с натуры, тогда как в повестях своих он уже не творит, а сочиняет… Все герои и героини его так называемых больших повестей, поскольку они не взяты из сельской среды, бледны, как бы не завершены, неполны, не созданы им, а отражены на его полотне каким-то посторонним зеркалом»219. Сам Тургенев отчасти признаёт это, когда говорит, что продолжительная жизнь за границей вредила его литературной деятельности: «Так как я в течение моей сочинительской карьеры никогда не отправлялся от идей, а всегда от образов — то при более и более оказывающемся недостатке образов музе моей не с чего будет писать свои картинки. Тогда я — кисть под замок и буду смотреть, как другие подвизаются»220. Но он решительно возражает против обвинения, что якобы после «Записок охотника» все его сочинения были плохими из-за незнания новой России. Такое обвинение могло бы иметь смысл только после 1863 г., а не до этого времени, то есть до 45-летнего возраста, когда он жил главным образом в России и в России писал свои романы «Рудин», «Дворянское гнездо», «Накануне», «Отцы и дети» и прочие221. Известна боязнь и Достоевского (с 23 апреля 1867 до конца 1871 г., почти пять лет он проводит в Европе) отстать от того, что происходит в России. Хотя он и следил по русской прессе за событиями общественной, политической, культурной и литературной жизни в России, однако он признаётся: «Действительно я отстану — не от века, не от знания, что у нас делается…— но от живой струи жизни отстану; не от идеи, а от плоти её»222.
219 И. А. Гончаров, Собр. соч. в восьми томах, т. VIII, М., ГИХЛ, 1955, стр. 435.
220 И. С. Тургенев, Первое собрание писем, Спб., 1885, стр. 154, 195, 329, 339.
221 Там же, стр. 238—239.
222 Ф. М. Достоевский, Письма, т. II, Госиздат, 1930, стр. 361.
Реалист в области создания характеров, Тургенев напоминает Гоголя и по характеру своего воображения. Это воображение нуждается в конкретных чертах, которые раскрывают психологию героя: после оно чаще всего сводится, хотя и не исключительно, к «соображению» об особенностях данного характера: как он будет действовать, как будет говорить и т.д.
«Я не только не хочу, — признаёт Тургенев, — но я совершенно не могу, не в состоянии написать что-нибудь с предвзятой мыслью и целью, чтобы провести ту или иную идею. У меня выходит произведение литературное так, как растёт трава. Я встречаю, например, в жизни какую-нибудь Феклу Андреевну, какого-нибудь Петра, какого-нибудь Ивана и, представьте, что вдруг в этой Фекле Андреевне, в этом Петре, в этом Иване поражает меня нечто особенное, то, чего я не видел и не слыхал от других. Я в него вглядываюсь: на меня он или она производит особенное впечатление, вдумываюсь, затем эта Фекла, этот Пётр, этот Иван удаляются, пропадают неизвестно куда, но впечатление, ими произведённое, остаётся зреть. Я сопоставляю эти лица с другими лицами, ввожу их в сферу различных действий, и вот создаётся у меня целый особый мирок… Затем, нежданно-негаданно является потребность изобразить этот мирок и я удовлетворяю этой потребности с удовольствием, с наслаждением»223.
223 «Русская старина», т. XII, 1883, стр. 214—215.
Упомянем, коль скоро речь идёт о русской литературе, что подобная наблюдательность, удивительно широкая и тонкая, отличает и автора «Обломова». В автобиографической статье, в которой говорится о происхождении его романов, Гончаров ясно подчёркивает значение лично пережитого, виденного и прочувственного. «То, что не выросло и не созрело во мне самом, чего я не видел, не наблюдал, чем не жил, — то недоступно моему перу. У меня есть (или была) своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений и воспоминаний, — и я писал только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал — словом, писал и свою жизнь и то, что к ней прирастало»224.
224 И. А. Гончаров, Собр. соч., т. VIII, стр. 113.
Таким образом, становится ясно, почему Гончаров описывает в своих романах жизнь, нравы, типы, круг, в котором он вращался, родной свой город Симбирск и Петербург; почему он не изображал жизнь села и крестьян; для этого ему не хватало знания обычаев, нужд, их страданий; и вот почему он вопреки неизбежному вмешательству воображения при воссоздании реальности остаётся вообще человеком виденного, точно изученного225.
225 Ср.: А. Мazоn, Un maître du roman russe. Ivan Gontcharov, 1914, p. 285.
Так можно было бы определить талант и других видных русских беллетристов, например одного из более молодых представителей реалистической школы, автора незабываемых юмористических очерков и психологических драм, полных лиризма, Антона Павловича Чехова. Почти для каждого его рассказа могла быть найдена, по свидетельствам его брата и его близких, отправная точка в жизни. Куприн, показывая примеры его непроизвольной наблюдательности, его способности запоминать характерные приметы каждого, кого он однажды видел, заключает: «Он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок и уже знал, как очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами»226. Рассказы, повести и драмы этого писателя переполнены подробными данными о людях и обществе, и они растут по типичному методу «сообразования», который напоминает о таланте Гоголя.
226 А. И. Куприн, Собр. соч., т. 9, Изд-во «Правда», М., 1964, стр. 421.