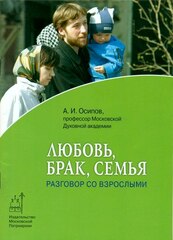ГЛАВА IX УЧАСТИЕ РАЗУМА
4. ВДОХНОВЕНИЕ И РАЗУМ
Особая форма участия разума наблюдается там, где необходим контроль над творческим настроением, для вмешательства более спокойной, трезвой мысли в работу по вдохновению. В каком бы забытьи ни находился художник во время творческой работы, он никогда не теряет способности к самонаблюдению. Образы, толпящиеся перед его духовным взором, слова, слышимые внутренним слухом, должны обсуждаться с точки зрения правды, живописной, вещественной или психологической мысли героев должны находиться в необходимой зависимости от их характеров и окружающих условий. Выдержанность и убедительность произведения немыслимы без способности к внутреннему раздвоению, которая делает поэта не только рабом мечтаний, лирического возбуждения, но одновременно и критиком своей собственной работы. Естественно, что это «раздвоение» не следует понимать как какой-то абсолютный раскол души, словно это два несовместимых и коренным образом противоположных состояния, наоборот, как и во всех других случаях, дело здесь касается единственного, но весьма широкого акта сознания, а вернее, ряда таких актов, в которых разнородные направления духа — воображение, чувство и разум — взаимно дополняются для общей творческой работы. И если воображение доставляет материал, а чувство действует как двигатель, разум играет роль регулятора и судьи. Однако этот чисто интеллектуальный фактор ни в коем случае не должен вытеснять воображение с его центральной позиции или ограничивать его свободу, потому что тогда легко разрушается все воздушное сооружение и формирующееся целое, если и не будет убито в зародыше, всё же пострадает в своём органическом росте и естественной форме, как это можно заметить в тех произведениях, над которыми работали с большим трудом, с большой предвзятостью, стремились к скорейшему выполнению вопреки внутреннему несовершенству.
Работая над «Борисом Годуновым», Пушкин сообщал: «Я пишу и размышляю. Большая часть сцен требует только рассуждения; когда же я дохожу до сцены, которая требует вдохновения, я жду его или пропускаю эту сцену — такой способ работы для меня совершенно нов. Чувствую, что духовные силы мои достигли полного развития, я могу творить»950. Пушкин пишет и одновременно думает, рассуждает. О чём же он рассуждает? То, что здесь речь идёт уже не об открытии, поскольку общая идея произведения давно созрела, видно из быстрого завершения трагедии: начатая в конце июля, она была готова к концу сентября 951. Хотя автор первоначально предполагал работать над ней и зимою 952. Если он торопится писать сцены, требующие размышления, и обходит те, которые предполагают вдохновение, это совсем не значит, что последние уже готовы или что в одних случаях можно творить только с помощью разума, а в других — только с помощью чувства. Это просто означает, что автор хранит в уме всё произведение, но известные места, преимущественно лирические, предполагают более благоприятное настроение, тогда как эпические могут быть зафиксированы и при минимальном подъёме. Но и в том и в другом случае налицо полная внутренняя гармония, единство сознания не разрушено и поэт творит, обладая не только подвижным и богатым воображением, но и сознанием значимости дела. Раньше в своей лирике он непрерывно импровизировал, не придерживаясь особенно строго формы, развития, исторического колорита. Теперь, обладая зрелым чувством художественной формы и пониманием целей поэзии, он как большой мастер работает спокойно, всесторонне обдумывая то, что будет доверено бумаге. Так, например, он читает, создавая свою трагедию, Карамзина и летописи; это необходимо ему, чтобы проникнуться духом изображаемой эпохи, мысленно постоянно пребывать в атмосфере того времени, полностью вжиться в неё, и думать, и чувствовать, как его герои. Кроме того, начав писать, он учитывает особенности трагедии характеров и трагедии нравов и старается сочетать эти два метода, как признаёт он в приведённом письме. В том же письме, как свидетельство большой теоретической работы над сюжетом, постоянных размышлений о принципах и стиле трагедии до и во время написания, он обстоятельно говорит о взглядах классиков и романтиков на трагедию и о значении Шекспира и Корнеля, Шиллера и Байрона. Живя в глуши, он занят исключительно «Борисом Годуновым». И параллельно с его написанием собирается изложить в предисловии свои собственные мысли о поэтике драмы. Так, он находит, что классики и романтики одинаково ошибаются, беря за основу закон правдоподобия, которое как раз означает, по мнению Пушкина, отрицание подлинной природы драмы, тогда как гении, подобные Шекспиру, о нём и не вспоминают. Альфиери устраняет всё, что называется в драме «в сторону», и вместо этого удлиняет монологи. Но разве монолог лучше выражает истину? Байрон расчленяет свой собственный характер, вкладывая в одного героя свою гордость, в другого — свою тоску, в третьего — свою ненависть. Но разве такое дробление живого и энергичного характера одного человека можно назвать созданием трагических характеров героев? Эта и другие подобные проблемы трагической поэзии постоянно занимали Пушкина и тогда, когда он творил, стремясь не упустить из виду главного, не внося бесцеремонно в мир образов из русской истории свою рефлексию, но, используя её только как инстинктивное, как вкус или художественное чутьё, он приходит к самоконтролю, помогающему созданию подлинных произведений искусства.
950 А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 13, М., Изд-во АН СССР, 1937, стр. 542.
951 См. там же, стр. 239.
952 См. там же, стр. 211.
То же самое мы можем наблюдать и у Флобера. Как последователь принципа «искусства для искусства», он становится в оппозицию романтикам, и если эстетика последних покоится на суверенных правах вдохновения, понятого как спонтанное открытие и буквальное выполнение внушённого свыше, то его идеалом является методичная, спокойная и хорошо продуманная работа. Как будто он руководствуется максимой Поля Валери: «Писать — значит предвидеть»953. Разумеется, и Флобер не игнорирует вдохновение, поскольку оно означает творческую активность, непредвиденное открытие, лёгкое решение задач, над которыми напрасно трудилась бесстрастная мысль. Но в то же время он, не будучи лириком типа Мюссе, а скорее романистом-реалистом, стремится к максимальной психологической и социальной правде, не желает подвергаться опасности слишком сильного увлечения первоначальной идеей, идущей от лихорадочного возбуждения в работе. Он хочет быть сознательным художником, спокойным ценителем подсказанного воображением. «Надо остерегаться этой чрезмерной горячности», — пишет он, вспоминая об экзальтации, которая невольно овладевает духом. «Если в тот момент взор очень широк, то он в то же время и туманен; хорошо в этих состояниях то, что они придают вам новые силы, вливают в вас бодрость». Но вопреки этому: «Я бы желал скорее, чтобы меня оставили эта слабость и энтузиазм, чтобы почувствовать себя в более олимпийской среде, единственно пригодной для создания изящного». И в другом письме: «Будем остерегаться этого вида горячности, который называют вдохновением… Мне хорошо знакомы эти костюмированные балы воображения, откуда человек возвращается смертельно измученный, опустошённый, с отвращением ко всему на свете, где он видел лишь жалкие подделки, где говорились только глупости. Всё надо делать холодно, спокойно»954.
953 P. Valéry, Rhumbs, p. 89.
954 Flaubert, Correspondance, II, p. 226, 218, 175; см.: А. Сassagne, La théorie de l’art pour l’art, p. 414.
Убеждённый в необходимости не поддаваться увлечениям и бдительно следить за внушениями вдохновения, Флобер останавливает быстрый бег своего воображения и размышляет об образах, сценах, стиле. По поводу одного места в «Мадам Бовари» он замечает: «Мой супруг любит свою жену почти так же, как и любовник; это две посредственности, существующие в одной и той же среде, но их, однако, надо дифференцировать» 955. И он внимательно следит за тем, чтобы действительно провести тонкую линию, разграничивающую две индивидуальности с одинаковой основой. Поэтому он так высоко ценит известный «Трактат о стиле» Бюффона 956. Он полностью согласен с данной в нём оценкой писателей, которые настолько отдаются своему воображению, что «их перо пишет бесконтрольно, набрасывая неправильные черты и негармонические фигуры». Не нападает ли таким образом Бюффон на ошибки школы, возникшей спустя некоторое время? Разве не романтики, «не думая достаточно о своём предмете», кажутся вместе с тем смущёнными множеством идей и, «не умея сравнить их и сопоставить… остаются в недоумении» и не знают, как начать, чему отдать предпочтение? Сколько правды в словах Бюффона: «Гений — это только долготерпение». Они выражают не какую-то временную норму искусства, а вечную идею, достойную стать руководящим началом для каждого художника. Именно поэтому Флобер восхищается этой краткой формулой: она идёт вразрез с программой романтиков и импрессионистов, обязывает поэта обдумывать, оценивать, сознательно взвешивать то, что он намеревается передать словом.
955 Flaubert, Correspondance, II, p. 67.
956 См.: A. Cassagne. op. cit., p. 420, 421.
Прекрасный урок даёт и Эдгар По в комментарии к своей поэме «Ворон»957. Неоднократно он думал, насколько интересна была бы написанная поэтом статья, которая правдиво рассказала бы об эволюции замысла какого-нибудь его произведения. Почему это не было сделано раньше, он не может себе объяснить: может быть, суетность самих авторов является здесь главным препятствием, раз они предпочитают верить, что замысел у них возникает в состоянии какого-то исступления или экстатической интуиции, и испытывают недовольство, когда читатели любопытствуют заглянуть за занавес, в настоящую лабораторию, чтобы узнать, сколько нерешительности, какой труд, какое медленное созревание и сколько мучительных поправок и перечёркиваний предшествует загримированному, украшенному и завершённому произведению, выступающему на авансцену. Сам Эдгар По не видит причин скрывать эту предысторию, особенно потому, что он отдаёт себе ясный отчёт в постоянном развитии всех своих поэтических попыток, сам проявляет живой интерес к подобному анализу и считает поистине desideratum 958 в литературе изложить весь modus operandi 959 в данном случае. «Поэтому выбрал, — говорит он, — «Ворона» как более знакомую мне поэму. Моей целью является показать, что ни один пункт композиции нельзя приписывать случайности или интуиции и что моё произведение шло шаг за шагом к своему завершению с точностью и строгостью математической проблемы». Что можно возразить на это столь далеко зашедшее рассудочное мотивирование и искания такого вдохновенного и непосредственного поэта? Не вносит ли он в свой анализ что-то из мистификации, на которую мы наталкиваемся в его чудесных рассказах? Но, даже допустив нечто подобное, хотя и в весьма невинной форме, и оставив в стороне первозданную творческую силу поэмы, не поддающуюся обоснованию, мы можем открыть здесь систематическую работу над поэтическим планом, добросовестно и искренне изложенную автором. Эдгар По рассказывает нам, как прежде всего обдумывал размеры своей поэмы и решил, что она должна быть не более чем из ста стихов (в действительности она достигла 108 стихов); как потом он выбрал эмоциональный тон (тоску и меланхолию), который наиболее сильно воздействует на читателей; как установил рефрен, как принцип тождества, монотонности в звуковом и идейном отношении; как остановился на слове «nevermore» («никогда») для такого рефрена; как искал повод для повторения этого слова в конце каждой строфы и напал на образ ворона; как нашёл сюжет, подходящий к рефрену, и выбрал смерть красивой женщины, скорбь её мужа; как скомбинировал обе темы — безутешного мужа и ворона, который повторяет «никогда», и как, наконец, было определено начало поэмы после того, как уже был найден конец, потому что только в момент предварительного обдумывания автор взялся за перо и написал строфу, в которой достиг вершины настроения. Исходя из этой строфы, автор мог варьировать и располагать по степеням значения и силе другие строфы. Далее он рассказывает о том, как он нашёл свой оригинальный ритм посредством комбинирования знакомых стоп и размеров; как он поставил в связь мужа и ворона, сообразуясь с обстановкой, которая была бы наиболее естественной; как заставил ворона влететь в окно и сесть на бюст Паллады; как заменил фантастический тон рассказа серьёзным, мрачным и тоскливым и как, наконец, прямо пришёл к развязке. «Всякий план, достойный этого имени, — замечает Эдгар По, — должен быть выработан с учётом развязки ещё до того, как к нему прикоснётся перо». И в конце этого обстоятельного анализа пишет: «Всегда необходимы две вещи: первая — это известная сумма сложных ассоциаций и комбинаций, вторая — известная доля внушения, нечто вроде подземного течения мысли, которое не видно и не определимо». Последнее качество как раз и придаёт цену первому, хотя и первое не менее важно, как доказывает поэт.
957 См.: E. А. Рое, The Philosophy of Composition, см.: Ch. Baudelaire, La genèse d’un poème.
958 Желаемое (лат.).
959 Способ создания (лат.).
Крайне поучительный пример Эдгара По находит своё подтверждение в практике писателей различных эпох.
Как внимательно относился Данте к архитектонике своей «Божественной комедии», мы поймём, изучая эту поэму. Стараясь устранить всякую беспорядочность, все излишние подробности, поэт обдумывал и учитывал мельчайшие особенности языка и стиля, ритма и рифмы, не забывая подчеркнуть вероятность даже невероятного. Именно на примере творчества Данте видна полная ошибочность мнения о «фатальном» вдохновении. Ничто у него не отдано во власть случайности, во всём он руководствуется строгим методом, всё поставлено на службу высокой цели960.
960 См.: L. Fеrrеrе, Appunti sul metodo della Divina Commedia.
Совместимость вдохновения и художественного разума защищают самым категорическим образом и некоторые современные авторы, например драматург Кюрель и лирик-философ Валери.
Кюрель приписывает обдумыванию, нахождению, сообразованию такое же значение при открытии сюжета и развитии характеров, как и воображению. Его воображение рисует такую ситуацию: женщина совершила преступление, она пыталась убить своего мужа и поэтому заключена в тюрьму, собственно не в тюрьму, а помещена в больницу, поскольку её близкие считают её помешанной. Доктор, знающий правду, предоставляет ей некоторую свободу. Однажды она убегает, чтобы повидаться со своими детьми. Няня со страха начинает кричать, боясь как бы она не причинила зла детям; прибегает муж, пытаясь ей помешать… Такова первая идея. Автор начинает размышлять о ней. Он находит, что у него отсутствуют известные медицинские и юридические познания, чтобы полностью и правдиво развить эту идею, но всё же она не покидает его. Он спрашивает себя, что, собственно, может его интересовать в подобном материале, и, занимаясь проблемами психологии личности, находит, что его интересует возвращение женщины в среду, которую она давно покинула, после того как она долгое время жила в другой среде и вышла оттуда с обновлённой душой; но разве нет другого способа показать этот перелом, не прибегая к сумасшествию и к больнице? И разум отвечает: да, монахини точно так же обособлены от мира, как душевнобольные. Автор обращается к монастырской жизни. Его воображение быстро рисует женщину, которая после совершения преступления становится монахиней, чтобы скрыть содеянное ею и покаяться. И дальше то же самое воображение раскрывает перспективы, заманчивые для драматурга. Автор мыслит себе девушку, которая когда-то в бессознательном состоянии пыталась убить жену человека, которого любит: потом она уходит в монастырь и двадцать лет живёт вдали от мира. Однажды она узнаёт, что мужчина, некогда ею любимый, умер. И то ли из жажды свободы, то ли ради любопытства, она возвращается из изгнания в свою среду и встречается с вдовой… Такова новая идея драмы, или, вернее, её завязка. Мало-помалу автор получает и целостное представление о пьесе, не зная ещё как следует ни художественных средств, ни образов. И пока воображение занято поисками средств, места действия, характерами, разум подсказывает необходимость ввода новых деталей или подчёркивает мотивы известной смены в чувствах и т.д. Так постепенно (мы оставили в стороне множество подробностей, о которых автор отдаёт себе отчёт) возникает план драмы «Изнанка святой», писавшейся с 5 по 25 мая 1891 г.961
961 Вinet, L’Année psychologique, I, p. 158.
Этот план, родившийся благодаря сотрудничеству воображения с разумом, начинает осуществляться. У автора наступает в этот период известное раздвоение. С одной стороны, он перевоплощается в своих героев и таким образом отгадывает, что они скажут и что совершат в каждый отдельный момент; с другой — он всегда сохраняет «сознание того, что он является господином плана, философских идей, стиля, колорита и прочего». Он обсуждает эволюцию героя, заботится об упрощении фактов, соблюдении условностей и исправляет каждые 5—6 строк, критикуя то, что так быстро писалось. «Я, — говорит он, — как провидение, которое управляет своими созданиями, не уничтожая их свободу».
Значит, при обсуждении материала и при воплощении его огонь вдохновения не убил у автора ни сознания собственного «я» — оно по-прежнему живо и позволяет ему прерывать писание и говорить с реальными людьми, думать о посторонних вещах, — ни способности контролировать и корректировать выполнение. Воображение и разум идут рука об руку, не мешая друг другу, что, оказывается, имеет существенное значение для постоянного притока образов, столь необходимых для осуществления первоначального замысла.
К писателям нового времени, которые особенно подчёркивают интеллектуальное начало в творчестве, относится и Поль Валери. Подобно Леонардо да Винчи 962 и Эдгару По, он считает знание и творчество, разум и воображение одинаково необходимыми, более того, первое — даже предпосылкой второго и верит, что термин «творчество» (création) для произведения искусства не более чем сравнение. Как поясняет критик Поль Суде в своём очерке о Валери: «Художественное произведение не является творчеством (разве только метафорически, ибо мы не знаем, что значит творить); скорее оно является построением, где анализ, учёт, обдумывание играют первостепенную роль» 963. Или, как говорит сам Валери, ссылаясь на Лафонтена: «Настоящее условие творчества для подлинного поэта — это нечто весьма отличное от состояния мечтательности. Это добровольные искания, гибкость мысли, согласие души с приятными затруднениями и нескончаемый триумф самопожертвования… Это точность и чувство стиля, то есть нечто прямо противоположное сну» 964. Вот почему так восхищается Валери «сочетанием критического разума и поэтических добродетелей» Бодлера 965. Работа мысли в свете сознания и заботы о стиле и других формальных или идейных сторонах произведения плодотворно взаимодействует с иррациональным и интуитивным в творческой деятельности. Подобно Флоберу, Валери восклицает: «Да хранят нас боги от пророческого беса. В этом самозабвении я усматриваю плохую работу машины — несовершенной машины. Хорошая машина молчалива… Надо творить без крика» 966.
962 См.: P. Valéry, Introduction à la méthode Leonard de Vinci.
963 P. Sоuday, Paul Valéry, p. 36.
964 P. Valéry, Variété, I, «Au sujet d’Adonis».
965 P. Valéry, Situation de Baudelaire.
966 P. Valéry, Rhumbs, p. 95.
Джек Лондон описывает свой метод работы в романе «Мартин Иден» в форме исповеди героя. Стремясь уяснить себе процесс творчества, анализируя чужие произведения, Мартин, сам писатель, хочет понять, разобраться, как достигается там определённый уровень мастерства, поскольку только так он сам в состоянии создать что-либо подобное. И автор продолжает: «Мартин мог работать только сознательно. Такова была его натура: он не мог работать, как слепой, не зная, что выходит из-под его рук, полагаясь только на случай и на звезду своего таланта. Случайные удачи не удовлетворяли его, он хотел знать, «как» и «почему». Его творчество было творчеством осмысленным, и, принимаясь за рассказ или стихи, Мартин уже держал в голове план всего произведения… С другой стороны, он воздавал должное и тем случайным словам и сочетаниям слов, которые вдруг ярко вспыхивали в его мозгу и впоследствии с честью выдерживали испытание, не только не вредя, но даже способствуя красоте и цельности произведения. Перед подобными находками Мартин преклонялся с восхищением, видя в них проявление чего-то большего, чем сознательное творческое усилие… Он давно уже приучил себя хорошенько вынашивать, додумывать до конца каждую рождавшуюся у него мысль и затем излагать её на бумаге» 967.
967 Дж. Лондон, Соч., т. 5, М., ГИХЛ, 1955, стр. 432—433.
Так же думал, судя по его собственной исповеди, и Йордан Йовков. Ссылаясь на вышеприведённое высказывание американского романиста, Йовков сообщает, что рассказ Мартина Идена полностью соответствует тому, что он наблюдал у самого себя. Он не начинает писать до тех пор, пока не «проложит» дорогу, по которой ему предстоит идти. Но ему знакомы вопреки старательному обдумыванию «эффекты счастливой моментальной догадки» 968.
968 См.: С. Казанджиев, Златорог, XVIII, стр. 306—307: «Срещи и разговори с Й. Йовков», стр. 30.
Придерживаясь точки зрения, близкой в своей основе к эстетике и приёмам этих писателей, Кирилл Христов называет свою творческую мысль «хорошо проконтролированной сознанием интуицией». Он придерживается того мнения, что, «хотя роль интуиции в творчестве несравнимо больше роли сознательных поисков творческих ценностей, всё же эти гениальные импровизации — в лучшем случае лишь половина работы; они не могут дать ни одной безукоризненной страницы. Художнику необходимо сознание, контролирующее даже самые ценные самопроизвольные открытия истины (самопроизвольные взрывы духа)…». И Кирилл Христов развивает свой взгляд: в искусстве непреходящее значение имеет творчество тех, кто в молодости проявлял «максимальную интуицию, почти не обузданную» (таким непосредственным поэтом был, например, молодой Гёте), и кто позднее постепенно подчинился «полновластному сознанию», охлаждающему вдохновение, и добился гармонии и чистоты формы, чуждых прежнему хаосу. Это типичное развитие он улавливает и в своём творчестве, сравнивая свои давние «Избранные стихотворения» с их более поздними редакциями (например, «Подсолнух» и «Гимн зари»). В последних вариантах, по его мнению, нет кипения первых попыток, волнение обуздано «преследующим определённые цели художественным чутьём».
Развивая свои взгляды о соотношении у зрелого поэта интуиции и контроля сознания, о превосходстве первой над вторым или их взаимодействии, Кирилл Христов пишет: «Взаимодействие между интуицией и сознанием, или самокритикой, постоянно; весы колеблются каждую минуту, перевешивает то одно, то другое». Однако в процессе работы контроль разума как бы идёт следом за тем, что создаёт вдохновение, чтобы устранить всё лишнее, чтобы подыскать более подходящие выражения и пр. Именно стихия интуиции приносит многие ненужные элементы, затрудняющие работу. «В некоторых счастливых случаях контроль осуществляется у меня моментально; всё же я оставался скептиком и упорно следил, а нет ли в моей работе каких-нибудь больших недостатков, которые я не могу открыть сразу». Быстрый контроль удавался Христову преимущественно в эпических, балладных или лирико-эпических, а значит в более объективных произведениях, тогда как в чисто лирических стихотворениях опасность несовершенной обработки была большей, и успокоение совести наступало медленнее969.
969 М. Арнаудов, Кирил Христов, човекът и поетът (неизданное)