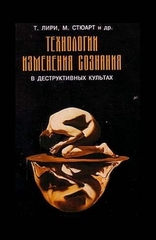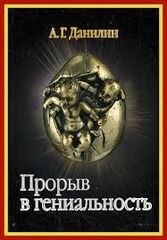САМОУЧИТЕЛЬ ТРАГИЧЕСКОЙ ИГРЫ
- Я, может быть, и сама гордая, нужды нет, что бесстыдница! Ты меня совершенством давеча называл; хорошо совершенство, что из одной похвальбы, что миллион и княжество растоптала, в трущобу идет!.. А теперь я гулять хочу, я ведь уличная! Я десять лет в тюрьме просидела, теперь мое счастье!
Александр Блок почти всю жизнь провел как поэт — как почти никто из поэтов: как гимназист — каникулы. Ни дня без прогулки на свежем воздухе: куда глаза глядят или облюбовав заранее забаву — скажем, в луна-парке американские горы; а то в Стрельну — купаться в осеннем пруду; потом в синема; или вот:
Один, другой и третий год.
Толпою пьяной и нахальной
Спешим...
Это кабинет восковых фигур на Невском, 86. Дата под стихотворением — 16 декабря 1907.
Тут внезапная неясность: то ли есть причина посетить данный очаг культуры немедленно, — то ли это, наоборот, обрыдлый такой обряд установился и соблюдается все эти годы, примерно с Кровавого воскресенья; коротаем, так сказать, войну и революцию в нескончаемой мрачной процессии, в дурной компании...
Тем заметней вызывающая поза глагола — и отталкивающее первое лицо подозрительного множественного числа. Инверсия классическая: толпой угрюмою и скоро позабытой... Но эпитеты невозможные, в лирике неслыханные; оглушительно хлесткая рифма обещает скандал; что-то будет?
("Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах. Совсем пьяных, впрочем, не было; зато все казались сильно навеселе..." Это шуты, постоянно сопутствующие Рогожину — и Мышкину — в романе "Идиот". Помните, как они являются в квартиру Настасьи Филипповны? "Великолепное убранство первых двух комнат... редкая мебель, картины, огромная статуя Венеры — вес это произвело на них неотразимое впечатление почтения и чуть ли даже, не страха. Это не помешало, конечно, им всем, мало-помалу и с нахальным любопытством... протесниться за Рогожиным в гостиную...")
То есть восковая статуя полуголой молодой женщины; это якобы Клеопатра, последняя царица Египта; изображен момент самоубийства: Клеопатра прижимает к груди змею; змея сделана из резины; приспособлены какие-то чудеса техники, так что грудь как бы дышит, а змея через равные промежутки времени как бы жалит. Короче говоря, зрелище — на любителя. И передано стихами почти наивными, — а магическую игру согласных в шелест и звон — а также глубину и протяженность гласных — легко принять за побочный эффект.
И не мертва и не жива,
А люди шепчут неустанно
О ней бесстыдные слова,
Она раскинулась лениво
Навек забыть, навек уснуть
Змея легко, неторопливо
Ей жалит восковую грудь...
И вдруг, в музейной этой тишине, опять неприличная выходка — ни с того ни с сего:
С кругами синими у глаз —
Ничего подобного никто в русской литературе никогда не произносил. Отвага беспримерная, скоро ее переймут Есенин и другие. Но как навязчиво неуместен здесь этот автопортрет. И к чему эти подробности о подлежащем, если сказуемое столь незначительно:
На воск, открытый напоказ...
Ну, пришел и пришел. Сообщение самое невинное — и торжественный тон просто нелеп. Как если бы моральная неустойчивость абсолютно исключала интерес к подобным зрелищам. Судя по следующей строфе — скорее наоборот. Синтаксис там невнятный, но все же позволяет догадаться, что изображаемый культпоход — отнюдь не первый:
Но если б гроб твой не был пуст,
Я услыхал бы не однажды
Надменный вздох истлевших уст...
Несмотря ни на что, фонетика волшебная. Ведь это вздор — вздох уст, а строка действительно вздыхает — и за ней строфа:
Я в незапамятных веках
Была царицею в Египте.
Теперь я — воск. Я тлен. Я прах".
Ария не оригинальная — тотчас видно, что в Петербург так называемого "серебряного века" царица Египта прибыла из Москвы, где Валерий Брюсов, прочитав роман Райдера Хаггарда "Клеопатра", сочинил ровно восемь лет назад одноименное стихотворение: "Я — Клеопатра, я была царица, В Египте правила восьмнадцатъ лет. Погиб и вечный Рим, Лагидов нет, Мой прах несчастный не хранит гробница" — и так далее. Ничего не поделаешь, так проходит земная слава.
Но Блок отвечает монологом в духе А. И. Поприщина:
Я был в Египте лишь рабом,
А ныне суждено судьбою
Мне быть поэтом и царем!
Ты видишь ли теперь из гроба,
Что Русь, как Рим, пьяна тобой?
Что я и Цезарь будем оба
В веках равны перед судьбой?"
Не пародия ли тут, в самом деле, на стихи Валерия Яковлевича, дорогого мэтра? ("Стихи Ваши — всегда со мной", — сказано ему в письме, отправленном несколько дней назад.) Цезарь ведь — его герой. Конечно, и раб — из его же баллады ("Я — раб, и был рабом покорным Прекраснейшей из всех цариц...")
Но тогда стихотворение Блока — просто сатира с оттенком пасквиля. Нет, непохоже: слишком невесело. И потом, эта Русь, пьяная Клеопатрой... У Брюсова тоже безвкусицы хоть отбавляй, однако совсем в другом роде. Но дочитаем:
Но грудь колышется едва
И за прозрачной тканью дышит...
И слышу тихие слова:
"Тогда я исторгала грозы.
Теперь исторгну жгучей всех
У пьяного поэта — слезы,
У пьяной проститутки — смех".
Стихи небрежные (исторгну жгучей всех — молчи, грамматика!), ну и пусть — зато предчувствие скандала сбывается. Поэт поставлен на одну ступень с проституткой, внезапно появившейся из нахальной толпы. Пьяный плачет — продажная смеется. К этому скоплению взрывных все и шло. Провокационные эпитеты совпали, как сходится пасьянс. Автопортрет с пощечиной, прыжок паяца; пьеса для балаганчика в паноптикуме печальном. Но Клеопатра при чем?
Блока случайно видели там, на Невском, 86. "Меня удивило, — повествует свидетель, — как понуро и мрачно он стоит возле восковой полулежащей царицы..." Следует рассказ про обступивших механическую куклу веселых похабных картузников. И как рефрен: "Блок смотрел на нее оцепенело и скорбно..."
Вообще-то бывает, как сказано в одном стихотворении Анненского (тоже 1907 г., тоже поздняя осень), бывает такое небо, такая игра лучей, что сердцу обида куклы обиды своей жалчей...
Но эта, восковая, в прозрачном гробу — была буквальная, грубо материализованная цитата из "Стихов о Прекрасной Даме". Судьба в который раз напоминала Блоку, что когда-то, не так давно, он был не просто поэт, но единственный в мире обладатель самой важной в мире тайны.
Настоящее имя Прекрасной Дамы было — Ты, и обозначало Разгадку Всего, недоступную словам, как смерть от счастья, как любовь богини.
Неизвестно, что это было — космическое прельщение, литературная галлюцинация... Швейцарский ученый Карл Юнг пишет об участившихся в двадцатом веке явлениях Богоматери как о фактах несомненных. Дескать, это Коллективное Бессознательное играет с человеком. Салтыков-Щедрин в свое время трактовал подобные состояния проще:
"Юноша с пылким, но рано развращенным воображением испытывает иногда нечто подобное: он сидит над книжкой, а перед глазами его воочию мелькает фантастическая женщина; он очень хорошо знает, что женщины тут никакой нет, а есть латинская грамматика, но в то же время чувствует, что в жилах его закипает кровь... А рот у него облепили мухи", — присовокупляет злобный Салтыков — и попадает пальцем в небо. По крайней мере, Блок был в высшей степени аккуратный человек.
"От мух советую, — писал он Евгению Иванову в 1906 году, — купить пачку бумажек "Tanglefoot" — к ним мухи прилипают, и тогда ощущаешь нечаянную радость от их страданий; избиению их, поджиганию свечкой и прочим истязаниям я также посвящаю немало времени".
Не важно, по каким причинам и как перепутались мечты и обстоятельства.
Важно, что видения повторялись все реже, потом вдруг совсем прекратились.
Эту утрату Блок оплакивал как Ее смерть.
Ты с улыбкой зовешь: не буди.
Золотистые пряди на лбу.
Золотой образок на груди.
Я отпраздновал светлую смерть,
Прикоснувшись к руке восковой...
С тех пор этот вальс в нем не умолкал. В чаду алкоголя и пошлости словно кто-то дразнил Блока призраком забытой тайны; вот как в этом кабинете восковых фигур — или годом раньше в привокзальном ресторане... Вы думаете: случайность? Нет — хохот из бездны. Вы думаете: мания преследования? Нет — символизм.
Оставалось: притворно смеясь над разбитыми иллюзиями, отомстить за них собственной гибелью — то есть моральным падением.
"... Люблю гибель, любил ее искони и остался при этой любви... Ведь вся история моего внутреннего развития "напророчена" в "Стихах о Прекрасной Даме"".
Иначе говоря: отняли любимую куклу — тем хуже для кукол нелюбимых.
Гибнуть, катаясь на тройках, — словно Настасья Филипповна... Убивать себя пьянством и так называемой страстью — истерикой похоти — любовью без любви.
Лобзать уста, ласкать плеча,
В какие улицы глухие
Гнать удалого лихача...
И все равно, чей вздох, чей шепот,
Быть может, здесь уже не ты...
Лишь скакуна неровный топот,
Как бы с далекой высоты...
Так — сведены с ума мгновеньем
Мы отдавались вновь и вновь,
Гордясь своим уничтоженьем,
Твоим превратностям, любовь!
При оформлении в советскую литературу все это Блоку засчитали как протест против реального капитализма. В общем — это верно. Как замечал по сходному поводу упомянутый Салтыков: "...протестуют потому, что сердца своего унять не в силах. "Погоди ты у меня, — говорила одна барыня (она была тогда беременна) временнообязанному своему лакею, — вот я от твоей грубости выкину, так тебя сошлют, мерзавца, в Сибирь!" И говорила это барыня искренно, и желала, ох, желала она выкинуть! чтобы потом иметь право написать, что "от огорчения, причиненного ей грубостью подлеца Ваньки, изныл внутри у ее ребенок!" Быть может, даже по ночам ей мерещилось, что вот она выкидывает (конечно, без особенно скверных последствий), что Ваньку за это судят и ссылают в Сибирь..."
Я гибну — так тебе и надо! — плачь, низкая действительность, плачь!
И поднимаясь над землей,
Я видел, как идет другая
На ложе страсти роковой...
И те же ласки, те же речи,
Постылый трепет жадных уст...
Участь, что и говорить, трагическая. Как тяжело ходить среди людей и притворяться не погибшим в таких условиях. Но именно в этой тональности: надежды нет, и не нужно счастья, и только из гордости терпишь унизительную необходимость отвечать на поцелуи, а заодно и всю мировую чепуху, — стихи звучат как следует, как диктант Музы. Долг перед Искусством и Родиной велит идти навстречу Судьбе до конца: в цирк, в ресторан, в дом терпимости. И вечный бой! Покой нам только снится. Вы говорите: маменькин сынок? Нет искуситель, демон, падший ангел!
"Кто я — она не знает. Когда я говорил ей о страсти и, смерти, она сначала громко хохотала, а потом глубоко задумалась. Женским умом и чувством, в сущности, она уже поверила всему, поверит и остальному, если бы я захотел. Моя система — превращения плоских профессионалок на три часа в женщин страстных и нежных — опять торжествует".
"Я опять на прежнем — самом "уютном" месте в мире — ибо ем третью дюжину устриц и пью третью полбутылку Шабли..."
"Я обедал в Белоострове, потом сидел над темнеющим морем в Сестрорецком курорте. Мир стал казаться новее, мысль о гибели стала подлинней, ярче ("подтачивающая мысль") - от моря, от сосен, от заката".
Такая жизнь ожесточает сердце. Приступы страха, приступы злобы, повсюду мерещатся угрожающие взгляды, торжествующие ухмылки. Сжигает ненависть к благополучным...
Если человека несказанно радует известие о катастрофе "Титаника" ("есть еще океан!") — через несколько лет ему, конечно, Февральская революция в России покажется пресной, постной. Чтo значит сжиться с мыслью о личной гибели! — чужую допускаешь (в теории) хладнокровно: "...нисколько не удивлюсь, если (хотя и не очень скоро) народ, умный, спокойный и понимающий то, чего интеллигенции не понять (а именно — с социалистической психологией, совершенно, диаметрально другой), начнет так же спокойно и величаво вешать и грабить интеллигентов (для водворения порядка, для того чтобы очистить от мусора мозг страны)..."
Как известно, тогдашний Цезарь вскоре воспроизвел эту мысль поэта слово в слово (чуть резче: "это не мозг, а — -"). И осуществил его предчувствия. Поэт действительно погиб. А Цезарь помещен в паноптикум печальный.