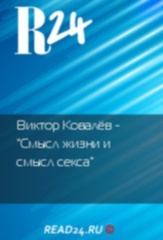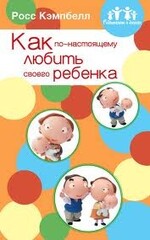Память, речь и мышление
3. Проблема внутренней речи.
Когда мы говорим о связи мышления с речью, мы имеем в виду в первую очередь внутреннюю речь, и Выготский прав, утверждая, что, «как ни решать сложный и все еще спорный вопрос об отношении мышления и речи, нельзя не признать решающего и исключительного значения процессов внутренней речи для развития мышления». Мы согласимся с Выготским также в критике Уотсона, весьма упрощенно отождествлявшего мышление и внутреннюю речь. Примем также и критику Выготского совершенно не соответствующего действительности утверждения Уотсона, что внутренняя речь развивается из громкой речи через шепот.
Но в то же время мы вряд ли можем согласиться с утверждением самого Выготского, что средним звеном, соединяющим внешнюю и внутреннюю речь, является описанная Пиаже так называемая эгоцентрическая речь. Опровержение теории Выготского дает последовательно вытекающий из нее, сделанный им самим, вывод, что внутренняя речь появляется поздно: «Тип внутренней речи у школьника является еще в высшей степени лабильным, неустановившимся, что говорит в пользу того, что перед нами генетически молодые, недостаточно оформившиеся и определившиеся процессы». Этот вывод о столь позднем характере внутренней речи находится в столько кричащем противоречии с действительностью, что является самым лучшим опровержением той теории, из которой необходимо он следует.
Вопрос о внутренней речи слишком мало изучен, и всякие утверждения о генезе внутренней речи надо признать преждевременными. Не с целью отстаивания нижеизлагаемой гипотезы как единственно правильной, но с целью демонстрирования возможности иных путей решения, чем те, которые сейчас признаются единственными, позволяю себе высказать одно предположение. Стремятся обыкновенно связать развитие громкой и внутренней речи, предполагая, что внутренняя речь развивается из громкой. Но откуда развивается вообще речь ребенка? И крик, и лепет только предпосылка развития речи ребенка, но не из них развивается она: если бы ребенок рос среди неумеющих говорить, он и кричал бы, и лепетал бы, но не говорил бы. Глухорожденный тем самым немой. Речь ребенка развивается из слушания речи других. Но если так, то почему исключается возможность предположить, что по крайней мере в онтогенезе внутренняя речь, как и громкая, развивается из слушания речи? Что эта гипотеза имеет некоторое правдоподобие, видно из того, что при сенсорной афазии, а не при моторной чаще и сильней всего страдает внутренняя речь.
Исследования Пикка показали, что эхолалия 139 , автоматическая и даже произвольная, развивается еще до понимания слов, даже при соответствующем предмете 140 . Она имеется у сенсорного афатика, не понимающего слов. Слушание речи — не простое только слушание: до известной степени мы как бы говорим вместе с говорящим. Конечно, здесь нет полного повторения его слов, даже внутреннего (хотя иногда такое полное повторение, даже громкое, например хоровое повторение припева, бывает). Но возможно, что зачатки внутренней речи именно здесь.
139 Эхолалия (греч. «эхо» — повторение и «лалия» — речь) — повторение чужой речи.
140 См.: Pick, liber das Sprachversta ldnis, 1909.
Конечно, при современном малом знании проблемы внутренней речи вышеизложенная гипотеза так же мало обоснована, как и всякая другая. Она имеет в данном случае только иллюстративное значение. Но то общее положение, иллюстрировать которое призвана эта гипотеза, мне представляется единственно правильным. Это положение можно формулировать так: так как язык «возникает из потребностей сношения с другими людьми», то объяснение развития его надо искать именно в этом. Неправильно объяснять развитие как внешней, так и внутренней речи исключительно физиологическими или индивидуально-психологическими причинами.
Если бесспорно, что онтогенетически речь развивается из общения с другими людьми, то трудней согласиться с этим по отношению к филогенезу. Однако эта трудность только видимая. В любом разговоре, при любом рассказе всегда имеются две стороны: говорящий и слушающий. На ранней стадии речи членораздельные звуки у говорящего были только придатками к его действиям — пантомимическим движениям, жестам и т. п., были только сопроводительными выразительными звуками. Но слушатель улавливал связь этих звуков с соответствующими движениями, ситуациями и предметами, т. е. понимал значение этих звуков. Чтобы данный комплекс звуков воше i во всеобщее употребление, он должен был быть повторен многими людьми: слушание и в филогенезе, по всей вероятности, не было только простым слушанием, но и повторением. Слушатель в свою очередь становился говорящим.
Если бы человеческие слова были все лишь «естественными звуками», исключительно лишь психофизиологически обусловленными, тогда для объяснения их было бы мало нужды прибегать к факту общения между людьми. Но они были таковыми лишь в самый первый момент предыстории языка. Разнообразие языков даже в первобытном обществе, и наиболее всего как раз именно в нем, указывает, что действовали главным образом социально-психологические причины. Так сказать, пропагандировали, распространяли данные слова слушатели. Они были не только слушателями, но и повторяющими.
Уже в предыдущих главах неоднократно говорилось о том, какую роль играло повторение в ранней истории вербальной памяти, которая первоначально была репродукцией, репродуктивной вербальной памятью. Дело не только в том, что слушатель бывал нередко и передатчиком. Дело, прежде всего, в простой подражательности. В юном возрасте мне приходилось проводить иногда почти целые дни в обществе людей, говорящих по-русски с большим акцентом и своеобразной фразеологией, и когда я возвращался домой, то иногда мать по моей речи определяла, что я был именно в этом обществе. Сейчас я если часто слушаю заграничное радио на определенном языке, то потом ловлю себя на том, что повторяю впоследствии непроизвольно некоторые слышанные речения.
Но если слушание так сильно связано с повторением, то и в филогенезе не так уж трудно представить себе первоначальное развитие внутренней речи именно из слушания. Возможно, что вначале это была непроизвольная, тихая, зародышевая, про себя производимая, симультанная, т. е. происходящая одновременно со слушанием, эхолалия, или (чтобы не пользоваться этим клиническим термином) симультанная репродукция.
Что такая симультанная репродукция при слушании речи действительно существует, это может подтвердить самый простой, повседневный, но в высшей степени интересный опыт:
Когда я смотрю на что-нибудь, я свободно могу одновременно и внимательно смотреть и говорить про себя что-нибудь. Когда я внимательно слушаю музыку, я также могу в то же время думать, говорить про себя. Но общеизвестно, как трудно в одно и то же время внимательно слушать говорящего и внутренне говорить что-либо про себя: если мы внимательно слушаем, мы не можем думать или говорить про себя, например, хотя бы знакомое стихотворение наизусть, больше того, мы замечаем, что при очень внимательном слушании мы повторяем про себя слова говорящего; если мы, наоборот, начинаем в это время думать, говорить про себя (не речь говорящего), то мы перестаем слушать речь говорящего и переживаем нечто вроде сенсорной афазии, примерно на той стадии ее, когда слова слышатся как слова, но еще не понимаются: мы слышим все, что говорят, но повторить ничего не сможем, так как речь до нашего, так сказать, «психического» слуха не дошла. По Шпеку, эта стадия сенсорной афазии предшествует стадии эхолалии. Таким образом, эту стадию сенсорной афазии можно вызвать экспериментально: для этого только надо во время слушания речи думать о чем-нибудь другом, произнося это про себя. Правда, временами кажется, что в одно и то же время мы слушаем, понимая другого и сами внутренне говоря иное, но при более тщательном анализе в этих случаях всегда оказывалось, что имело мбсто колебание внимания между слушанием речи и посторонней внутренней речью.
Невозможность при внимательном слушании речи внутренне говорить о другом объясняется тем, что при слушании речи происходит симультанная репродукция ее: если так, вышеописанный опыт состоит в попытке одновременно иметь две внутренние речи, что, конечно, физически невозможно. Во избежание неправильного понимания моей интерпретации этого опыта считаю нужным подчеркнуть, что речь идет в нем не о полной, а о частичной сенсорной афазии, именно об экспериментально вызванной определенной стадии ее, той именно, которая, по Пикку, непосредственно предшествует (если идти от самой глубокой стадии этой афазии) непроизвольной эхолалии.
Можно попытаться даже дать объяснение вербальной репродукции. Это — подражательность. Не надо забывать, что подражательность по еще неизвестным нам причинам с исключительной силой проявляется как раз по отношению к тем явлениям, где участвуют так или иначе органы речи (кашель, смех, зевание, пение). У детей и у первобытного человека возможно предполагать подражательность более сильно, чем у взрослого цивилизованного человека. Отсюда возможно предположить, что и вербальная репродукция, в том числе симультанная, у них гораздо сильнее, и, значит, тем легче было из этого развиться внутренней речи. Еще один простой опыт подтверждает это: гораздо легче писать что-либо и в то же время внимательно слушать чью-либо речь, чем слушать ее и в то же время читать. Однако это имеет место только при таком писании, которое не сопровождается внутренней речью: в том случае, если испытуемый пишет, в это же время произнося про себя, внимательное слушание очень затрудняется почти так же, как и при чтении. Получается все та же стадия сенсорной афазии.
Вполне допуская, что развиваемая мной гипотеза при проверке ее потерпит существенные изменения, я считаю то главное положение, которое лежит в основе ее, обоснованным и при теперешнем состоянии наших знаний. Это положение можно формулировать так: речь есть средство общения и потому является процессом не односторонним, а двусторонним. Там, где разговаривают, есть не только говорящий, но и слушающий. Разговор есть общение. В данный момент разговора, рассказа и т. д. и говорящий, и действительно слушающие думают одно и то же, быть может, только иначе относясь к нему, например один положительно, другой отрицательно 141 . Говорить в этом случае — значит думать вслух, слушать — значит думать про себя. Говорящий и слушающий оба говорят, притом одно и то же, только один вслух, а другой про себя. Ставить вопрос о том, что развивалось раньше — речь или мысль,— неправильно: речь, подлинная речь, без мысли не речь, и мысль без слов не существует. Речь и мышление, внешняя и внутренняя речь, развивались одновременно. Как и внешняя речь, внутренняя речь социального происхождения: начало ее надо искать не в чисто физиологических причинах (превращение шепота во внутреннюю речь) и не в эгоцентризме, а в том, в чем надо искать происхождение вообще речи — в общении. Но если так, то тем самым мышление — социальный продукт.
141 На ранней стадии развития сознания, где еще отсутствует развитое отношение, говорящий и слушающий думают одно и то же, даже приблизительно одинаково относясь к нему. Поэтому на этой стадии слушать — значит соглашаться, слушать — значит слушаться. Таково поведение малюток, гипнотизируемых и т. п. Но с развитием сознания у слушателя может быть иное отношение: говорящий и слушающий думают одно и то же, но no-paaur-ffloivry относясь к нему. Мои эксперименты показали такие ранние формы опровержения: 1) повторение плюс отрицание («гулять нет»); 2) повторение с вопросом или вопросительным тоном («А почему "нельзя гулять?"»); 3) повторение недовольным, насмешливым и т. и. тоном.
«На "духе" с самого начала лежит проклятие — быть "отягощенным материей", которая выступает здесь в виде движущихся слоев воздуха, звуков — словом, в виде языка. Язык так же древен, как и сознание; язык есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание, и, подобно сознанию, язык возникает лишь из потребности, из настоятельной необходимости общения с другими людьми. Там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня; животное не «относится» ни к чему и вообще не «относится»; для животного его отношение к другим не существует как отношение. Сознание, следовательно, с самого начала есть общественный продукт и остается им, пока вообще существуют люди» 142 .
142 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 29.
Выросший на необитаемом острове Адам не говорил бы и не испытывал бы потребности говорить. У него не было бы и внутренней речи, и вербальной, т. е. специфически человеческой памяти. Он бы не мыслил, не рассуждал. Проще говоря, его интеллект был бы интеллектом не человека, а животного.
4. Память и речь. Наитеснейшим образом сближая мышление и речь, надо остерегаться все же отождествлять их: в речи участвует не только мышление, но и память. При полной вербальной амнезии я (в качестве говорящего) не помнил бы, как что называется, а в качестве слушателя не помнил бы, что какое слово значит.
В чем состоит «помнить значение слов»? В психологии еще не так давно господствовал неправильный взгляд на это. Утверждали, что помнить значение слов — значит быть в состоянии представить себе соответствующую объективно существующую ситуацию. Это не соответствует действительности. Если я забыл немецкий язык, я не понимаю немецкой речи: при амнезии нет понимания. Но когда я понимаю немецкую речь, то, слушая ее, я могу ничего не представлять в том смысле, что никаких предметных, образных представлений у меня нет. Большая заслуга так называемой вюрцбургской психологии, правда, затемненная многочисленными недостатками, в том и состояла, что она экспериментально доказала отсутствие необходимости, обязательности наглядных представлений при осмысливании значения слов или фраз.
Функция слов состоит не в том, что слова вызывают наглядные представления, а как раз наоборот — в том, что эти наглядные представления становятся не необходимыми. Гегель выразил это в очень энергичной формулировке: «Образ умерщвляется, и слово заменяет образ». Он пишет: «Речь есть умерщвление чувственного мира в его непосредственном чувственном бытии, снимание его и превращение его в наличное бытие, являющееся призывом, который находит себе отголосок во всех представляющих существах» 143 .
143 Гегель. Философская пропедевтика. § 159, Пер. С. Васильева. М., 1927.
Как материалистически представить замену словом образа или предмета? Слово — знак, сигнал. Значит, разрешение вопроса надо искать в психологии замены явления знаком или сигналом. На современном уровне знаний больше всего материала по этому вопросу мы находим в учении об условных рефлексах. Слово действует в основном и элементарном аналогично знаку, сигналу, но знак, сигнал, может быть интерпретирован как условный раздражитель. Элементарно основное действие слов аналогично действию условных раздражителей.
Существенное свойство условного раздражителя то, что при известных условиях он вызывает ту же реакцию, какую вызывает с самого начала ассоциированный с ним безусловный. Существенное свойство слова — вызывать то же переживание, какое вызывает означаемое словом явление. И в случае условного раздражителя и в случае слова выражение «та же реакция» надо понимать с оговорками. В огромном большинстве опытов с условным раздражителем это гораздо более слабая реакция, однако в незначительном случае эта реакция может быть приблизительно равной или даже большей силы. Но таково и действие слов. В огромном большинстве случаев слова вызывают гораздо более слабые переживания, чем означаемые ими явления, но в исключительных случаях, например в гипнозе, переживание может быть той же силы. Второе отличие действия условного раздражителя в том, что латентное время обыкновенной условной реакции определенно больше, чем соответствующей безусловной, причем латентное время обыкновенного условного рефлекса приблизительно то же, что и при соответствующем волевом (произвольном) акте. Но и при действии слов латентное время вызываемого словом переживания явно может быть гораздо более длительным, чем при означенном им явлении. С другой стороны, сходство произвольного волевого акта с актом, стимулируемым, определяемым внутренней речью, настолько большое, что некоторые психологи даже отождествляют одно с другим,1 например определяя произвольное внимание как внимание, регулируемое мыслью. Понимание развитой совершенной воли как воли, определенной мышлением, рассудком, разумом и т. д., красной нитью проходит через всю историю психологии и этики. Наконец, общеизвестно угасание действия условного раздражителя, если он не подкрепляется безусловным. Но и слова, не подкрепляемые, не подтверждаемые действительностью, перестают действовать 144 .
144 «О действии условных раздражителей сравнительно с безусловными» см. в «Handbook of General Experimental Psychology», ed. Murchson (London, 1934) статью С. L. Hull, c. 424 и след.
Таким образом, аналогия между действием слова и действием условного раздражителя большая. Во избежание неправильных пониманий надо подчеркнуть, что утверждается лишь аналогия между элементарно-основным действием слов и действием условных раздражителей: подобно последним, слова вызывают переживания, изначально вызываемые означаемыми реальными явлениями, но только обыкновенно в более слабой форме, притом не всегда так же быстро, и перестают вызывать их, если не подтверждаются действительностью. Однако речь не идет об отождествлении слов с условными раздражителями: это значило бы сильно упрощать вопрос.
Но то сходство, которое так ясно удалось обнаружить, дает основание сделать вывод, что «помнить значение слов» — сравнительно простое дело, сводящееся к так называемой ассоциативной памяти Леба или к действию условных раздражителей. Что это действительно так, доказывает тот факт, что значение слов запоминают не только совсем маленькие дети, но в известной мере и некоторые животные: «Собака и лошадь развили в себе, благодаря общению с людьми, такое чуткое ухо по отношению к членораздельной речи, что, в пределах свойственного им круга представлений, они легко научаются понимать всякий язык... Научите попугая бранным словам так, чтобы он получил представление о их значении (одно из главных развлечений возвращающихся из жарких стран матросов), попробуйте его затем дразнить, и вы скоро откроете, что он умеет так же правильно применять свои бранные слова, как берлинская торговка зеленью» 145 .
145 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 20, с. 489-490.
Поэтому нет оснований преувеличивать сложность проблемы значения слова: помнить значение слов — настолько сравнительно простой процесс, что легко может быть истолкован с точки зрения действия условных раздражителей. С психологической точки зрения эта проблема относится к проблеме ассоциаций, связей между стимулами и реакцией и является, пожалуй, одной из тех немногих проблем психологии, которые вполне разрешаются на почве ассоциационизма (собственно говоря, исторически он именно на этой почве развился и окреп). Поэтому менее всего оснований существует для того, чтобы делать именно эту проблему особой проблемой мышления без слов, создавая резкий дуализм слова и значения: слово, не имеющее значения, не есть слово; оно — бессмысленный набор звуков. Гегель очень правильно писал: «Посредством словесного знака конкретное представление вообще становится чем-то безобразным, отождествляющимся со знаком» (разрядка моя. — П. Б.) Но если это, ставшее безобразным, представление отождествляется со знаком, т. е. со словом, то искать его вне слова, как это делают те психологи, которые ищут «чистой», «бесплотной» мысли без слов, — значит делать примерно то же, что искать душу, не довольствуясь материей.
Слушая (или читая), мы запоминаем слова, фразы, рассказы, рассуждения и т. д. Если этот факт общеизвестен до тривиальности, то несравненно менее общеизвестно то, что из него следует: с социально-психологической точки зрения рассматриваемые в процессе передачи от одних к другим мысли из продуктов мышления становятся объектами вербальной памяти. Те законы Ньютона, которые когда-то были открыты мышлением английского физика, сейчас просто помнятся школьниками. Процесс подобного перехода мышления в память может в известных случаях зайти так далеко, что порой то, что раньше было продуктом мышления, может превратиться просто в автоматические речевые движения, т. е. в элементарную вербальную привычку. Этот процесс превращения мыслей в «избитые слова», которые можно назвать словами только с генетической точки зрения на том основании, что они [раньше] были словами (в настоящем это только автоматические речевые движения), имеет место еще в следующих случаях: 1) в тех случаях, которые вообще благоприятствуют образованию привычных движений, 2) при снижении нервного уровня, например при некоторых тяжелых психических заболеваниях (шизофрения).
Выражаясь образно, речь — та область, где память и мышление соприкасаются и переходят друг в друга, иногда такими незаметными переходами, что трудно даже бывает определить, что в данной речи принадлежит памяти, а что — мышлению. Мы только что видели, как мысли, чужие и собственные, становятся достоянием вербальной памяти — репродукциями мыслей, а то и просто автоматическими речевыми движениями. Но происходит и обратный процесс — переход памяти в мышление. Рассмотрением именно этого мы и займемся сейчас. Как совершается переход от памяти к мышлению? Как проходится путь от простой вербальной репродукции к размышлению и рассуждению?