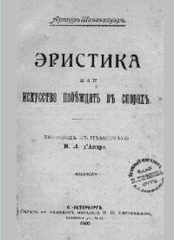От памяти к мышлению
5. Память и мышление в повседневной жизни.
В процессе исследования нашей проблемы мы сосредоточились на памяти. Выделив ее для изучения, мы проследили ход развития ее, начиная с той стадии, где она — только автоматическое движение, и кончая той, где она переходит в мышление. На страницах книги ее стадии являлись содержанием отдельных глав. Но в жизни положение иное. Мозг — единый орган, хотя различные его отделы выполняют различные функции.
В жизни на каждом шагу мы имеем связь и переходы различных стадий памяти, а также связь и переходы памяти и мышления, не говоря уже о других функциях. Наше исследование было бы незаконченным, если бы мы ограничились лишь абстрактным рассмотрением проблемы памяти и мышления, хотя, понятно, в процессе исследования прибегать к отвлечениям было необходимо.
Как же самонаблюдение обнаруживает взаимоотношение между памятью и мышлением в повседневной жизни? Я спал, и в глубоком сне не функционировали ни память, ни мышление. Но мой сон не все время был глубок, и, конечно, перед пробуждением он был наименее глубок. Я проснулся с остатками бывшего сновидения. Я видел сновидение, и хотя не все его образы были только зрительные, тем не менее зрительные образы настолько преобладали, что я имею полное право утверждать, что я видел сновидение. В этом сновидении был ряд образов впечатлений моей бывшей бодрствующей жизни, но в общем эти образы настолько трансформировались, что в целом сновидение — меньше всего воспоминание: для этого в нем слишком много небывалого и фантастического. Так во сне проявляло себя воображение как простая репродукция образов, вернее, как трансформациях, т. е. именно как воображение.
Я проснулся и от сна перехожу к своей бодрствующей деятельности. Я произвожу ряд движений, огромное количество которых — привычные движения, с которыми не связывается работа моего мышления. В числе этих движений есть также ряд вербальных — произнесенных мной фраз, настолько привычных, что, говоря их, я вовсе не думаю. Привычка в моем повседневном поведении играет огромную роль, причем мышление с ней связано разве только в том смысле, что привычная деятельность дает возможность функционировать мышлению вне связи с этой деятельностью. Я вижу много разнообразных вещей, среди которых узнаю много мне знакомых. Но на этих знакомых, понятных мне вещах мое мышление не задерживается, хотя бы я и действовал ими. Я задумываюсь в таких случаях скорее над необычным, над тем, что плохо понимаю, над тем, что в известном мне еще не совсем известно.
Так сплошь и рядом в моей повседневной жизни память и мышление как бы полярны друг другу: когда делаешь привычное или имеешь дело с вполне известным и понятным, об этом не думаешь; зато думаешь, когда оказываешься в непривычной, новой, непонятной ситуации. Больше того, раз мышление мешает привычным движениям, расстраивает их и — еще недостаточно общеизвестный факт — при интенсивном сосредоточенном мышлении, устремленном на нее, даже очень знакомая вещь, например знакомая печатная фраза, начинает казаться менее известной и более непонятной.
Но это относится только к памяти-привычке и памяти-узнаванию. Никоим образом нельзя отнести вышеуказанное утверждение вообще к памяти. Обратимся снова к анализу повседневной бодрствующей деятельности. Она состоит, разумеется, не только в привычных деятельностях и восприятии известного и понятного. Далеко не вся моя деятельность протекает так гладко, и именно с этой деятельностью, а не с привычной и легкой главным образом связывается деятельность моей вербальной памяти и мышления. Если в сновидениях память проявляет себя как воображение, то наяву память преимущественно моторная и вербальная память. Эти две памяти, если можно так выразиться, своеобразно поделили свои функции: первая (моторная привычка) проявляет себя в обычной и легкой деятельности, вторая же скорее тяготеет к тому, что беспокоит или затрудняет меня. Я помню, что я должен делать, — ряд дел, относительно которых стараюсь, «как бы чего не забыть». Но, кроме того, что я должен помнить, в моей памяти персеверирует также то, чего я не могу забыть. Это обычно то, что беспокоит, тревожит меня. Так, содержание моей актуальной памяти определяется, с одной стороны, социальными требованиями, а с другой — моими интересами, причем, конечно, то и другое может совпадать. Все это так может занять мое сознание, что я ни о чем больше не могу думать. Да в крайних случаях нельзя сказать даже и по отношению к этой ситуации, что я думаю. Мое мышление как бы застряло на этом, как бы топчется на одном месте, твердит одно и то же. В таких случаях иногда говорят: «Не выходит из памяти, и я ни о чем не могу думать», и так говорить, пожалуй, правильнее. Обыкновенно мысли, занимающие так сильно мое сознание, столь сильно в нем иерсеверирующие, мысли-персеверации имеют эмоциональный характер. Мы говорим о «мыслях, которые не выходят из памяти», и уже подобное выражение демонстрирует, насколько тесна здесь связь между мышлением и памятью. В сущности это, конечно, память: «я помню». Но помню я «мысли». И хотя эти мысли то «не выходят из памяти», т. е. персеверируют, то «то и дело вспоминаются», т. е. репродуцируются, иными словами, здесь имеют место такие явления памяти, как персеверация и репродукция, однако есть [здесь] все же и движение этих мыслей.
Самонаблюдение легко обнаруживает двоякий характер движения подобных мыслей, или, как правильней их назвать, воспоминаний. Иногда они движутся в форме рассказа, который бывает то воспоминанием, то фантазией, то смесью того и иного. Я замечаю, что «думаю», т. е. вспоминаю и воображаю целые истории или эпизоды. При этом происходит обыкновенно некоторое как бы распределение функций: начинается с репродуцирующего рассказа, т. е. я вспоминаю какие-то бывшие события, ситуации и т. п., а затем я начинаю фантазировать, продолжая эти события в будущем: что будет, что выйдет из него. Мое воображение-рассказ как бы предугадывает будущее этой ситуации, в то время как намять отразила прошлое ее. Но это предугадывающее воображение-рассказ настолько своеобразно, что даже возникает сомнение, насколько приложим здесь термин «предугадывающее». Иногда этот термин вполне уместен, потому что это действительно предугадывание, догадка. Но гораздо чаще это гипотезирующее воображение-рассказ: предполагается определенная возможность, и воображение развертывает рассказ, исходя из этой возможности.
Но это не все. Рассказ, представляющий воображаемое будущее, развертывается в известном направлении, так же эмоциональном по своему характеру, как и то воспоминание, из которого оно вышло. Можно заметить, что если, развертываясь, он доходит до неприятного, то или персеверирует на нем (что бывает значительно реже), или — чаще — отталкивается от него, начиная развертываться в ином направлении — желательном. Не только сказки и романы имеют обыкновенно счастливый конец. Счастливый конец имеют обычно и те рассказы, которые строит наше воображение, представляющее предполагаемое будущее.
Нередко критикуют психологов за то, что они как бы персонифицируют психологические функции, говоря, например: память или воображение делают то-то. Конечно, наши способы выражаться ограничены несовершенством нашего языка и потому несовершенны. Но я лично не считаю эти выражения очень порочными. Конечно, все это делают не «память», «воображение» и т. п. как персонифицированные способности, но вспоминающий и воображающий субъект, но это такая поправка, которая слишком очевидна и заниматься которой было бы таким же педантизмом, как вычеркивать подобные же персонифицирующие выражения из физики или физиологии. Больше того, на данном этапе наших знаний и нашего языка мы рискуем, вычеркнув все подобные глаголы, тем самым стушевать действенный характер происходящих процессов, тогда как его надо, наоборот, подчеркнуть.
В данном случае воображение-рассказ чаще всего именно строит будущее. Это не простое развертывание какого-то бесстрастного предположения. Сплошь и рядом это рассказ о том, что я и другие будут делать, как бы проектирование действий так, чтобы, в конце концов, получился благоприятный конец. Огромное большинство подобных рассказов, в сущности говоря, рассказы обо мне, строящем лучшее будущее и устраняющем нежелательное будущее.
Но не все мои мысли только в этом роде — только воспоминания и фантазии. Наоборот, такими они бывают лишь в некоторых определенных случаях, точно еще не проанализированных, но, во всяком случае, эмоциональный характер которых несомненен. Правда, в повседневной жизни, там, где мы сравнительно предоставлены самим себе, т. е. в часы досуга, именно эмоциональное начинает особенно нас занимать.
Но даже и в этих случаях то и дело стирается грань между рассказом и рассуждением, воображением и мышлением до такой степени, что трудно бывает решить, что я сейчас — воображаю или рассуждаю. Чтобы решить этот вопрос, вспомним это место из учения Гегеля о понятии: «Суждения отличны от предложений; в последних содержатся такие определения субъектов, которые не стоят в отношении всеобщности к ним — состояние, отдельный поступок и т. п. Цезарь родился в Риме в таком-то году, вел в продолжение десяти лет войну в Галлии, перешел Рубикон и т. д. — все это предложения, а не суждения. Совершенно нелепо также сказать, что такого рода предложения, как, например: «Сегодняшнюю ночь хорошо спали» или«Становитесь под ружье!» — .могут быть облечены в форму суждения. Лишь в том случае предложение, гласящее «Карета проезжает мимо», было бы суждением, а именно субъективным суждением, если бы могло подвергаться сомнению, является ли движущийся мимо предмет каретой, либо описывали бы, движется ли предмет, или тот пункт, с которого мы его наблюдаем, — лишь в том, следовательно, случае, когда мы интересуемся тем, чтобы найти определение для еще неопределенного надлежащим образом представления» 155 .
155 Гегель. Энциклопедия философских наук. Ч. I. Логика, Пер. Б. Стол-пнера. М.-Л., 1929, с. 75.
Но такие сомнения и вопросы часто встают в повседневной жизни. Практическая деятельность требует правильных предположений, а не фантастических, и желательное вызывает вопрос, насколько оно возможно. Если я хочу, чтобы моя деятельность протекала удачно, я не могу только фантазировать и воображать: я должен мыслить. Так вместо предположений воображения выступают гипотезы мышления, и вместо рисующих будущее рассказов выступает размышление, рассуждение. Я рассуждаю о различных возможностях и останавливаюсь на одной из них, которую считаю более правильной, более реальной. Я строю ряд предположений — гипотез — и интересуюсь, какое из этих предположений соответствует действительности и какие последствия вытекают из него.
«Вопрос о том, обладает ли человеческое мышление предметной истинностью, — вовсе не вопрос теории, а практический вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т. е. действительность и мощь, посюсторонность своего мышления. Спор о действительности или недействительности мышления, изолирующегося от практики, есть чисто схоластический вопрос» 156 (Маркс). Истинность моих предположений подтверждается или опровергается практикой. Но было бы неосторожно проверять всякий раз свои предположения ответственной практической деятельностью, т. е. такой, где я мог бы жестоко поплатиться за свое неправильное предположение. Я проверяю часто поэтому свои предположения нерискованными, тщательно продуманными экспериментами. Такая экспериментальная проверка предположений в повседневной жизни, пожалуй, не менее часта, чем в науке. Но нередко не бывает необходимости прибегать на деле даже к таким экспериментирующим пробам, так как на основании моего прежнего опыта я легко могу мысленно предвидеть последствие моего предположения, вытекающее из данной гипотезы следствие.
156 33 П. П. Блонский цитирует второй тезис К. Маркса о Фейербахе, см.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 3, с. 1-2.
Проносящиеся в моей голове мысли, если это не воспоминания и не фантазии,— одно из трех: или рассуждения примерно вышеописанного типа, либо высказывания отрывочных суждений, часто в связи с оценками и решениями, либо, наконец, то, что в одном из предыдущих параграфов мы назвали мысленным аккомпанементом восприятий и действий. При этом, насколько я могу посредством самонаблюдения уловить, мое мышление все время переходит от мысленного аккомпанемента восприятий и действий (мышление-называние) к мышлению-суждению и мышлению-умозаключению, причем это — самые разнообразные переходы от одного к другому, но (по крайней мере, так сужу на основании своего самонаблюдения) точка сгущения этих переходов, если можно так выразиться, находится около суждений: чаще всего я ловлю себя на суждении или на чем-то близком к нему.
Гегель в свое время настаивал, что по отношению к мышлению надо говорить не о переходе, а о развитии. С психологической точки зрения, пожалуй, действительно в данном случае лучше пользоваться термином «развитие». Тот очень характерный факт, который открывает самонаблюдение относительно процесса мышления, это — что мысли, которые я обнаруживаю у себя, то какие-то зачаточные мысли, скорее называния, «мысленный аккомпанемент» восприятий и действий, то уже что-то вроде суждений, то — цепь суждений, рассуждение.
Психологическое изучение мышления находится еще в детской стадии. Большая часть посвященных ему работ основана, в конце концов, на самонаблюдении — исследователя или испытуемых. Самонаблюдение справедливо считается в современной психологии одним из самых несовершенных методов, и, хотя мы не отбрасываем его вовсе, так как без него в психологии нельзя обойтись, все же оцениваем его низко. Мы вынуждены были пользоваться им и в настоящем параграфе, но отдаем себе отчет в том, что с помощью его открыли немногое.
Пожалуй, самый основной факт, который открывает самонаблюдение, — это то, что можно назвать неуловимостью мышления. Чрезвычайно трудно поймать себя на той или другой мысли: как только улавливаешь ее, она начинает уже изменяться, притом чаще всего в определенном направлении, именно становится более развитой. То, что было, как я отчетливо заметил, было не суждением и не умозаключением, но, как только я направил на него внимание, оно становится вдруг тем или этим. Исследователи давно уже заметили это, и [сделали] одним из аргументов против самонаблюдения: оно так же плохо улавливает разнообразие мышления, как смотрение в зеркало — разнообразные выражения лица. Обыкновенно обобщают это явление на все переживания, но это неверно: посредством самонаблюдения я могу очень хорошо уловить воспоминание-репродукцию или образы. Значит, неправильно утверждать, что это — всеобщее явление. Это специфическая особенность только некоторых психологических процессов, в первую очередь мышления. Мышление все время находится в развитии, все время то эволюирует, то инволюирует, и на этот процесс развития мышления влияют даже, казалось бы, самые малейшие причины. Пожалуй, в этом отношении нет ничего в наших переживаниях более чуткого к влияниям, чем мышление.
Но больше всего на мышление в этом отношении влияет общение. Немецкий писатель Г. Клейст в статье о мысли и говорении утверждает, что мышление внутренне принадлежит процессу речи, развивается совместно с ней и определяется, так сказать, в ходе ее. Несколько утрируя, он утверждает: «Мысль появляется в разговоре» (l'idee vient en parlant). Но если это утрировка в несколько идеалистическом духе, то, несомненно, правилен его тезис, что слушатель, даже если он молчит, заставляет одним своим присутствием додумывать, договаривать, т. е. оформлять и окончательно развивать мысль.
Это положение Клейста очень верно. Наша внутренняя речь — недоразвитая, недоконченная речь: это как бы фрагменты речи, перманентно во всех отношениях недоканчиваемая речь. Пожалуй, для меня, для самого субъекта, такая речь вполне достаточна: я понимаю и такую свою речь. Наше мышление «про себя» точно так же обычно чаще всего недоразвитое, недоведенное до конца своего развития мышление: это как бы кусочки мысли, кусочки суждений и умозаключений, недоговариваемых, недоканчиваемых.
Но человек — общественное существо, и даже когда я один, я сплошь и рядом не один: то нишу (а мы пишем всегда для кого-нибудь, даже свои дневники), то веду мысленные разговоры и т. д. Но в повседневной жизни мы не часто бываем одни. Мы разговариваем с другими, рассказываем и доказываем им, слушаем их и возражаем им. И даже когда нет разговора, мы часто находимся в состоянии приготовления или готовности к разговору. Но в обществе мы не только разговариваем. Прежде всего и самое главное то, что в обществе мы ведем нашу деловую жизнь. Даже когда дома мы свободны от непосредственного труда, мы так или иначе готовимся к нему. Все это и подобное ему очень сильно влияет на наше мышление.
Это влияние состоит в том, что наше мышление доразвивается. Мне кажется, что если бы посредством какого-нибудь гигантски усиливающего микрофона можно было бы сделать так, чтобы наши мысли зазвучали вовне, то слушатели получали бы порой впечатление чего-то вроде погони идей (Ideenflucht), может быть менее элементарной, чем у типичных маниакальных больных, но все же похожей на то, которое мы наблюдаем в нетипичных, более слабо выраженных случаях «Ideenflucht». Чрезвычайно быстрое и изменчивое течение мыслей, малопонятное для постороннего своими скачками и недооконченностью рассуждений и суждений, то и дело переходящее в кусочки фраз и даже в отдельные слова, поразило бы слушателей.
Но в обществе и для общества мы так говорить и мыслить не можем. Мы должны договаривать слова и фразы. Мы должны говорить понятные (не только в языковом отношении) мысли. Наш разговор, там, где это не рассказ-воспоминание или императив и вопрос, есть рассуждение. Наша «речь», все равно, измеряется ее продолжительность минутами или часами, — рассуждение.
Рассуждение — наиболее развитая форма мышления. Когда мы думаем про себя, особенно в тех случаях, когда это мышление минимально связано с деятельностью, протекающей в обществе или для общества, мы рассуждаем не часто, и по форме это весьма фрагментарное рассуждение. Но в обществе или для общества мы обыкновенно рассуждаем, говоря или думая. Наша «речь», произносимая для других, есть очень развитое рассуждение, т. е. очень развитое мышление.
Наше мышление в своем развитии социально обусловлено. Мышление в максимальной изолированности (психологической) от общества — неразвитое, так сказать, зародышевое мышление. В курсах психологии и лингвистики нередко называют внутреннюю речь зародышевой речью, начатком речи. Но точно так же и наше мышление «про себя и для себя» является зародышевым мышлением, начатком мышления, поскольку оно не приближается к социальной жизни.
Конечно, когда говорится о социальном общении, имеется в виду не простое нахождение среди людей. Заключенный в одиночную камеру революционер психологически может интенсивно общаться с обществом. Больше того, выше уже отмечалось, что, когда человек пишет, он обыкновенно пишет для кого-нибудь, и в этом смысле письменная речь — очень социальная речь, но пишет он за столом в своем кабинете. Письменная речь делает общение свободным от ряда физических ограничений. Но эта в высшей степени социальная письменная речь в то же время максимально развитая речь и максимально развитое мышление. Устная речь так же эллиптична по сравнению с письменной речью, как внутренняя речь эллиптична по сравнению с устной речью. Но то же относится и к мышлению: максимально эллиптично внутреннее мышление, и максимально развито с логической точки зрения письменное рассуждение, а устное является как бы промежуточным звеном, ближе стоя, правда, к письменному. По крайней мере, мне приходилось слушать жалобы стенографисток на «трудность записывания» вследствие некоторой эллиптичности мысли и неудовлетворительной грамматичное™ (особенно синтаксической) тех, кто говорит не «книжной», а «разговорной» речью: пусть аудитория слушает ее с полным удовлетворением, стенографистке тем не менее приходится при записи «сглаживать» ее.