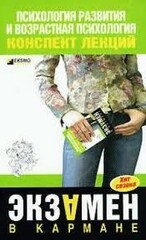Вербальная память
6. Проблема памяти в свете социальной психологии.
В последнее десятилетие благодаря работам Жане во Франции, Бартлетта в Англии, Выготского, Лурия и Леонтьева в СССР проблема памяти становится проблемой социальной психологии Жане отличает память от простого повторения, составляющего сущность привычек и тенденций, и проводит разницу между воспоминанием (souvenir) и реминисценцией (reminiscence), т. е. очень несовершенной памятью-повторением. Он приводит пример одной девушки, которая в ужасающих условиях была единственной свидетельницей смерти матери. Это так потрясло ее, что она психически заболела. Она отрицала, что ее мать умерла. Она ничего не помнила о смерти ее. В то же время порой она с точностью повторяла свое поведение в ту страшную ночь, как она ухаживала за умирающей, как разговаривала с ней, как старалась поднять ее упавшее тело. Только спустя полгода она пришла в себя и вспомнила смерть матери. По мнению Жане, только с этих пор можно говорить о памяти у нее, раньше же у нее была амнезия: у нее не было воспоминания (souvenir), была только реминисценция, автоматическое повторение действий, которые она совершала в ту трагическую ночь.
Какая же разница между воспоминанием и реминисценцией? Реминисценция — очень длинная: 3-4 часа рассказывать историю — это абсурд, непрактично. Воспоминание — краткое: рассказывают о том, что было, в нескольких словах. Реминисценция не является социальным поведением, она ни к кому не адресуется: наша больная никому не отвечала, никого не понимала и повторяла одно и то же иногда даже тогда, когда была совершенно изолирована. Наоборот, воспоминание социально, оно отвечает на вопросы, обращается к другим. Третье различие состоит в том, что реминисценция бесполезна, она ничему не служит, тогда как воспоминание полезно, мы пользуемся им в нашей жизни. Наконец, последнее различие — то, что реминисценция автоматична.
У животных имеется привычка, а не память. «Акт памяти является человеческим изобретением... Память имеет целью торжествовать над отсутствием, и именно борьба против отсутствия характеризует память».
Жане дает историю этого изобретения. Борьба с отсутствием имеет много видов, начиная с самых простых. Уже ожидание представляет собой такую борьбу, правда еще довольно смутную. В дальнейшем ожидание осложняется исканием. Наконец, изобретают «отсроченное действие», которое, по мнению Жане, является и исходным пунктом памяти: «Память вышла из отсроченного действия, Вы можете сказать, если хотите, что она вышла из искания и ожидания». Но «именно в момент отсроченного действия память становится сознательным поведением». Связь ожидания, искания и отсроченного действия Жане поясняет примером хозяйки, которая сначала ждет приглашенного, затем ищет его (звонит по телефону, где он) и, наконец, садясь обедать без него, откладывает блюдо для отсутствующего.
Начальная форма отсроченного действия (action differee) — сохранение. Когда действий простого сохранения оказалось недостаточно, было изобретено поручение (commission), которое также является зародышем памяти. Элементарные поручения — поручения перенести предмет, принести предмет отсутствующему. Но переноска вещей представляет много затруднений, и не все может быть перенесено. К счастью, незадолго до памяти человечество изобрело такие удобопереносимые вещи, как знаки и особенно язык.
Вербальное поручение это уже память. Следующий этап памяти — рассказывание наизусть (recitation), которое Жане отличает от простого повторения: повторение — вид подражания, оно копирует полностью, но вестник, передающий приказ вождя, не копирует вождя, он все же вестник, а не вождь. В первобытном обществе рассказывание наизусть достигло большой силы.
Но оно не совсем удовлетворяло людей. К отсутствующим приходится переносить не только приказы, но и ситуации. Так развивается третья форма памяти — описание: «Способность описывать — настоящая память, это то, что делает предметы присутствующими». Жане замечает: «Я думаю, что первобытные рассказывали наизусть пением. Возможно, что они описывали, танцуя, жестами, мимикой. Эти жесты стали позже рисунками. Наконец, наиболее усложненная форма — описание словами, представление образами... Думали, что они существовали повсюду. Это очень сомнительно. Они существуют только у существ, способных к описанию». Но описание — элементарная память, так как она относится к предметам, продолжающим существовать. Только впоследствии память начинает иметь дело с переставшим существовать, с прошлым, и становится повествованием (narration), описывающим не предметы, а события. Эта память, пожалуй, менее полезна. Но почему тогда она развилась? Потому что повествование сообщает отсутствовавшим то удовольствие, которое имели, кушая, смотря, одерживая победу, — словом, торжествуя в своем действии.
В памяти различают запоминание и припоминание. Жане считает, что «письмо — явление памяти, а не языка; это — настоящая память... Изучение памяти есть изучение письма и образования письма». С другой стороны, проблему повествования он ставит как проблему фабуляции, которая имеет целью вызвать у отсутствующего чувства, которые были бы у присутствующего: «это — усилия заставить его радоваться, улыбаться, торжествовать, как если бы он присутствовал». На этой стадии память становится как бы игрой. «Фабуляция создала события и последовательность событий». Исходя из этого ярко идеалистического тезиса, Жане утверждает, что время развилось на основе памяти и от проблемы памяти переходит к проблеме времени. Нам нет оснований следовать за ним в глубь его идеалистической философии, доходящей до утверждения, что «все в нашем человеческом познании —построения духа... Время и пространство также построения (construction) духа».
Для Жане память — «то, что рассказывают». Его ошибка в том, что только это он считает памятью. Для него у вышеупомянутой больной не память, а амнезия, т. е. отсутствие памяти. Но в данном случае он слишком резко противопоставил память и амнезию как нечто несовместимое, тогда как в действительности память на каждом шагу переходит в амнезию, а амнезия -- в память: мы на каждом шагу забываем то, что помнили, и вспоминаем то, что забыли. Как ни парадоксально с первого взгляда, но несомненный факт, что вспомнить что-нибудь — значит забыть на это время другое. У больной Жане была амнезия смерти матери, но у нее не было полной амнезии болезни матери. О ней можно сказать, что она не могла вспомнить, как умерла мать, потому что слишком хорошо помнила, как умирала она. Частичная амнезия этой больной — результат частичной слишком сильной памяти ее. Жане не понял этого И потому вывел ошибочные заключения. Его различение реминисценции и воспоминания и отрицание за реминисценцией права называться памятью похожи на плохую игру словами.
Вторая основная ошибка Жане — та, что, по его мнению, образы существуют только у существ, способных к описанию. Находящийся в аментном состоянии тифозный больной неспособен к описыванию, но образы может видеть. Больная Жане в трансе видела образы последней ночи матери, но в этом состоянии она была неспособна к описыванию их.
Эти ошибки привели Жане к неправильному утверждению, что память только «то, что рассказывают». Один, правда, высший, вид памяти он принял за всю память. Но его увлечение имело и положительную сторону. Стремясь отмежевать память-рассказ от того, что он неправильно считал непамятью, Жане много сделал для выявления специфических особенностей этого вида памяти. Очень правильно он подчеркнул социальный характер этой памяти. Его энергичная фраза: «Одинокий человек (un homme seul) не имеет памяти и не нуждается в ней» — правильна, если только ограничить ее — отнести лишь к памяти-рассказу. Уже a priori ясно, что память-рассказ возможна только в человеческом обществе, поскольку речь служит средством общения людей. Трудней доказать a posteriori, поскольку абсолютно изолированный от общества человек невозможен, и даже когда человек физически один, социально он не один. Но довольно симптоматично, что в условиях длительного одиночного заключения, особенно если отсутствуют книги, склонно чрезмерно развиваться воображение, оперирующее образами. Также симптоматично, что у людей с ярко выраженной психологией «одиночества» имеется тенденция к развитию грезерства.
Жане вполне прав, утверждая социальный характер памяти-рассказа. Прав в основном он и тогда, когда устанавливает в качестве характерных особенностей этой памяти следующее: 1) она не автоматична, 2) мы пользуемся ею, утилизируем ее, 3) она адресуется к другим людям, 4) она кратка. Только, пожалуй, это положение можно было бы формулировать так: 1) эта память, выражаясь обычными терминами психологии, произвольна, т. е. с неврологической точки зрения относится к высшему нервному уровню; 2) она в качестве социального явления социально регулируется (отсюда, по моему мнению, часто ее краткость).
Жане глубоко прав, настаивая, что эта память — специфически человеческая память, имеющая ярко социальный характер. Он прав и в своем стремлении дать историю этой памяти, связанную со всей историей человечества. Мы сказали бы еще определенней: как до-человеческая память имеет свою историю, зависящую от всей истории животного мира, и в частности от истории нервной системы (моторная память — аффективная память — обонятельная память — зрительно-образная память), так и специфически человеческая память имеет свою историю, определенную всей историей человеческого рода.
Но попытка дать историю специфически человеческой памяти у Жане вышла очень неудачной, притом по очень простой причине: он не изучал эту историю, как она была в действительности, но произвольно конструировал ее на основании априорных соображений в идеалистическом духе. Его цель (ожидание — искание — отсроченное действие — поручение — словесное поручение — рассказ наизусть — описание — повествование) никаким фактическим материалом не подтверждается. Поэтому нет нужды в особой критике ее. Она просто не доказана, и будущему исследователю предстоит еще установить путем исследования фактов, что приходилось помнить человечеству в разные эпохи его истории и чем в каждую из этих эпох была память. Много соответствующего материала дает история общественных отношений, а также история языка, словесности и письменности.
Жане правильно сближает память с рассказом, но его ошибка в том, что он не только сближает их, но даже отождествляет. Бесспорно неправильно отождествлять память только с репродукцией, и пора наряду с продуктивным воображением восстановить встречающееся еще у Гегеля понятие «продуктивная память», конечно, с соответствующими поправками. Несомненно также, что эта продуктивная (а не только репродуктивная) память проявляет себя именно в речи, т. е. именно вербальная память является продуктивной памятью. Но отсюда еще не следует, что память и рассказ одно и то же. Рассказы Чехова — продукт не только памяти Чехова. Мы изучаем вербальную память обыкновенно на рассказе испытуемого, но мы должны не забывать, что в этом рассказе проявляет себя не только память. Поэтому лучше говорить не о памяти-рассказе, а о вербальной памяти.
Точно так же правильно Жане сближает проблему памяти и проблему времени, но его выводы из этого сближения нас совершенно не удовлетворяют. Он понимает время чисто идеалистически, и у него время — построение духа, и в частности, в этом построении огромную роль играет память-рассказ, тогда как на самом деле рассказ отражает время как форму бытия, а не создает его.
Таким образом, Жане внес много ошибочного и произвольного в учение о памяти вследствие своего идеалистического мировоззрения — и склонности к априорным конструкциям. Но все же его книга — шаг вперед. Разбор ее мы заканчиваем следующими выводами:
1) специфически человеческая вербальная память (как репродуктивная, так и продуктивная) есть явление высшего нервного уровня;
2) она в качестве социального явления социально регулируется;
3) она имеет историю, зависящую от всей истории человеческого рода.
С этими выводами мы переходим к работе Бартлетта. Бартлетт определенно говорит о «социальной психологии воспоминания». По его мнению, и материал воспоминания, и манера вспоминать социально определяются. Бартлетт считает экспериментально доказанным, что интересы решают то, что человек вспоминает, но сами интересы очень часто непосредственно социального происхождения. Что выделяется сначала и что вспоминается впоследствии, в каждой общественной группе, в каждую эпоху, в каждой местности является результатом тенденции, интересов и фактов, ценность которых признается обществом.
С другой стороны, по Бартлетту, манера вспоминать зависит главным образом от темперамента и характера, которые также социально обусловлены, и Бартлетт говорит в данном случае о групповом характере в том смысле, что господствующие в данной социальной группе тенденции влияют на манеру вспоминать. С оговорками, что это еще несовершенная попытка, Бартлетт все же пытается установить некоторые закономерности. Он устанавливает, что, если социальная организация не имеет организующих тенденций со специфической направленностью, а имеет только группу приблизительно одинаково сильных интересов, то воспоминание — простого рекапитулирующего типа. Это имеет место в повседневной жизни первобытной социальной группы. Вообще это характерно для такой умственной жизни, которая имеет сравнительно мало интересов, притом ее интересы конкретны, из которых, однако, ни один не доминирует. Но где имеются сильные, предпочтительные, постоянные, специфические социальные интересы, там воспоминание будет уже непосредственно относящимся к делу и не относящегося непосредственно к делу будет минимум. Бартлетт находит возможным говорить при объяснении такого воспоминания о социальных «схемах» его. Наконец, где эти сильные, предпочитаемые, постоянные социальные тенденции подвергаются энергичному общественному контролю (например, критикуются пришлой высшей группой или находятся в оппозиции с общей тенденцией общественного развития группы), там социальное воспоминание, сознательно или бессознательно, принимает творческий и изобретательский характер. В этом случае манера вспоминать становится более догматической и уверенной, и воспоминание нередко сопровождается возбуждением и эмоцией.
Бартлетт особо останавливается на процессе, как перерабатывается культурный материал, приходящий в данную социальную группу извне. Здесь имеет место, с одной стороны, ассимиляция, уподобление культурным формам, существующим в усваивающей группе, а с другой стороны,— симплификация, устранение элементов, являющихся особенностью той группы, от которой приходит материал. Однако в ряде случаев происходит также удержание некоторых этих деталей. Наконец, имеет место «социальное творчество» внутри усваивающей группы со стороны отдельных членов ее так, что получается в конечном счете как бы коллективный продукт. Весь этот процесс Бартлетт называет конвенционализацией.
Заслуживает внимания и метод, каким работал Бартлетт. С одной стороны, это — эксперимент по методу так называемой серийной репродукции, о котором мы уже имели случай говорить. С другой стороны, Бартлетт придает большое значение сравнительному изучению фольклора с однородным приблизительно содержанием, изменяющимся в зависимости от данной социальной группы.
Если разбор работы Жане мы оставили с выводом, что специфически человеческая память есть социальное явление, общественно определяемое, то работа Бартлетта помогает до известной степени выяснить вопрос, как общество определяет память индивидуума. Общество определяет как материал памяти, так и способ запоминания и вспоминания. Содержание, материал памяти определяется интересами индивида, которые являются в своей основе интересами соответствующей общественной группы. Так, в конечном счете, классовые интересы определяют в классовом обществе содержание памяти индивида. При этом нужно лишь не забывать, что дело не только в социально определенных интересах индивида, но и в общественных требованиях к его памяти: так, например, при условии всеобщего обучения общество требует, чтобы в таком-то возрасте граждане помнили то-то.
Бартлетт сравнительно много останавливался на способе вспоминать в тех или иных социально-исторических условиях. Подходя к этому вопросу другим путем, именно анализируя примитивное рассказывание, мы также установили в предыдущей главе, что детальная репродукция — примитивный вид вербальной памяти. Можно согласиться в основном с Бартлеттом, [когда он говорит] о различии манеры вспоминать в консервативном и преобразовывающемся обществе. Правда, его утверждения о способе вспоминать в преобразовывающемся обществе нуждаются в проверке и, вероятно, в поправках: они кажутся слишком априорными и общими. Большое значение имеет его учение о социальных схемах воспоминания; мы бы сказали, в сравнительно застывшем обществе устанавливаются социально обусловленные шаблоны манеры вспоминать. Можно даже, в виде гипотезы пока, предположить, что вообще различные исторические эпохи и разные общественные группы имеют свои схемы, свои шаблоны и манеры вспоминать.
Будущий исследователь истории человеческой памяти в рассказах и мемуарах различных эпох, как правильно указывает Бартлетт, найдет большой материал для этого. Но только здесь всегда будет трудность отличить своеобразно воспринятое от своеобразно запомненного. Я считаю, что по отношению к различным общественным группам возможно и экспериментальное исследование. Я производил такой опыт: наметив двух субъектов с противоположными классовыми установками, которые бы наверняка прочитывали ежедневно весь отдел телеграмм в «Известиях», расспрашивал их раз в шестидневку о прочитанном. Получились чрезвычайно любопытные результаты. Несмотря на то, что читали они одно и то же, ярко проявилось различие того, что запоминалось ими. Их память как бы подбирала соответствующий материал. Было поразительно, как один из них каждый раз серьезно и убежденно уверял, что «я этого не читал», «этого не было» и т. п. До такой степени он глубоко забывал прочитанное. Не менее велика была разница и в манере вспоминать: у одного это была скорее репродукция, у другого же — много пропусков и еще больше привнесений.
Таким образом, разбор книги Бартлетта мы заканчиваем выводами: 1) содержание памяти социально обусловливается как интересами той социальной группы, класса и т. д., к которой психологически принадлежит данный субъект, так и доминирующими общественными требованиями; 2) различные социальные группы и различные исторические эпохи имеют свои особые шаблоны запоминать и вспоминать.
Я добавил бы: они отличаются также и силой памяти. О французских белоэмигрантах эпохи Великой французской революции говорили, что они ничего не забыли и ничему не научились. Иными словами, у них было нечто вроде антероградной амнезии 128 в политической области, а, с другой стороны, в этой области они отчасти напоминали больную Жане. Маркс говорил об эпохе реакции, что ей свойственно забывать. С другой стороны, не так давно мы пережили период мемуаров.
128 Амнезия — нарушение памяти, чаще всего возникающее в результате патологического состояния мозга. Амнезия может быть общей или частичной. При общей амнезии человек не может ни вспомнить что-либо, ни запомнить новое. В результате частичной амнезии становится невозможным припомнить либо события, непосредственно предшествующие факту, вызвавшему патологическое состояние (антероградная амнезия), либо события, следующие за этим фактом (ретроградная амнезия), либо события, вызывающие сильные эмоциональные переживания, травмирующие человека.
Бартлетт в своей работе останавливался на социальной обусловленности содержания памяти и особенно манеры вспоминать, но на социальной обусловленности способа запоминать он мало останавливался. Как раз история запоминания занимает центральное место в работе тех советских психологов, которые поставили проблему памяти исторически. В 1930 г., т. е. за 2 года до опубликования работы Бартлетта, вышли «Этюды по истории поведения» Выготского и Лурия. В этой книге Выготский дает историю развития памяти первобытного человека. Следуя за Леви-Брюлем, он утверждает, что «в психике и поведении первобытного человека память играет гораздо более значительную роль, чем в нашей умственной жизни, потому что определенные функции, которые она выполняла некогда в нашем поведении, выделились из нее и трансформировались. Наш опыт конденсируется в понятиях, и мы поэтому свободны от необходимости сохранять огромную массу конкретных впечатлений. У первобытного же человека почти весь опыт опирается на память». Эта память первобытного человека, по Леви-Брюлю и Выготскому, качественно очень отлична от нашей: «Постоянное употребление логических механизмов, абстрактных понятий глубоко видоизменяет работу нашей памяти. Примитивная память одновременно и очень верна, и очень аффективна. Она сохраняет представления с огромной роскошью деталей и всегда в одном и том же порядке, в каком они в действительности связаны одни с другими. Во многих случаях... механизм памяти заменяет первобытному человеку логический механизм: если одно представление воспроизводит другое, это последнее принимается за следствие или заключение. Поэтому знак почти всегда принимается за причину». Таким образом, у первобытного человека превосходно развита натуральная, или естественная, память, которая как бы с фотографической точностью запечатлевает внешние впечатления. При этом — и это в высшей степени существенно — «первобытный человек должен полагаться только на свою непосредственную память: у него нет письменности».
Выготский примыкал к тем исследователям, которые считают, что первобытного человека отличает главным образом эйдетическая форма памяти, лежащая в основе всякого образного, конкретного мышления. В подтверждение этого Выготский ссылался на исследование Данцеля. Вслед за Данцелем он указывал, что в деятельности примитивной памяти нас поражает «непереработанность материалов», сохраняемых памятью, последовательная фотографичность ее, более высокая, чем у нас, репродуктивная функция ее. Второе, что характерно для нее, — ее комплексный характер: «первобытный человек в своей памяти вовсе не переходит с усилием от одного элемента к другому, потому что его память сохраняет ему целое явление как целое, а не части его». Наконец, первобытный человек еще плохо различает восприятие от воспоминания. Все это находит свое объяснение в эйдетическом характере примитивной памяти.
Из всего вышеуказанного Выготский сделал очень важный вывод: «Органическая память первобытного человека, или так называемая мнема, основа которой заложена в пластичности нашей нервной системы, т. е. в способности ее сохранять следы от внешних возбуждений и воспроизводить эти следы, — эта память достигает у первобытного своего максимального развития. Дальше ей развиваться некуда». Он даже утверждает, что «по мере врастания первобытного человека в культуру мы будем наблюдать спад этой памяти, уменьшение ее, подобно тому, как мы наблюдаем это уменьшение по мере культурного развития ребенка». Но тогда встает вопрос, по какому пути идет развитие памяти первобытного человека, если эта память, как единогласно показывают исследования, не совершенствуется в дальнейшем.
Выготский указывал, что примитивная память функционирует стихийно как естественная, природная сила. Человек пользуется ею, но не господствует над ней. Наоборот, эта память господствует над ним: «Она подсказывает ему нереальные вымыслы, воображаемые образы и конструкции. Она приводит его к мифологии... Историческое развитие памяти начинается с того момента, когда человек переходит впервые от пользования своей памятью как естественной силой к господству над ней». Накапливая психологический опыт, знание законов, по которым работает память, человек переходит к использованию этих законов. «Решительный шаг в переходе от естественного развития памяти к культурному заключается в перевале, который отделяет мнему от мнемотехники, пользование памятью — от господствования над ней, биологическую форму ее развития — от исторической».
Вместе с Леруа Выготский считал, что умение первобытного человека ориентироваться и восстанавливать сложные события по следам объясняется не памятью: без знака, следа он не находит дороги. «От следопытства первобытного человека, т. е. от его умения пользоваться следами как знаками, указывающими и напоминающими целые сложные картины, от использования знака первобытный человек на известной ступени своего развития переходит впервые к созданию искусственного знака. Этот момент есть поворотный момент в истории развития его памяти». «Клод считает первой стадией в развитии письменности мнемоническую стадию. Любой знак или предмет является средством мнемо-технического запоминания». Такими знаками у западноафриканских рассказчиков являются фигурки, каждая из которых напоминает какую-нибудь сказку, и, значит, все вместе является как бы примитивным описанием. Более абстрактным знаком являются узелки. «Стоит только сравнить память африканского посла, передающего слово в слово длинное послание вождя какого-нибудь африканского племени и пользующегося исключительно натуральной эйдетической памятью, с памятью перуанского "офицера узлов", на обязанности которого лежало завязывание и чтение квипу, для того чтобы увидеть, в каком направлении идет развитие человеческой памяти по мере роста культуры и — главное — чем и как оно направляется». Окончательный вывод Выготского: «Память совершенствуется постольку, поскольку совершенствуется система письма, система знаков и их использования. Совершенствуется то, что в древние и средние века называлось memoria technica, или искусственной памятью». Конечно, это оказывает влияние и на естественную или органическую память: она совершенствуется и развивается очень односторонне, приспособляясь к господствующему в данном обществе виду письма и, следовательно, во многих отношениях даже деградируя.
Хотя работа Выготского вышла раньше работы Бартлетта, мы занялись ею в последнюю очередь, так как работа нашего преждевременно умершего советского ученого представляет еще больший шаг вперед. Самое ценное в работе Выготского — указание, что решающим сдвигом в истории человеческой памяти является пользование знаками и изобретение мнемонических знаков. Как и Жане, Выготский сводит историю человеческой памяти к истории письменности, но у него вербальная человеческая память не появляется как deus ex machina, но, правильно отмечая репродуктивный характер ее в начале ее истории, он связывает ее с эйдетической памятью и тем самым не делает крупных ошибок, какие делает Жане, который чрезмерно отделяет репродукцию от памяти и считает, что образы имеются только на той стадии развития, когда [люди] уже способны давать описания. В отличие от Жане Выготский основывается на реальных исторических фактах, и потому у него нет той фантастической истории памяти, которую создает Жане.
Вместе с Выготским мы принимаем, что первоначально человеческая память в сильной степени была эйдетической памятью и что это — одна из причин (не единственная, по нашему мнению), почему примитивная человеческая память в такой сильной степени репродуктивная память. Точно так же мы согласимся с ним в том, что благодаря письменности память цивилизованного человека сильно отличается от памяти людей без письменности. Наконец, мы соглашаемся с ним в том, что история человеческой памяти есть история пользования и изобретения знаков. Очень важна и правильна также мысль Выготского, что человечество в ходе своего исторического развития переходит от пользования памятью как естественной, природной силой к господству над ней. Если Бартлетт выявляет скорее только факт социальной обусловленности памяти, то Выготский идет гораздо дальше: он хочет дать историю человеческой памяти в связи с основными эпохами истории культуры. Но преждевременная смерть нашего исследователя помешала ему развить, уточнить, а иногда и исправить свою концепцию. Поэтому мы не можем ограничиться ею в том виде, как она дана.
Прежде всего нет оснований сводить примитивную зрительно-образную память только к эйдетической памяти, которая всегда лишь один из видов этой памяти и, возможно, как это показывают эксперименты по эйдетизму у детей, не самый ранний вид ее. Следует говорить в таких случаях вообще о зрительно-образной памяти и даже шире — вообще о воображении как оперировании образами. Истории вербальной памяти предшествует история воображения — репродуцирующей образной памяти, фантазирования и творческого воображения. Тогда ясней стало бы, почему примитивная память не только репродукция, но и фантазия: и то и другое вместе. Мне кажется достойным сожаления, что Выготский не подчеркивал с достаточной энергией и частотой, что специфически человеческая память — вербальная память. Тогда в развитии своей очень верной мысли, что история человеческой памяти состоит главным образом в истории употребления и изобретения знаков, Выготский больше обратил бы внимание на то, что еще задолго до того, как человек стал писать, человек стал разговаривать; задолго до того, как он стал пользоваться письменными знаками, он стал пользоваться звуковыми знаками — словами. В истории человеческой памяти речь играет не меньшую, а даже большую роль, чем письменность: с письменности начинает свою историю память цивилизованного человека, а с речи начинает свою историю вообще память человека как существа, отличного от животного.
Выготский не был далек от этого хода мыслей. Рассуждая о языке, он говорит: «Первобытный человек не имеет понятий, абстрактные родовые имена для него совершенно чужды. Он пользуется словом реже, чем мы. Слово может быть употреблено как имя собственное, как звук, ассоциативно связанный с тем или иным индивидуальным предметом. В этом случае он является именем собственным, а при помощи него выполняется простая ассоциативная операция памяти. Мы видели, что в значительной степени примитивный язык стоит именно на этих ступенях развития... Вот почему мышление первобытного человека фактически отходит на задний план по сравнению с деятельностью его памяти». Судя по этим высказываниям, Выготский очень близко стоит к признанию факта, что с самого начата своей истории язык связан с простой ассоциативной операцией памяти и что в эту эпоху вследствие особенностей примитивного языка память стоит на первом месте по сравнению с мышлением. Характерно также, что в выше разобранном труде его он от памяти тотчас же переходит к речи. Но тем не менее он не развил до конца этих мыслей, и трудно сказать, пришел бы он в конце концов к выводу, что речь есть то, через что происходит переход от памяти к мышлению. Тема «Память и речь» осталась как бы недоработанной. С другой стороны, мало останавливаясь на воображении, развитие которого предшествует развитию вербальной памяти, Выготский не смог или не успел выяснить, как приходит человек к пользованию знаками. Больше того, он как будто бы разделяет мнение Леруа, что даже на самых первых порах (например, следопытство) «здесь выступают на первый план функции наблюдательности и умозаключения скорее, чем память». Не оспаривая роли наблюдательности, тем энергичней мы стали бы оспаривать роль умозаключения при пользовании знаками. Это утверждение никак не обосновано и не может быть обосновано. Ни первобытный человек, идущий по следам зверя, ни цивилизованный человек, читающий книгу, не осмысливают видимых знаков при помощи умозаключения: подумать только, сколько это заняло бы времени. Происходящий здесь процесс гораздо проще: это воображение. У Гегеля, материалистически прочитанного, можно было бы найти немало ценных замечаний о том, что символизм — одна из функций воображения, и именно здесь и начинается путь развития «создающей знаки фантазии». Выготский упустил из виду как раз роль этой фантазии при употреблении, пользовании и создании знаков.
7. Развитие памяти. В результате нашего изучения памяти мы пришли к выводу, что в основном существуют четыре основных вида памяти: моторная память, или привычка, аффективная, образная, память и, наконец, вербальная память. С генетической точки зрения самым элементарным из видов памяти является моторная память, или привычка. Так как рассмотрение этого вида слишком далеко отвлекло бы нас от основной темы нашего исследования «Память и мышление», : о мы специально не останавливались на изучении психологии привычки, и, пожалуй, только несколько положений здесь привлекает наше внимание. Привычку можно определить как предрасположение к определенным движениям, к большей возбудимости определенных движений в ответ на данный стимул при прочих равных условиях: при прочих равных условиях, я реагирую наиболее привычным движением. Привычка образуется в результате очень многократного действия стимула или вследствие достаточно частого повторения данного движения. В результате, правдоподобно предположить, происходят органические, в частности нервные, изменения. Стоя на точке зрения теории наследования приобретенных признаков, можно рассматривать инстинктивные движения как унаследованные в результате долгой истории родовые привычки. Подробнее рассмотрели мы аффективную память, которую интерпретировали как повышенную возбудимость определенных чувств, при прочих равных условиях, по отношению к данным (или однородным) стимулам. Наши симпатии и антипатии, наша осторожность, наше аффективное отношение к новому или уже знакомому (элементарное узнавание) объясняются в значительной степени часто аффективной памятью. Наша деятельность в большой мере состоит из инстинктивных и привычных движений, и наше отношение основывается часто на нашем аффективном опыте.
Инстинкты, привычки и аффективная память присущи не только животным, но и человеку. Печать их животного происхождения сохраняется и у человека: они отмечены сравнительной независимостью от воли (и обычно не ими управляют, но они управляют) и сравнительной далекостью от сознания,— психологи обычно говорят здесь о «бессознательном» и «подсознательном».
Память как движение и память как аффективное (обычно неосознаваемое) отношение — эти этапы своего развития память проходит еще до человека. Остается открытым вопрос, у человека ли в самые первые времена его полуживотной жизни или еще у самых высших животных начинается третий этап развития памяти — образная (может быть преимущественно обонятельная у некоторых животных и преимущественно зрительная у человека) память. Только с этих пор можно говорить о памяти не только как о моторно-аффективном опыте, но как о запечатлевшемся в представлениях знании, как об интеллектуальной памяти. На первых порах эта память функционирует как непроизвольная репродукция образов сенсорных впечатлений, притом очень склонная к трансформации образов и, следовательно, к искажению их. Непроизвольная репродукция и столь же непроизвольное трансформирование их — таковы первые стадии развития воображения, и возможно, что именно с них начинается развитие человеческой памяти в самые начальные моменты ее истории. Тогда непроизвольное образное воспоминание, быстро переходящее в фантазирование, является первой главой этой истории. Но развитие фантазии приводит к тому, что фантазия из пассивного фантазирования, искажающего действительность, становится продуктивной силой, оперирующей символами и знаками.
Речь — одно из основных отличий человека от животного, и именно вербальная память — специфически человеческая память. Но речь — средство социального общения, и вербальная намять — социальное явление, история которого уже социально обусловлена. Эта история еще не написана, и сейчас мы можем характеризовать ее только в общих чертах. На первых этапах человеческой истории вербальная память, вероятно, очень тесно сотрудничала с образной памятью, и поэтому ранняя вербальная память — репродуцирующая и в то же время фантазирующая память. Такова память человека в эпоху дикости, еще весьма несовершенная. На следующей стадии, в эпоху, отделяющую века дикости от веков цивилизации, вербальная память, судя по соответствующим источникам, достигает максимального расцвета. Возможно, что именно к этой эпохе следует отнести утверждение Бартлетта о воспоминании по более или менее твердым социальным «схемам». Именно в эту эпоху развилась социальная организация воспитания памяти в виде систематического словесного обучения, обязательного в варварских обществах в эпоху полового созревания юношей. Наконец, в эпоху цивилизации письменность создает новый этап истории человеческой памяти, которая уже прошла свой зенит. На смену гегемонии памяти идет гегемония мышления.