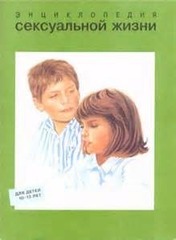VIII От мифа к структуре
Истина, кастрация, смерть.
Отец как структурный оператор.
Мертвый отец и есть наслаждение.
Действие и деятель.
Истерик хочет себе господина.
Одна из участниц наших собраний почла за благо — и я приношу ей за это искреннюю благодарность — отреагировать на высказанное мной в прошлый раз разочарование. Она с удовольствием — удовольствие, как вы знаете, это закон наименьшей затраты сил — сообщила мне, что на пути, куда мне предстоит вступить, у меня-таки есть предшественники.
Участница эта — я вижу сейчас, как она улыбается, и, поскольку она среди нас, почему бы и не назвать ее, это Мари-Клэр Бунс — послала мне подшивку очень интересного журнала под названием Бессознательное. Я не смог, по уважительным причинам, познакомиться с ее статьей раньше. Журнал этот, где есть, надо сказать, немало интересного, мне не выслали, не выслали, как это ни парадоксально, именно потому, что в принципе — по крайней мере это касается редакторского совета — он опирается на то, чему я учу. Мое внимание привлек номер, посвященный Отцовству, где я с большим вниманием прочел статью Мари-Клэр Бунс и еще одну, написанную нашим другом Конрадом Стайном.
Что касается статьи Мари-Клэр Бунс, то я готов, если она не против, воспользоваться сегодня ее текстом как материалом для комментария — при этом могут возникнуть несколько серьезных вопросов в отношении выбранного ей подхода к теме убийства отца у Фрейда. Я полагаю на самом деле, что в ней не найдется ничего такого, что опередило бы те — весьма скромные, надо сказать — соображение по поводу эдипова комплекса, которые я на момент публикации успел высказать.
Существует еще один подход, и я попытаюсь сегодня продвинуться сегодня несколько дальше, показав, что подход этот имплицитно присутствовал уже в тех осторожных шагах, которые я успел сделать. И тогда, может быть, то, что я хотел во время одной из наших встреч высказать, станет, задним числом, яснее, чем если бы я остановился подробно на некоторых моментах статьи, которая во многом представляет собой, на самом деле, своего рода подготовку почвы, введение в проблематику.
Можно высказаться здесь в пользу любого из этих методов — я предоставляю слово Мари-Клэр Бунс.
Затем я испробую второй поход.
1
Смерть отца. Любому известно на самом деле, что ключ ко всему тому, что высказывается, и не только под углом зрения мифа, о психоанализе, нужно искать именно здесь.
В конце своей статьи Мэри-Клэр Бунс дает понять, что из смерти отца следует множество важных вещей — то самое, в том числе, в силу чего психоанализ, в определенном смысле, освобождает нас от закона.
Вот она, великая надежда. Я знаю, на самом деле, что именно это имеют в виду, когда наклеивают на психоанализ ярлык анархизма.
Я полагаю, что дело обстоит совершенно иначе — в этом весь смысл того, что я называю изнанкой психоанализа.
Смерть отца, что вторит у Фрейда вести о смерти Бога, этому центру тяготения ницшеанской мысли, не способна, мне кажется, по природе своей принести нам свободу. И первое тому доказательство — это высказывания самого Фрейда на этот счет. В начале своей статьи Мари-Клэр Бун справедливо обращает внимание на то, о чем я говорил вам два занятия назад — о том, что весть о смерти отца не так уж несовместима с мотивом, который Фрейд, давая религии аналитическую интерпретацию, ей приписывает. Сама религия, иными словами, основана на чем-то таком, чтоФрейд, как ни удивительно, сам выдвигает на первый план — на представлении об отце как о том, кто заслуживает любви. И здесь заключен определенный парадокс, вызывающий у упомянутого мною автора некоторое смущение, поскольку оказывается, таким образом, что психоаналитик предпочитает поддерживать, сохранять для себя поле религии.
По этому поводу тоже можно сказать, что дело обстоит совершенно не так. Острием психоанализа является, конечно же, атеизм — при условии, разумеется, что он не сводится для нас к пресловутой смерти Бога, которая, судя по всему, не только не ставит то, о чем идет речь, то есть закон, под сомнение, а скорее придает ему прочности. Я давно уже говорил, что из фразы старика Карамазова Если Бога нет, то все позволено следует в контексте нашего опыта, что ответом на Бог умер служит, наоборот, не позволено ничего.
Чтобы высветить те горизонты, которые нам здесь открываются, будем исходить из смерти отца, поскольку именно ее, смерть отца, провозглашает Фрейд ключом к наслаждению, к наслаждению верховным объектом, идентифицированным с матерью, с матерью как объектом инцеста.
Убийство отца, понятное дело, входит во фрейдовское учение не в качестве попытки объяснить, что значит спать с матерью. Скорее наоборот — именно на фундаменте смерти отца возникает запрет на это наслаждение как изначальное.
Речь, на самом деле, идет не просто о смерти отца, а именно об убийстве отца — которое как раз и поставлено во главу угла нашим автором. Именно в мифе об Эдипе, в той форме, в которой он предстает у Фрейда, находится ключ к наслаждению. Но именно постольку, поскольку миф этот предстает нам в изложении Фрейда, рассматривать его следует в качестве того, что он собой представляет, то есть его явное содержание. И потому для начала важно это содержание грамотно артикулировать.
Миф об Эдипе, в том трагическом изводе его, которым Фрейд пользуется, показывает нам, что убийство отца является условием наслаждения. Пока Лай не устранен — в бою, где победа Эдипа вовсе означает для него вступление в наследство наслаждением матери, — пока Лай не устранен, повторяю, этому наслаждению не бывать. Но действительно ли ценой этого убийства Эдип его получает?
Вот здесь-то и выступает на первый план главное — выступает особенно выпукло именно в связи с тем, что Фрейд пользуется именно мифом в трагическом его оформлении. Эдип получает доступ к наслаждению в награду за избавление народа Фив от вопроса, попытка дать ответ на который погубила лучших его сынов, попытавшихся разрешить то, что представало им как загадка в двусмысленной фигуре сфинкса — полу-льва, полу-женщины, воплощении той полу-правды, в которую облечена истина. Дав сфинксу ответ, Эдип разрешает — в этом-то и заключена двусмысленность — то напряженное ожидание, которое породил в народе вопрос об истине.
Он и знать не знал, ответив на этот вопрос, до какой степени его ответ предвосхищает его собственную жизненную драму, как не знал он, что, сделав выбор, попадется в ловушку истины. Человек — вот разгадка, но кто знает, что он, человек, такое? Довольно ли будет того двусмысленного определения, что дал ему Эдип, сказав, что именно он ходит поначалу на четырех конечностях, потом на двух задних — здесь проявилось то, что его самого и всех потомков его отличало, по справедливому замечанию Леви-Стросса, неумение ходить прямо — а затем, наконец, на трех, с помощью посоха, который, хотя и не был белым посохом слепца, принял в случае Эдипа форму еще более поразительную, оказавшись его собственной дочерью Антигоной?
Что же произошло затем с истиной? Она удалилась? Но для чего? Не для того ли, чтобы оставить открытым то, что станет для Эдипа путем возвращения к ней? Ибо истина возникнет перед ним снова, возникнет тогда, когда он пожелает противостать беде куда более страшной, чем поначалу, беде, поражавшей не только тех, кто осмеливался отгадать заданную сфингой загадку, но коснувшейся на сей раз всего народа в форме чумы, этой загадочной болезни, виновником которой в античности считалась именно сфинга. Здесь-то Фрейд и показывает нам, что вопрос об истине встает для Эдипа снова, и результатом становится что? А то самое, что мы можем определить в первом приближении как нечто такое, что имеет по крайней мере некоторое отношение ккастрации, той цене, которую Эдип за истину заплатил.
Но все ли еще этим сказано? Ведь в результате отнюдь не бельмы спадают у него с глаз — нет, это глаза спадают у него как бельма. Не в этот ли объект, как мы видим, превращается на наших глазах Эдип, не претерпев кастрацию, нет, но став, скорее, кастрацией сам — в то самое, что осталось от него, когда исчезло с его лица, в форме глаз, одно из привилегированных воплощений объекта а?
Напрашивается подозрение — а не расплачивается ли Эдип за то, что он не унаследовал трон, а взошел на него, будучи выбран в качестве господина, человека, сумевшего вопрос об истине стереть бесследно? Другими словами, посвященные уже в суть дела моими словами, что суть позиции господина в его кастрации, разве не видите вы здесь указания, пусть прикровенного, на тот факт, что именно в кастрации берет свое начало то, что и предстает, собственно говоря, как наследование?
Если кастрация — как любопытным образом нам это всегда подсказывала фантазия никогда не связывая, однако, этого факта с основополагающим мифом об убийстве отца — если кастрация, повторяю, является уделом сына, не она ли, та же кастрация, оказывается царским путем к выполнению функции отца? Это дает о себе знать в нашем опыте. Не свидетельствует ли это о том, что кастрация передается от отца к сыну?
Но можно ли говорить тогда, что именно смерть послужила всему началом? Не свидетельствует ли все, напротив, о том, что перед нами своего рода дымовая завеса? Возникшее и опробованное с позиции аналитика в субъективном процессе, где функция кастрации дает себя знать, не оказывается ли это чем-то таким, что, тем не менее, скрадывает этот процесс, его вуалирует, берет его, так сказать, под свое покровительство, избавляя нас тем самым от необходимости заострять внимание на том, что позволило бы раз и навсегда строго определить позицию аналитика.
Почему это так получилось? Не лишне в этой связи отметить, что миф об убийстве отца как основополагающем факте впервые встретился Фрейду при истолковании сновидения, и что в нем, сновидении этом, нашло выражениепожелание смерти. Конрад Стайн в своей статье подвергает его интересному критическому разбору, показывая, что эти пожелания смерти своему отцу усиливаются в тот момент, когда смерть эта стала реальностью. Само Толкование сновидений выросло, по словам Фрейда, из смерти его отца. Фрейд, таким образом, хотел бы видеть себя виновным в смерти отца.
Не очевиден ли здесь, спрашивает автор статьи, знак чего-то другого, что за этим скрывается — пожелания, чтобы отец был бессмертен?
Истолкование это соответствует принципам аналитического психологизма, основанного на той предпосылке, что сущность позиции ребенка состоит в представлении о всемогуществе, делающем его неподвластным смерти. От автора, эту предпосылку разделяющего, подобной интерпретации, если хотите, и следует ждать. Напротив, если подойти к предпосылке относительно позиции ребенка критически, станет ясно, что к вопросу о пожелании смерти и тому, что за ним стоит — если за ним, конечно, что-то стоит — нужно подойти с другой стороны.
Прежде всего можем ли мы, зная, что субъективная структура обусловлена введением означающего, видеть фундамент этой структуры в чем бы то ни было, что называлось бы познанием смерти?
Следуя своей линии, Конрад Стайн необычайно искусно пользуется фрейдовским анализом нескольких основных сновидений — в том числе знаменитой просьбы закрыть глаза, с двусмысленностью этого загражденного глаза, фигурирующего у него в качестве альтернативы, — чтобы истолковать пожелание смерти как отрицание ее ради представления о всемогуществе.
Но возможно и другое прочтение.
2
Иной смысл становится ясен, если рассматривать последнее сновидение в этой серии как центральное, что я в свое время и сделал.
Сам Фрейд особо выделил то сновидение — не свое собственное, а одного из своих пациентов — в котором прозвучали слова «он не знал, что он мертв».
Анализируя это сновидение, я записал его на двух уровнях — акта высказывания и его содержания. Сделано это было, чтобы напомнить, что возможно одно из двух: либо смерти не существует и нечто переживает ее — что не решает еще вопрос о том, знают ли мертвые, что они мертвы; либо по ту сторону смерти нет ничего — и ясно тогда, что они этого не знают. Так что никто, по крайней мере из живущих, не знает, что такое смерть. Интересно, что спонтанные формулировки, возникающие на уровне бессознательного, говорят о том, что смерть для кого бы то ни было, строго говоря, непознаваема.
Я подчеркнул в свое время, что жизнь не может обойтись без того, чтобы нечто абсолютно неразрушимое в нас не знало — не то что мы мертвы, так как в качестве нас мы отнюдь не мертвы, не все одновременно, во всяком случае, что и держит нас на плаву, — чтобы нечто, повторяю, не знало, что мертв Я. Я действительно мертв, мертв в том смысле, что обречен смерти — но во имя чего-то, что этого не знает, не хочу этого знать и я сам.
Именно это и позволяет нам строить всю нашу логику на том всяком человеке — всякий человек смертен — которого поддерживает лишь незнание о смерти. Это же самое вселяет в нас уверенность в том, будто слова всякий человек что-то значат, будто они означают всякого человека, рожденного от отца, по вине которого, объясняют нам, поскольку он мертв, человек не может насладиться тем, чем ему на роду написано насладиться. Фрейдовская терминология устанавливает, таким образом, эквивалентность мертвого отца наслаждению. Именно он, отец этот, держит наслаждение, так сказать, про запас.
Итак, фрейдовский миф, если взять его не на уровне трагического с его возвышенной тонкостью, а на уровне мифа в Тотеме и табу, это миф об эквивалентности отца наслаждению. Это и есть то самое, что получает у нас название структурного оператора.
Миф выступает здесь за собственные пределы и выдает себя за реальное, провозглашая, на чем Фрейд как раз инастаивает, что событие это и вправду произошло, что оно имело место в реальной действительности, что мертвый отец и есть страж наслаждения, источник наложенного на него запрета.
То, что мертвый отец и есть наслаждение, знаменует невозможность как таковую. Именно поэтому обнаруживаем мы здесь те же термины, которыми я воспользовался в свое время, чтобы указать на радикальное отличие Реального от двух других у меня с ним связанных категорий
— Воображаемого и Символического. Реальное — это невозможное. Не в смысле стенки, в которую мы упираемся лбом, а в качестве логической границы того, что заявляет о себе в Символическом как невозможное. Именно отсюда берет начало Реальное.
Здесь вырисовывается по ту сторону эдипова мифа знакомый структурный оператор в лице так называемого реального отца — отца, обладающего тем свойством, что он, в качестве парадигмы, служит водворению в сердцевине системы Фрейда того, что является отцом Реального
— Реального, которое вводит в учение Фрейда элемент невозможного.
А это значит, что учение Фрейда не имеет ничего общего с психологией О психологии этого пра-отца ни малейшего представления составить нельзя. Сама фигура его, какой она предстает у Фрейда, откровенно смешна, и мне нет нужды повторять вам то, что я уже говорил на прошлой неделе
— чтобы кто-то имел всех женщин зараз, невозможно себе представить, так как все мы знаем, что даже одной-единс-твенной угодить непросто. И это отсылает нас к совершенно иному понятию, кастрации — понятию, которым теперь, определив его как принцип господствующего означающего, нам можно воспользоваться. Что это значит, я вам к концу занятия покажу.
В дискурсе господина наслаждение предстает как то, что достается Другому — именно у него в распоряжении находятся к тому все средства. То, что является языком, получает его лишь настаивая на своем до тех пор, пока не возникает утрата — утрата, в которой находит свое воплощение избыто(чно)е наслаждение. Первоначально язык, дажеязык господина, не может представлять собой ничего иного, как требование, требование безуспешное. Не из успеха, а из повторения рождается то новое измерение, что названо у меня утратой — утратой, в которой избыто(чно)е наслаждение воплощается.
Это повторяющееся творение, создание измерения, в котором занимает свое место все то, о чем способен судить аналитический опыт, может проистекать из первоначальной беспомощности, беспомощности ребенка — и всемогущество, напротив, здесь не при чем. Если психоанализу удалось доказать, как выяснилось, что ребенок — это отец мужчины, то это значит, что должно непременно быть где-то нечто такое, что является между ними посредником. Это и есть инстанция господина — инстанция, именуемая так потому, что из любого, практически, означающего она делает означающее господина.
Говоря в свое время о том, во что выливается объектное отношение во взаимодействии с открытой Фрейдом структурой, я заявил, что реальный отец — это агент кастрации. Но заявил я это не прежде чем указал на существенное различие между кастрацией, фрустрацией и лишением. Кастрация — это функция по сути своей символическая, то есть немыслимая без артикуляции означающих, фрустрация — функция Воображаемого, а лишение, само собой разумеется — Реального.
Что можно сказать о результатах этих трех операций? Что касается первой из них, кастрации, то объектом ее становится загадка, которую ставит перед нами такой явно воображаемый предмет, как фаллос. Во фрустрации, напротив, дело всегда идет о чем-то вполне реальном, хотя притязания, лежащие в ее основе, берут начало в чисто воображаемой идее о том, будто реальное это кто-то вам должен, что еще далеко не факт. Что до лишения, то ясно, что оно может располагаться только в символических координатах, так как в реальном никакой нехватки не может быть — что реально, то реально, и тот существенный элемент, без которого мы не были бы в реальном сами, элемент нехватки — ведь именно он характеризует субъекта в первую очередь — обязательно должен быть в реальное привнесен извне.
А вот что касается агентов этих трех операций, то в отношении их я был — совершенно этого не скрывая, несколько менее эксплицитен. Отец, реальный отец, есть не что иное, как агент кастрации — это и есть то самое, что попытка представить реального отца в качестве невозможного предназначена от нас скрыть.
Что это такое — агент? На первый взгляд, мы соскальзываем в фантазм, где отец предстает кастратором. Интересно, что ни один из мифов, к которым обращается Фрейд, ни в какой форме своей ничего подобного не содержит. Кастрироваными сыновья предстают вовсе не потому, что в какой-то первой, гипотетической, еще чисто животной стадии они не имели, якобы, доступа к женской половине стада. Кастрация как выражение запрета не могла, в любом случае, возникнуть иначе, как на второй стадии, стадии мифа об убийстве отца орды, и источником ее является, если следовать мифу, общее соглашение, то странное initium, на проблематичность которого я в последний раз обратил внимание.
Термин акт, поступок, тоже требует пояснения. Если принять то, что я говорил в этом отношении, рассуждая об аналитическом акте, всерьез, если поступок действительно оказывается возможен не иначе, как в контексте всего того, что означающее, войдя в мир, в него привнесло, то в начале поступок оказаться никак не может, а тем более поступок, который можно охарактеризовать как убийство. Миф не может иметь здесь иного смысла, кроме того, к которому я его свел, то есть высказывания невозможного. Вне поля, артикулированного настолько полно, чтобы в нем изнутри был заложен закон, совершить поступок нельзя. Не существует поступка, который не имел бы к эффектам этой значащей артикуляции отношения и не нес бы в себе всю его проблематику — как тот провал, который предполагает, или к которому сводится, само существование чего-то такого, что можно наименовать субъектом, с одной стороны, так и то, что предсуществует поступку в качестве законодательной функции, с другой.
Не вытекает ли функция реального отца в деле кастрации из природы самого поступка? Предложенный мноютермин агент как раз и позволяет не считать этот вопрос предрешенным.
Слово агент ассоциируется в языке со множеством других, ему родственных. Со словом актер, например. Со словом акционер тоже — почему бы и нет? Ведь слово это происходит из того же слова акция, означающего действие и показывает нам, что действие — это не совсем то, что мы думали. Со словом активист тоже — разве не означает оно того, кто считает себя чем-то большим, чем простым орудием чужой воли? Или, в нашей ситуации, с Актеоном — прекрасный пример для тех, кто знает, что это слово в терминах фрейдовской вещи значит. С тем, наконец, кого мы просто называем моим агентом. Вы все знаете, что это последнее выражение значит — оно значит: я ему за это плачу. Или даже: я возмещаю ему убытки, связанные с тем, что больше ему заняться нечем, или еще: я плачу ему гонорар — выражение, дающее понять, что он, якобы, способен на что-то еще.
Коннотации термина подсказывают, таким образом, на каком уровне реальный отец выступает в качестве агента кастрации. Реальный отец выполняет функции головного агентства (Гagence-maоtre).
3
Функции агента становятся в наше время все более для нас привычными. Мы живем в эпоху, когда мы знаем, что за этим стоит — реклама, барахло, которое надо во что бы то ни стало сбыть с рук. Но мы знаем, с другой стороны, что именно на этом держится ход вещей, именно благодаря этому достигли мы пароксизма, расцвета дискурса господина в обществе, которое на этом дискурсе зиждется.
Час уже поздний.
Мне придется кое-что опустить, но я все-таки упоминаю об этом и мы к этому в дальнейшем еще вернемся, так как то, о чем идет речь, для меня важно и достойно, на мой взгляд, более пристального рассмотрения. Поскольку функция агента особо мною выделена и подчеркнута, мне хотелось бы однажды продемонстрировать вам все, что можно из неевывести, если воспользоваться понятием двойного агента.
Все мы знаем, что в нашу эпоху фигура эта неизменно оказывает завораживающее воздействие. Агент, которому одного этого мало. Он не довольствуется, как все, ролью представителя господина на рынке. Он полагает, что то единственно стоящее, с чем он вступает в контакт, наслаждение, не имеет с нитями сети ничего общего. И работая, он сохраняет для себя, в конечном итоге, именно это.
Это странная история и из нее следуют далеко идущие выводы. Настоящий двойной агент — это агент, полагающий, что то, что в сети не попадает, тоже необходимо прибрать к рукам. Потому что если это что-то оказывается истинным, настоящим, то настоящей становится и его деятельность, более того — первоначальная его деятельность, которая была, конечно же, чистой воды надувательством, становится настоящей сама.
Именно это, наверное, руководило человеком, который взял на себя, неизвестно почему, функции эталонного агента дискурса господина — дискурса, легитимность которого построена на сохранении им того, чью сущность один автор, Анри Массис, пророчески обрисовал афоризмом стены прекрасны. Человек этот, носящий вызывающее ассоциации с Хайдеггером имя Зорге, ухитрился внедриться в нацистскую агентуру и стать двойным агентом — в пользу кого, вы думаете? В пользу Отца Народов, от которого все и ожидают как раз, что он приберет к рукам и истину тоже.
Приведенная мною в пример фигура Отца Народов имеет немало общего с фигурой реального отца как агента кастрации. Поскольку фрейдовское учение не может, хотя бы потому уже, что говорит он о бессознательном, не отправляться от дискурса господина, пресловутый реальный отец не может предстать в нем иначе, как невозможным. И все же мы его, этого реального отца, знаем — только это нечто совсем иного порядка.
Всем, во-первых, известно, что он работает, и работает, чтобы прокормить семью. Даже являясь агентом какого-нибудь общества, которое, конечно же, держит его в черном теле, он сохраняет в себе очень приятные стороны. Он трудяга. К тому же ему очень хотелось бы быть любимым.
Есть вещи, которые свидетельствуют о том, что миста-гогия, сделавшая из него тирана, имеет совсем иное происхождение. Она возникает — как, впрочем, Фрейд всегда и дает понять — на уровне реального отца как языковой конструкции. Реальный отец — это не что иное, как эффект языка, и ничего другого реального в нем нет. Я не говорю — другой реальности, так как реальность — это совершенно иное дело. Об этом я вам только что говорил.
Я мог бы пойти еще дальше и обратить ваше внимание на то, что понятие реального отца несостоятельно с точки зрения науки. Есть только один реальный отец — это сперматозоид, и никому еще, пока свет стоит, не приходило в голову объявить себя сыном того или иного сперматозоида. Можно, естественно, ссылаясь на группу крови и резус-фактор, такие вещи оспаривать. Но эти новомодные штучки не имеют ничего общего с тем, что называли до сих пор отцовской функцией. Я понимаю, что вступаю на зыбкую почву, но что ж, тем хуже — не надо быть членом племени аранда, чтобы поинтересоваться при виде беременной женщины, кто является реальным отцом ребенка. Если есть вопрос, которым анализ вправе задаться, так это именно этот. Почему в психоанализе реальным отцом — подобные подозрения время от времени возникают — не может оказаться сам психоаналитик? Даже если это сперматозоиды совсем не его? Такое приходит иногда в голову, когда в связи, скажем мягко, с аналитической ситуацией, пациентка становится, в конце концов, матерью. Не нужно принадлежать к племени аранда, чтобы задаться вопросами о функции отца.
Заметим тут же, взглянув на вещи шире, что для того, чтобы этот вопрос возник, не обязательно обращаться к столь актуальному для нас примеру психоанализа. Можно отлично сделать ребенка от собственного мужа, и при этом ребенок этот останется ребенком кого-то другого, с которым мать даже и не спала — останется потому лишь, что хотела она ребенка именно от него. И только поэтому, собственно, ребенка и родила.
Это уводит нас, как видите, в сторону сновидения. Но единственная моя цель при этом — это вас разбудить. Заметив, что измышления Фрейда — не на уровне мифа, конечно, и не на уровне распознавания в сновидениях пациентов пожелания смерти — это его, Фрейда, сновидение, я хотел лишь сказать, что аналитик должен, на мой взгляд, из плоскости сновидения хотя бы немного вырваться.
То, что встретил психоаналитик, следуя Фрейду в его блестящих открытиях, то, что он из этой встречи извлек, не устоялось еще окончательно. В прошлую пятницу я демонстрировал на показе больных одного господина — я не знаю, собственно, почему надо его называть больным — с которым произошло нечто такое, в результате чего энцефалограмма его, как объяснила мне сестра, всегда соответствует пограничному состоянию между сном и бодрствованием, колеблясь таким образом, что никогда не известно, в какой момент он перейдет из одного состояния в другое, и в таком положении он постоянно и пребывает. Примерно так представляю я себе своих коллег-аналитиков и, возможно, себя самого. Шок, вызванная рождением анализа травма, погрузила их в подобное состояние. Поэтому они и хлопают крыльями, пытаясь вытянуть из фрейдовских формулировок что-нибудь ценное.
Не то, чтобы это совсем им не удавалось, но хотелось бы, чтобы они разглядели, например, вот что. Именно позицией реального отца — позицией, которая, по логике Фрейда, оказывается невозможной — обусловлено то, что отец непременно предстает в воображении как фигура, причиняющая лишение. Это не воображение мое или ваше, это связано с самой позицией. Не удивительно, что мы все время встречаемся с отцом воображаемым. И обусловлено это, повторяю, железной, структурной зависимостью от чего-то такого, что, напротив, ускользает от нас — от отца реального. А определить реального отца сколь-нибудь строго нельзя иначе, как в качестве агента кастрации.
Кастрация — это не то, что всякий, кто занимается психологией, под этим выражением понимает. Еще недавно один из членов аттестационной комиссии, явно склонный видеть в психоанализе род душепопечения, заявил так — знаете, сказал он, для нас кастрация это всего лишь фантазм. Ничуть не бывало. Кастрация — это реальная операция, являющаяся последствием вмешательства в отношения междуполами означающего, безразлично какого. Она-то, разумеется, и делает из отца то невозможное реальное, о котором мы говорили.
Нам предстоит теперь разобраться в том, что эта не являющаяся фантазмом кастрация — кастрация, вследствие которой не существует причины желания, не являющейся ее продуктом, а фантазм подчиняет себе всю реальность желания, то есть закон, — что конкретно она, кастрация эта, собой представляет.
Что касается сновидения, то все мы знаем теперь, что оно не что иное, как требование, означающее, которое оказалось на воле и теперь плачет и переминается с ноги на ногу, абсолютно не представляя себе, что оно хочет. Мысль о том, что в основе желания лежит всемогущий отец, опровергается тем фактом, что свои господствующие означающие Фрейд заимствовал из дискурса истерика. Не следует забывать, что именно отсюда исходил Фрейд, не скрывавший, что является для него центральным вопросом. Услышанное было усвоено им так бережно, что повторить это сумела даже ослица, понятия не имея, о чем идет речь. Вопрос этот, конечно — чего хочет женщина?
Некая женщина (une femme), но не абы какая. Сам вопрос предполагает, что она чего-то да хочет. Фрейд не спросил — чего хочет Женщина? — Женщина вообще, Женщина с большой буквы. Откуда мы знаем, в конце концов, хочет Женщина чего-нибудь, или нет? Я не сказал бы, что она смирилась со всем, ска- Kinder, Kьchen, Kirche — наша хозяйка вполне сжилась, но есть и много других — культура, киловатт, кульбит, например, или Cru et Cuit, сырое и вареное — она поглощает все, все ей идет на пользу. Но задавшись вопросом чего хочет женщина? вы оказываетесь на почве желания, а поставить вопрос на почву желания, означает — если речь идет о желании женщины — искать ответа у истерички. Чего истеричка хочет — я говорю это для тех, кто не является профессионалом, таких здесь много — так это господина. Это ясно. Это настолько очевидно, что напрашивается вопрос — а не ими ли господин был изобретен? Это был бы изящный способ нашу мысль подытожить.
Она хочет господина. То самое, что видите вы в схемеистерического дискурса наверху справа. Она хочет, чтобы другой был господином, чтобы он знал много разных вещей, но не настолько много, чтобы не верить больше, что именно она является верховной наградой за все его знания. Другими словами, она хочет господина, над которым могла бы царствовать. Она царствует, а он не правит.
Вот из чего Фрейд исходит. Она — это истеричка, но это не обязательно связано с определенным полом. Стоит вам задаться вопросом — а что хочет такой-то? — как вы немедленно задействуете функцию желания и обнаружите господствующее означающее.
Фрейд выработал некоторое количество господствующих означающих, связав их таким образом со своим именем. Имя используется как затычка. Меня удивляет, что с затычкой вроде имени отца, каково бы оно ни было, можно связать представление о том, будто на этом уровне могло иметь место убийство. Кому могло прийти в голову, будто одна преданность имени Фрейда делает аналитиков тем, что они есть? Они просто не могут избавиться от выработанных Фрейдом господствующих означающих, вот и все. И держатся они не за Фрейда, а за означающие — бессознательное, например, соблазнение, травматизм, фантазм, Я, и так далее. О том, чтобы из этого круга означающих выйти, и речи не может быть. На этом уровне им никакого отца убивать не надо. Нельзя быть отцом означающих, отцом можно быть разве что по причине оных. На этом уровне никаких проблем нет.
Проблема начинается там, где наслаждение отделяет господствующее означающее как нечто такое, что хотели бы приписать отцу, от знания в качестве истины. Препятствие на схеме дискурса аналитика располагается там, где я нарисовал треугольник — между тем, что может возникнуть в какой бы то ни было форме в качестве господствующего означающего, с одной стороны, и местом, которое занимает знание, когда оно выступает в качестве истины, с другой.

Это и позволяет сформулировать, как обстоит в действительности дело с кастрацией: даже для ребенка, что бы ни
164
измышляли на этот счет, отец — это тот, кто об истине ничего не знает.
Я вернусь к этому на нашей ближайшей встрече.
18 марта 1970 года.
Дополнение
Очередное занятие: Радиофония.
Я не знаю, чем вы занимались то время, пока мы не встречались. Оно, в любом случае, не прошло для вас даром. Что до меня, то я пользуюсь случаем сообщить особе, любезно представившейся сорбоннским неучем, что мне прислали из Копенгагена книжку Зеллина, которую я разыскивал — ту самую маленькую книжку 1922 года издания, которая оказалась впоследствии предана забвению и которая как раз и внушила Фрейду уверенность в том, что Моисей был убит.
Насколько я знаю, кроме Джонса и еще двух-трех человек, психоаналитики этой книгой особенно не интересовались. Тем не менее текст Селина достоин внимания, поскольку Фрейд считал его очень важным, и если мы хотим в его мнении разобраться, книгу, конечно, надо читать. Мне кажется, что это лежит вполне в русле того, что мы в этом году об изнанке психоанализа говорили. Но поскольку книгу эту я держу в руках всего пять дней, а написана она на немецком весьма густом, куда менее прозрачным, нежели тот, к которому мы привыкли, читая Фрейда, я, сами понимаете, несмотря на помощь, которую любезно предоставили мне несколько раввинов, больших и маленьких — ладно, больших, маленьких раввинов не бывает, — не готов сегодня ее подытожить
— во всяком случае, удовлетворительным образом.
С другой стороны, получилось так, что меня попросили
— не в первый раз, это была просьба уже давнишняя — ответить на вопросы бельгийского радио. Просьба эта поступила со стороны господина Жоржена, человека, снискавшего, прямо скажу, мое уважение тем, что прислал мне длинный текст, свидетельствующий по меньшей мере о том, что автор, в отличие от многих других, действительно прочел мои «Йcrits». Он не извлек из них, конечно, всего, что мог, но и это, в конечном счете, уже неплохо. По правде говоря, я был даже польщен. Не то чтобы идея выступать по радио меня увлекла — это всегда большая потеря времени. Но поскольку, мне кажется, он все организовал так, чтобы сделать дело как можно быстрее, я, наверное, пойду его просьбе навстречу.
Зато я не знаю, пойдет ли, наоборот, навстречу мне он, поскольку отвечая на эти вопросы — три из этих ответов вы сегодня услышите — я счел за благо ответить на них в письменной форме, не надеясь на минутное вдохновение, на тот импульс, который каждый раз, когда я нахожусь здесь перед вами, мною руководит — импульс, питающийся многочисленными заметками и передающийся вам, свидетелям моей одержимости.
Другое дело, когда выступать приходится перед десятками, а то и сотнями тысяч слушателей — такое выступление, лишенное, к тому же, зримой опоры, может привести к совсем иным результатам.
Я в любом случае отказался бы дать что-либо кроме этих текстов, уже написанных. Это требует большого доверия к аудитории, так как, вы сами увидите, заданные мне вопросы лежат, как и следовало ожидать, где-то на середине между строгими построениями, с одной стороны, и тем, что я называю общественным сознанием, с другой. Общественное сознание — это, помимо прочего, серия общих формул. Подобный язык уже у древних, у греков, получил название койне. По-французски можно передать это как соигпее, писк. Койне ойкает.
Я далек от того, чтобы койне презирать. Просто я полагаю, что оно, прибегая к речи предельно грубой, способствует своего рода быстрой кристаллизации.
Вот почему сегодня я поделюсь с вами ответами на три из этих вопросов. Я делаю это не для того, поверьте, чтобыоблегчить себе жизнь, так как, я уверяю вас, прочесть эти тексты для меня куда тяжелее, чем провести с вами обычное занятие.
Чтобы не терять время, я зачитываю для вас первый из этих вопросов, который звучит так — Вы утверждаете в вашей книге, что Фрейд, сам того не зная, предвосхищает исследования Соссюра и работы Пражского кружка. Не могли бы вы дать разъяснения по этому поводу?
Ответом служит следующий текст, импровизацией, как я уже предупредил, не являющийся.
[Зачитанный текст ответов на три вопроса был опубликован в дальнейшем под заглавием Радиофония в сборнике Scilicet, № 2–3, опубликованным издательством Seuil. ]
9 апреля 1970 года.