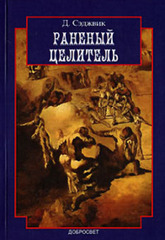РАЗДЕЛ ВТОРОЙ. ЖАЛОБЫ И СИМПТОМЫ
Глава одиннадцатая. ОТЕЦ И ДЕТИ
Давайте для начала позволим рассказать о том, как развивались события в том достопамятном 1910 году, самому Фрейду.
«Спустя два года после первого состоялся второй частный конгресс психоаналитиков, на этот раз в Нюрнберге (март 1910 г.), — писал он в „Очерке истории психоанализа“. — За этот промежуток времени под впечатлением того приема, который был оказан психоанализу в Америке, всё возрастающему враждебному отношению в немецких странах и неожиданному усилению психоанализа вследствие присоединения цюрихской школы, у меня возникло намерение, которое при содействии моего друга Ш. Ференци я и привел в исполнение на этом втором конгрессе. Я решил организовать психоаналитическое движение, перенести его центр в Цюрих и поставить во главе его человека, который позаботился бы о его будущем. Так как учреждение это вызвало среди сторонников психоанализа много разногласий, я хочу подробнее изложить мои мотивы. И я надеюсь тогда на оправдание, если бы даже оказалось, что я действительно не сделал ничего разумного. Я считал, что связь с Веной молодому движению не в пользу, а во вред. Центр вроде Цюриха, сердца Европы, где академический преподаватель дал психоанализу доступ в свой институт, сулил мне куда больше надежд. Далее я полагаю, что второй помехой является моя личность, оценка которой слишком спуталась из-за партийной ненависти и пристрастия; то меня сравнивали с Дарвином, Кеплером, то ругали паралитиком. Я хотел поэтому отодвинуть себя на второй план, так же, как и тот город, где возник психоанализ. К тому же я уже не был молодым, видел перед собой долгий путь, и мне было тяжело, что на мою долю в таком возрасте выпала обязанность быть вождем. Но ведь должен же кто-нибудь быть вождем, думал я… Мне было поэтому важно передать эту авторитетную роль более молодому человеку, который после моей смерти, разумеется, стал бы моим заместителем. Таковым мог быть только К. Г. Юнг, так как Блейлер приходился мне ровесником, в пользу же Юнга говорили его выдающееся дарование и уже внесенные им вклады в анализ, его независимое положение и впечатление уверенной в себе силы, которая производила его личность. К тому же он готов был вступить со мной в дружеские отношения и отказался ради меня от расовых предрассудков, которыми раньше он был заражен. Я и не подозревал тогда, как неудачен был этот выбор при всех его выгодах…»201
201 Фрейд З. Избранное. С. 48.
Всё, разумеется, было и так, и не так одновременно. Но как бы то ни было, первые месяцы 1910 года Фрейд и в самом деле напряженно занимался подготовкой 2-го Международного психоаналитического конгресса, продолжая одновременно принимать пациентов, выдвигать новые идеи, писать статьи и улаживать неприятности.
Неприятностей, надо заметить, хватало.
Увлекшись «психобиографиями», члены Венского психоаналитического общества начали публиковать в австрийской и немецкой прессе статьи, в которых искали сексуальные мотивы в творчестве великих писателей, художников и композиторов, копаясь в их жизнях. Когда дело дошло до Гёте и до утверждений, что творец «Фауста» («это наше всё!» для любого немца и австрийца) явно занимался в юности онанизмом, терпение издателя либеральной газеты «Факел» Карла Крауса лопнуло. До того симпатизировавший психоанализу, он открыто перешел в лагерь его противников.
Фриц Виттельс, который соперничал с Краусом в борьбе за любовь актрисы Ирмы Крачевской, представил в январе 1910 года собранию психоаналитиков «психобиографию» Крауса под названием «Невроз „Факела“». По сути дела, это был памфлет, представляемый как научный труд. Виттельс высмеивал в ней «маленький орган „Факел“», испытывающий комплекс неполноценности по сравнению «с большим органом „Нойе фрайе прессе“».
Фрейд был отнюдь не в восторге от этой статьи Виттельса, содержание которой, как он и предполагал, очень скоро было передано Краусу той же Крачевской. В ответ Краус набросился на психоаналитиков с новыми нападками, и 13 февраля Фрейд в письме Ференци жаловался, что «психоанализ оказался под угрозой из-за яростных нападок „Факела“ в связи с лекцией Виттельса».
Фрейд призвал учеников сдерживаться и не лезть в дискуссию, но Виттельса уже понесло — он засел за сатирический роман против Крауса. И снова — разумеется, через «общую подругу» — отрывки из романа попали к Краусу. На этот раз Краус обратился к адвокату, но направил его не к Виттельсу, а к «папе Фрейду». Адвокат пригрозил судом. Фрейд немедленно потребовал, чтобы Виттельс показал ему гранки уже набранного романа. Последний пытался отказаться, но Фрейд настоял, заявив, что не позволит какой-то «необдуманной книге» вредить судьбе психоанализа. В итоге Фрейду удалось лишь оттянуть выход роман Виттельса — тот все-таки был издан осенью 1910 года и повлек за собой иск Крауса против Виттельса. Что, как и рассчитывал Виттельс, лишь увеличило объем продаж его книги.
Тем временем подготовка ко второму конгрессу шла полным ходом, и Фрейд с Ференци и Юнгом тщательно продумывали его расписание. Разумеется, Фрейд произносил в переписке с ними те же слова, которые он потом повторил в «Очерке истории психоанализа», о том, что он уже стар, что движению нужен молодой лидер, и в качестве такого лидера называл Юнга.
Сама конференция состоялась на самом деле не в апреле, а 30–31 мая 1910 года в нюрнбергском отеле «Гранд». Согласно разработанному плану Ференци почти с ходу призвал организовать Международное психоаналитическое общество и предложил Юнга на роль его президента. Причем президента пожизненного, с правом подвергать цензуре и даже запрещать к публикации любую статью или лекцию любого психоаналитика.
Это условие, разумеется, никак не могло понравиться членам Венского общества — во-первых, потому, что они справедливо увидели в нем покушение на входившую в моду демократию, а во-вторых, по той причине, что им не нравился Юнг. В зале поднялся невообразимый шум, и конференцию пришлось приостановить. Венская группа во главе со Штекелем собралась на закрытое заседание, «забыв» пригласить на него Фрейда. Но Фрейд явился без приглашения и решил здесь, в узком кругу, за закрытыми дверьми, говорить без обиняков. Он осмотрел собравшихся и напомнил, что они все до единого — евреи, и если лидером мирового психоанализа будет еврей, то он окончательно начнет восприниматься как «еврейская наука», будет подвергаться нападкам со стороны антисемитов и в итоге так и не получит должного признания. Выход оставался только один: передать бразды правления не-евреям и вместе с ними добиваться поставленных целей.
«Евреи должны довольствоваться участью служить удобрением для культуры. Я должен войти в соприкосновение с наукой, я стар и не хочу всегда и всюду наталкиваться лишь на враждебное отношение. Мы все в опасности…» — горячо произнес Фрейд.
После этих слов он взялся за отворот сюртука и продолжил: «Мне не оставят даже этого сюртука… Швейцарцы спасут нас — спасут меня и всех вас тоже!»202 — закончил он.
202 Виттельс Ф. Указ. соч. С. 116.
Виттельс не случайно замечает, что предложенная Фрейдом, Юнгом и Ференци структура напоминала ему организацию католической церкви. Это и в самом деле, по сути, было так: Фрейду отводилась роль бога, Юнгу — римского папы (назначаемого пожизненно), а главам региональных отделений — роль кардиналов, власть и авторитет которых на местах объявлялись непререкаемыми.
В итоге компромисс был достигнут, и конгресс возобновил свою работу. Председателем Международного психоаналитического общества был избран Юнг, но не пожизненно, а сроком на два года. Фрейд получил должность председателя научных собраний, Адлер — председателя Венского психоаналитического общества. Кроме того, Адлер и Штекель настояли на том, чтобы Юнг был лишен права цензуры, и на своем праве издавать в Вене «Центральный журнал по психоанализу».
С этого времени начинается стремительное распространение психоанализа по Европе. Психоаналитические общества создаются в Германии, Швейцарии, России, а затем чуть позже и во Франции. Фрейд в этот период всерьез заговорил о том, что психоанализ может стать «заменителем религии» (а не «новой религией», как порой неверно цитируют, хотя разница, скажем честно, невелика).
Он отметил, что количество неврозов в обществе значительно увеличилось по мере распространения атеизма, и причина этого заключалась в том, что религия играла своего рода психотерапевтическую роль и была тем непререкаемым мировоззренческим авторитетом, без которого большинство людей обходиться просто не могут. Следовательно, помогая освобождаться человечеству от комплексов, психоанализ должен стать мировоззренческим авторитетом, способным объяснить все стороны как физической, так и социальной и духовной жизни человечества. Борьба за победу психоанализа, предрекал Фрейд, будет нелегкой, но в итоге мир вынужден будет признать его правоту. Для самого Фрейда это означало достижение не просто славы, а того самого духовного бессмертия, о котором он мечтал в отрочестве.
* * *
К открытию конгресса в Нюрнберге Фрейд написал программную статью «Будущие перспективы аналитической терапии», в которой впервые обратил внимание на «процесс обратного воздействия, который наблюдается у врача в результате влияния пациента на подсознание своего аналитика». В ней Фрейд также провозглашает «самоанализ» обязательной частью работы психоаналитика, так как аналитик «может довести до конца свое лечение лишь постольку, поскольку ему позволяют сделать это собственные комплексы и внутреннее сопротивление… Тот, кто не может заниматься подобным самоанализом, должен без колебаний отказаться от лечения больных этим методом».
В другой статье этого года — «К вопросу о так называемом „диком“ психоанализе» — Фрейд поднял вопрос, который затем не раз становился предметом острых дискуссий в психоаналитических кругах: может ли человек, не являющийся врачом, то есть не получавший систематического медицинского образования, заниматься психоанализом? Фрейд поначалу вроде бы дает на этот вопрос отрицательный ответ, настаивая на том, что психоанализ должен осуществляться «по строгим техническим правилам». Правда, уже в этой статье он признаёт, что «по правде, „стихийные“ аналитики больше вредят психоаналитическому делу, чем своим больным, потому что часто у последних общее улучшение наступает „само по себе“…» — то есть фактически признаёт, что психоанализ может играть роль placebo.
Впоследствии, как известно, Фрейд, особенно после появления в его окружении принцессы Мари (Марии) Бонапарт, смягчил свою позицию в этом вопросе. В итоге психоаналитики решили допускать в свой круг людей, не имеющих медицинского образования, но оговорили, что направить к такому психоналитику может только профессиональный врач, исключивший диагноз органического заболевания. К тому же по меньшей мере первое время психоаналитик-неврач должен работать под патронатом своего коллеги-врача.
* * *
Летом 1910 года Фрейд отправился с женой в Нордвик, на побережье, чтобы дать Марте возможность попрощаться с умиравшей матерью. Вскоре в Нордвике со своей богатой любовницей Лоу Канн появился Эрнест Джонс. Во время совместных прогулок вдоль берега моря он жаловался Фрейду на несносных канадцев; на то, что его травят за лекции и статьи, в которых он пытается пропагандировать психоанализ; что одна из пациенток, став жертвой эмоционального переноса, обвинила его в том, что он с ней переспал (многие полагают, что так оно и было), и угрожала ему пистолетом. Джонс впоследствии вспоминал, что во время прогулки Фрейд то и дело ковырял песок и водоросли тростью. На вопрос о том, что он хочет там найти, Фрейд ответил фразой, необычайно точно характеризующей его как человека и исследователя: «Что-нибудь интересное. Заранее никогда не знаешь». Он и в самом деле порой не знал, куда его заведет за письменным столом свободно текущая мысль, и иногда сам удивлялся собственным выводам.
В эти же самые дни Фрейд встретился с Густавом Малером, занимавшим тогда пост директора Венской оперы — небывалый успех для еврея — выходца из провинциальной Богемии. Малер, живший в Вене неподалеку от Фрейда, никогда не искал до того встречи со скандальным профессором, но тут вдруг прислал телеграмму с просьбой о немедленной консультации. Однако, когда Фрейд дал свое согласие, великий композитор стал раз за разом откладывать время встречи — предстоящий разговор явно пугал и тяготил его. Наконец они встретились в одном из ресторанов Лейдена, у самой кромки моря, и во время прогулки Малер поделился с Фрейдом своими проблемами.
Судя по всему, Малер в тот, последний период своей жизни пребывал в депрессии по поводу измены своей жены Альмы (которая была младше его больше чем на 20 лет) и, возможно, страдал психической импотенцией. Фрейд во время беседы открыл Малеру, что тот сосредоточен на образе своей матери и потому порой даже свою Альму хочет назвать именем матери — Марией. По словам Фрейда, за эти четыре часа беседы он «многого достиг» в психоанализе и лечении великого пациента. «Интересно, как при нехватке времени годы анализа можно свести к нескольким часам!» — саркастически восклицает Пол Феррис. Впрочем, это было не так уж и сложно: Фрейд в ходе беседы попросту поверял биографию Малера своей собственной.
Можно иронизировать по данному поводу сколько угодно, но все знавшие чету Малер отмечали, что после встречи с Фрейдом отношение композитора к жене разительно изменилось. В нем как будто заново проснулась давняя страсть, и он посвящает молодой жене одну великую симфонию за другой. Судя по всему, проделанный Фрейдом анализ при всей его, с нашей точки зрения, банальности показался Малеру величайшим открытием и перевернул последний год его жизни. И еще один знаменательный факт: уже после того, как в мае 1911 года Малера не стало, Фрейд прислал его жене счет за свою консультацию. За что Альма Фрейда, разумеется, возненавидела.
В сентябре Фрейд отправился вместе с Ференци на Сицилию. Поездка в целом была хороша, но в итоге обе стороны оказались разочарованы и ею, и друг другом.
Ференци мечтал о том, что они с учителем целыми днями будут вести умные беседы о психоанализе и продуцировать новые идеи. Фрейд же, изрядно уставший за минувшие девять месяцев, хотел просто отдыхать и развлекаться, как самый обычный турист. Когда Ференци предложил Фрейду совместно проанализировать «случай Шребера» — известного судьи, страдавшего шизофренией с относительно долгими ремиссиями, Фрейд вроде бы согласился. Но очень скоро Ференци понял, что для Фрейда сотрудничество означало, что он будет просто записывать под диктовку Фрейда его мысли о Шребере. А когда понял, то оскорбился и ответил, что «ожидал лучшего задания».
Одновременно Ференци постоянно «грузил» Фрейда своими проблемами, видя в нем прежде всего психоаналитика. Ференци в то время как раз разрывался между Жизелой и Эльмой Палос — матерью и дочерью, — не зная, на ком же из них окончательно остановить свой выбор. Фрейд, понимая, что Ференци является одним из самых талантливых и верных учеников, всё это терпеливо сносил, хотя и жаловался в письмах Юнгу, что Ференци относится к нему «слишком инфантильно», то есть видит старшего, умудренного опытом человека, престарелого отца, а никак не друга и попутчика.
С Юнгом тоже не всё было гладко: тот явно не мог взять бразды управления Международным обществом в свои руки; постоянно жаловался в письмах на «интриги» и «махинации» венцев, и прежде всего Адлера. Всё это было предвестием бури, которой скоро, очень скоро предстояло разразиться.
Что касается Шребера, то в итоге Фрейд статью о нем все-таки написал, увидев в признаниях судьи о тяге к кастрации, желании стать женщиной и т. д. блестящее подтверждение своей теории бисексуальности, развития эрогенных зон, страха кастрации т. д. Хотя, как выяснилось позже, Шребер, как и его сошедший с ума и покончивший самоубийством младший брат, вероятнее всего, были жертвами «образцового немецкого воспитания», которое давал им отец, доводя муштру сыновей до патологических масштабов.
* * *
Как уже было сказано выше, на протяжении всего 1910 года Фрейд не только занимался организационной деятельностью, но и много и плодотворно работал.
Для вышедшего в мае специального «Приложения к „Медицинской газете“», посвященного пятидесятилетию давнего друга Фрейда профессора-окулиста Леопольда Кёнигштайна, Фрейд написал статью «Психогенное нарушение зрения в психоаналитическом восприятии». В статье не просто отмечалось, что неврозы могут вызывать в числе прочего и проблемы со зрением, а вводился термин «влечение к самосохранению» (или «влечения „Я“»), обозначающий базовые потребности человека, не связанные с сексуальностью. Вместе с сексуальными влечения к самосохранению были отнесены Фрейдом к группе «влечений к жизни». «Все органические влечения в нашей психике могут быть разделены, как сказал поэт, на Голод и Любовь», — пояснял Фрейд.
Осенью 1910 года вышла в свет одна из самых знаменитых работ Фрейда «Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи» — его первый опыт психобиографии, созданный под явным влиянием романа Дмитрия Мережковского.
Статья эта является одним из самых замечательных примеров того, как ошибка при переводе или ошибочный базовый тезис может стать основанием для весьма глубокомысленных, могущих даже показаться оригинальными, но при этом совершенно беспочвенных выводов. Пытаясь дать разгадку личности одного из величайших людей эпохи Возрождения, Фрейд обращается к его детству. Для него нет сомнений, что гениальные прорывы Леонардо да Винчи в живописи, механике и других областях были сублимацией вытесненной сексуальности, а значит, объяснив характер сексуальных склонностей да Винчи, можно дать объяснение его личности и всем загадкам его творчества.
В поисках этого объяснения Фрейд обращается к тому, что да Винчи якобы считал одним из своих самых ранних воспоминаний: «Кажется, что заранее мне было предназначено так основательно заниматься коршуном, потому что мне приходит в голову как будто очень раннее воспоминание, что когда я лежал еще в колыбели, прилетел ко мне коршун, открыл мне своим хвостом рот и много раз толкнулся хвостом в мои губы».
Фред подчеркивает, что сохранение человеком воспоминаний о своем младенческом возрасте возможно, хотя и крайне маловероятно, но уж совсем невероятно, что у младенца осталось подобного рода странное воспоминание. Следовательно, делает он вывод, «эта сцена с коршуном не есть воспоминание Леонардо, а фантазия, которую он позже создал и перенес в свое детство». Фантазия эта двояка, объясняет Фрейд, с одной стороны, она, безусловно, вызывает ассоциацию «с отвратительной (именно так, хотя раньше Фрейд ее таковой не считал. — П. Л.) сексуальной фантазией об оральном сексе». Но сам оральный секс, поясняет он тут же, является переработкой «первого жизненного наслаждения» — сосания груди матери.
Мать, по версии Фрейда, заменяется у Леонардо коршуном потому, что, будучи человеком образованным, он знал, что у египтян богиня Мут (чье имя созвучно с немецким словом «муттер» — «мать») изображалась с головой коршуна, большой женской грудью и большим фаллосом, то есть несла в себе мужское и женское начало. Кроме того, оказывается, у египтян коршуны были символом материнства, так как считалось, что у этого вида птиц есть только самки и они в полете открывают влагалище и зачинают от ветра. Таким образом, Леонардо, будучи внебрачным сыном, который первые годы рос без отца, считал себя «детенышем коршуна».
Леонардо, как и все мальчики, продолжает Фрейд, чувствовал детское влечение к матери и при этом считал, что у нее такой же пенис, как у нее. В то же время, не будучи в этом уверен, он — как и все дети — испытывал жгучее любопытство к гениталиям матери и хотел посмотреть на них. «Хвост коршуна в фантазии Леонардо мы можем истолковать таким образом: в то время, когда мое младенческое любопытство обратилось на мать, я ей приписывал еще половой орган, как у меня. Это и есть дальнейшее доказательство раннего сексуального исследования Леонардо, которое, по нашему мнению, стало решающим для всей его жизни»203, — писал Фрейд.
203 Фрейд З. Очерки… С. 86.
Именно отношение Леонардо к матери, его сильная связь с ней, а затем и влияние на него мачехи Альбиеры и определили, по Фрейду, гомосексуальные склонности Леонардо да Винчи.
И дальше в очерке идет глубокое, обоснованное, поистине необычайно актуальное и в наши дни объяснение природы гомосексуальности:
«Гомосексуальные мужчины, которые в наше время предприняли энергичную деятельность против законодательного ограничения их половой деятельности, любят представлять себя через своих теоретиков как с самого начала обособленную половую группу, половую промежуточную ступень, как „третий пол“. Они — мужчины, которые органически с самого зародыша лишены влечения к женщине, и потому их привлекает мужчина. Насколько охотно из гуманных соображений можно подписаться под их требованиями, настолько же осторожно надо относиться к их теориям, которые выдвигаются, не принимая во внимание психического генезиса гомосексуальности. Психоанализ дает возможность заполнить этот пробел и подвергнуть проверке утверждения гомосексуалистов. Он пока мог выполнить эту задачу только у ограниченного числа лиц, но все до сих пор предпринятые исследования дали один и тот же удивительный результат. Это главным образом исследования И. Саджера (Sadger), которые я могу подтвердить собственным опытом.
Кроме того, мне известно, что В. Штекель (Stekel) в Вене и Ференци (Ferenczi) в Будапеште пришли к тем же результатам. У всех наших гомосексуальных мужчин существовало в раннем, впоследствии индивидуумом позабытом детстве очень интенсивное эротическое влечение к лицу женского пола, обыкновенно к матери, вызванное или находившее себе поощрение в слишком сильной нежности самой матери и далее подкрепленное отступлением на задний план отца в жизни ребенка.
Саджер указывает, что матери его гомосексуальных пациентов часто были мужеподобными женщинами, женщинами с энергичными чертами характера, которые могли оттеснить отца от подобающего ему положения; мне случалось наблюдать то же самое, но более сильное впечатление произвели на меня те случаи, где отец отсутствовал с самого начала или рано исчез, так что мальчик был предоставлен главным образом влиянию матери. Это выглядит почти так, как будто присутствие сильного отца гарантирует сыну правильное решение для выбора объекта в противоположном поле.
После этой предварительной стадии наступает превращение, механизм которого нам известен, но которого побудительные причины мы еще не постигли. Любовь к матери не может развиваться вместе с сознанием, она подпадает вытеснению. Мальчик вытесняет любовь к матери, ставя самого себя на ее место, отождествляет себя с матерью и свою собственную личность берет за образец, выбирая схожих с ним объектов любви. Таким образом, он стал гомосексуальным; в сущности, он возвратился к аутоэротизму, потому что мальчики, которых теперь любит взрослый, всё же только заместители и возобновители его собственной детской личности, и он любит их так, как мать любила его ребенком. Мы говорим, он находит свои предметы любви путем нарцизма, потому что греческая сага называет Нарциссом юношу, которому ничто так не нравилось, как собственное изображение, и который был обращен в прекрасный цветок, носящий это имя.
Более глубокие психологические соображения оправдывают утверждение, что ставший таким путем гомосексуальным в подсознании остается фиксированным к образу воспоминания своей матери. Вытеснением любви к матери он сохраняет эту любовь в своем подсознании и остается с тех пор ей верен. Если кажется, что он, как влюбленный, бегает за мальчиками, то на самом деле он бежит от других женщин, которые могли бы сделать его неверным. Мы могли бы также доказать прямыми единичными наблюдениями, что кажущийся чувствительным только к мужскому раздражению на самом деле подлежит притягательной силе, исходящей от женщины, как и нормальный; но он спешит всякий раз полученное от женщины раздражение перенести на мужской объект и повторяет, таким образом, опять и опять механизм, посредством которого он приобрел свою гомосексуальность»204.
204 Фрейд З. Очерки… С. 87–88.
И уже отсюда Фрейд ищет объяснение всем загадкам творчества и личной жизни гения. К примеру, в улыбке Джоконды он видит улыбку матери художника. В том, что Леонардо бросал свои произведения неоконченными, — аналогию с тем, как его отец бросил своего ребенка, то есть самого Леонардо, и т. д.
На многочисленные противоречия и нестыковки в этом очерке обращали внимание многие критики Фрейда. Все они подчеркивали бредовый характер идей, связанных с фантазией о коршуне и богине Мут — хотя бы потому, что имя богини ассоциируется со словом «мать» только в немецком языке; что Леонардо да Винчи не мог видеть фресок с изображением богини и знать, каким иероглифом обозначается ее имя, так как жил за столетия до открытия египетских древностей и расшифровки египетской письменности Шампольоном. Словом, по мнению уже не раз цитировавшегося здесь страстного фрейдофоба профессора Виленского, «понять эти рассуждения Фрейда с позиции логики и здравого смысла невозможно, зато всё это укладывается в рамки бредовой идеи на фоне аутистического и символического мышления»205.
205 Виленский О. Г. Указ. соч. С. 74.
Окончательно абсурдность рассуждений Фрейда о коршуне становится понятной, если учесть, что при написании очерка о да Винчи Фрейд пользовался неудачным переводом. На самом деле в оригинале речь идет не о коршуне, а о грифе, что кардинальным образом всё меняет — никто никогда не считал, что у грифов есть только самки.
Но тут мы снова сталкиваемся с уже не раз упоминавшимся в этой книге «парадоксом Фрейда»: даже столь грубые ошибки и подтасовки не зачеркивают и не умаляют ценности и глубины его стержневых идей. Необычайно точно эту особенность Фрейда подметил в своей оценке очерка «Одно детское воспоминание Леонардо да Винчи» великий русский философ Николай Александрович Бердяев. «У Фрейда нет обычной психиатрической затхлости, у него есть свобода и дерзновение мысли, — писал Бердяев. — Фрейд научно обосновывает ту истину, что сексуальность разлита по всему человеческому существу и присуща даже младенцам. Он колеблет обычные границы нормально-естественной сексуальности… Но склонность школы Фрейда объяснить всё, вплоть до религиозной жизни, неосознанной сексуальностью принимает формы маниакальной идеи, характерной для психиатров. Ведь и этот пансексуализм может быть объяснен неосознанной сексуальностью его создателей, если применить тот метод сыска и вмешательства в интимную жизнь, которую допускает школа Фрейда. Натяжки Фрейда в объяснении типа Леонардо или объяснении снов доходят до комического. И всё же Фрейд помогает осознанию сексуальности»206.
206 Бердяев Н. А. Смысл творчества. — http://philosophy.ru/library/berd/creation.html.
Но в том, 1910 году никто в окружении Фрейда никаких натяжек и ничего комического в работе о Леонардо не усмотрел. Этюд был принят на ура. Идея о коршуне так всем понравилась, что первый пастор-психоаналитик Оскар Пфистер утверждал, что в картине Леонардо «Мадонна с младенцем Иисусом и Св. Анной» разглядел образ коршуна в голубой ткани, прикрывающей бедра Марии. Юнг утверждал, что разглядел контуры коршуна в другом месте: так, что его клюв расположен в области лобка. Когда Ференци показали «коршуна» на картине, он искренне удивился тому, что «не замечал его раньше». Что еще раз доказывает, что при желании в подлинно великом произведении искусства можно увидеть всё что угодно и как угодно это произведение интерпретировать.