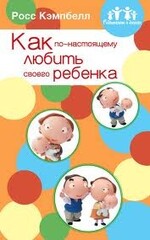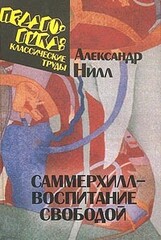Часть четвертая. Гносеология и онтология
Глава первая. Новая методология в гносеологии
Трисубъект
Мы имеем безусловно специфичный феномен человека, однако же попытка определить, в чем принципиальное отличие его от всего остального в живой природе, не увенчалась пока убедительной победой научного знания. Расхожее определение «птица без перьев» преследует человека со времен античности. Частный подход предоставил массу фактов и положений для доказательства специфичности человеческого феномена, он ссылался на социальную активность, на мораль, эстетику, религию и проч., и проч., но присяжные «по делу», будь такое организовано, вероятнее всего большинством голосов смогли бы признать лишь то, что — да, действительно, человек как феномен имеет место быть. Таким образом, мы постоянно возвращаемся в исходное, к тому, с чего начали.
Но все-таки, хотя бы в самом общем виде, что отличает человека от иных представителей животного царства? Неужели же кто-то усомнится в том, что это отличие — совершенно особое познание? Что такое социальная активность, мораль и эстетика в ситуации «собачьих» способностей к познанию? Философия испокон веков пытается ответить на вопрос «Что такое человек?» и по большому счету занимается только двумя сферами: первая — гносеологическая, вторая — мировоззренческая (спорят о первичности). Очевидно, что вторая без первой — нелепость, так что опять мы остаемся с глазу на глаз с познанием. Все-таки остается ощущение некого допущения.
А что по этому поводу имеет сказать новая методология? Что ж, она вопрошает: человек входит в отношения с сущим, от того, каким образом он это делает, – зависит ли то, каким он будет? Фактически только от этого и зависит, ведь отношения сущего с человеком предполагают процесс овеществления последнего (и первого для последнего). А как он это делает? Познанием, а для пущей убедительности можно припомнить наши измышления об информации. Итак, новая методология позволяет нам перейти к научному помышлению о человеческом познании как о факторе, непосредственным образом определяющем человека; что ж, не преминем воспользоваться этой возможностью. Но сначала небольшая «историческая» справка, касающаяся эволюции познания. Отметим, что поскольку эволюция познания как такового — это такой же процесс, как и любой другой, то и в нем, с необходимостью, существуют четыре последовательных уровня, или этапа его развития.
Мы уже говорили о первом уровне развития познавательного процесса, его участниками были субъект и объект. Причем мы оговаривали, что между ними на этом этапе нет никакой существенной разницы; все отличие заключается только в том, где локализована точка обзора. Мы делали предположение, что, вероятно, таким способом познания обладает, например, электрон. Трактовка имеющих место изменений основывается на этом уровне познания, исходя исключительно из интернальных и максимально узких установок. «Представьте себе, – пишет Б. Спиноза, – что камень, продолжая свое движение, мыслит и сознает, что он изо всех сил стремится не прекращать этого движения. Этот камень… будет думать, что он в высшей степени свободен и продолжает движение не по какой иной причине, кроме той, что он этого желает».[153] Проще говоря, и субъект, и объект «предполагают» существование только самих себя и никого более, и поэтому если происходит некий обмен информацией, то он воспринимается как некое «не-до-разумение», укорененное в самом субъекте.
Второй уровень познания ознаменован явлением на свет субсубъекта, величайшим завоеванием которого является способность в процессе познания «положиться на самого себя» и увидеть причинно-следственные связи. «Границы» интернальности значительно расширились и выходят теперь за пределы самого субъекта — его восприятию оказались доступны связи с окружающим миром и другими субсубъектами. Возникает ряд механизмов, как-то: аффекты, модальностная, интенсивностные и другие оценки, позволяющие несколько отстраненно наблюдать за процессом жизни, хотя субсубъект ни на секунду не выключается из него; так, например, мать-лиса в солнечный день лежит на лесной поляне и спокойно наблюдает за тем, как играют ее малыши, но вместе с тем она постоянно отслеживает ситуацию и находится в известном напряжении, каждую секунду готовая к защите своего потомства. По сути этот уровень познания относится как раз-таки к животному царству и представляет собой некий условный (а в определенном смысле и безусловный) рефлекс. Но тут необходимо оговорить одну очень важную особенность, которая подчас не замечается, а это приводит к ложным суждениям.
Дело в том, что наше с вами понимание причинно-следственной связи несколько разнится со «взглядами» субсубъекта на этот вопрос. Для него эта связь жестко детерминирована, он не совершает «выбора» в нашем с вами понимании. Фактически речь здесь идет о «необходимости»: причина необходимо перетекает в свое следствие. Для человека же совершенно очевидно не необходимое, а лишь «вероятностное» сосуществование причины и следствия: «Что же касается отношения между причиной и следствием, – пишет С. Кьеркегор, – то и тут, если не ошибаюсь, что-то неладно. То громадная причина имеет самые ничтожные последствия, а то и вовсе никаких — какая-нибудь вздорная ничтожная причина ведет к колоссальным последствиям».[154] Для субсубъекта же существует только жесткая детерминация — причина неминуемо перетекает в единственно возможное следствие. Можно сказать, что тот латентный период, в течение которого человек осуществляет самый настоящий выбор с «борьбой мотивов» (извлекая «причину» из сферы собственного опыта и оценивая ее значимость также по критериям, актуальным только для него самого), собака просто набирает «критическую массу причины» — внюхивается, вслушивается и т. п., достигнув же ее, причина с необходимостью перейдет в свое, какое-то весьма определенное следствие.
Так мы незаметно подошли к третьему уровню филогенетического развития познавательной способности. Теперь нам необходимо определить точное различие между тем, что было познающим на втором и стало на третьем уровне развития познания, поскольку субсубъект по ряду пунктов действительно весьма напоминает нам человека (например, причинностью в познании), но и отличия весьма очевидны. Итак, мы говорим о том, что субсубъект фактически перемещается из состояния в состояние, каждое из которых «в момент пребывания в нем» является гомогенной полипотентной возможностью, но, детерминируясь неограниченным числом условий, он переходит в следующее состояние одним-единственным, специфическим для данного конкретного состояния путем, не устраивая при этом никаких «свободных выборов». Мы же с вами продолжаем лелеять надежду на то, что кто-кто, а человек осуществляет выбор и сам детерминирует свое поведение, свою активность.
Но это, к счастью, является лишь досадным недоразумением. Да, человек действительно выбирает, и он действительно свободен в выборе, но как он это делает? Полагаясь на самого себя? Сам себя и детерминирует? Когда мы выбираем, мы сами являемся непременным условием своего выбора, непременным условием, которое на равных правах с другими условиями определит, как и в случае с субсубъектом, тот единственный путь, который переместит нас из состояния нынешнего в состояние будущее. Наше решение — это условие, которое, как и любое другое, определяет наше с вами действие (содержательную сторону активности), более того, само оно таким же точно образом детерминировано — частично нашей волей, которая, конечно, не рождается на пустом месте, а частично относительно внешними условиями.
То, что вы решили, что сегодня холодно, а теперь трактуете как действо вашей свободной воли выбор идти на улицу или нет, – также не является в абсолютном смысле вашим свободным решением, поскольку рецепторы, расположенные в вашей коже, не были вами, условно говоря, выбраны и т. д. Не были вами выбраны и типичные, стереотипные, условнорефлекторные реакции на холодную погоду, сформировавшиеся в течение предыдущей жизненной истории. А то, что ваши решения более подвижны и изменчивы, нежели, например, погодный фактор, в сути дела относительно детерминированности действия ничего не меняет.
Если человек признает это положение, ничто не повредит его высокому статусу, но сделает понятным то странное несоответствие между выбором лечь спать этим вечером и смертью днем, которая, понятное дело, не позволит этого сделать в запланированной форме. Разумеется, он не выбирал смерть под колесами автотранспорта, но он выбрал пойти туда, где, кроме всего прочего, ходят машины, и этот его выбор — не что иное, как условие, которое определяет возможность дорожно-транспортного происшествия. Конечно, одного этого условия для такого происшествия недостаточно, но вот, например, то, что он замечтался, когда переходил дорогу, вместо того чтобы смотреть на светофор, – это тоже условие, и несоблюдение им правил перехода через улицу — тоже условие, выбор, разумеется, произошел не без его участия. Но тогда получается, что это он сам и выбрал умереть сегодня днем, а как быть с выбором лечь спать этим вечером? Но он ведь не просто так куда-то пошел — появилось еще одно условие, определившее один из его выборов, который и привел к данному исходу, и не просто так он замечтался, а о чем-то или о ком-то, а это еще одно условие, и правила дорожного движения он нарушает не просто так, а потому что считает их ненужными, а это его идейная установка, которую он подхватил, например, у Бакунина. Таким образом, Бакунин фактически — одно из условий того, что сто лет спустя некто «по досадной случайности» погиб в результате дорожно-транспортного происшествия… Так работает принцип отношения — все относится ко всему, и все, что есть, – рождено в отношениях.
Чтобы не впадать в гордыню «свободного выбора» и не делать досадных методологических ошибок, поместите точку обзора в себя, в свое действие (вы (оно) окажетесь центром) и задавайте вопросы относительно причин того, что вы сейчас читаете эту книгу. Этим вы сделаете явными огромные системы обычно не замечаемых нами отношений, которые определили тот простой факт, что вы держите эту книгу в своих руках. Если вы скажете, что вам просто интересно читать, – это не значит, что на этом «поиск закончен». Спросите себя: «Почему мне интересно?», а далее: почему имеет место быть то, что делает интересным… И если через пару минут вы почувствуете, что то, что вы сейчас читаете книгу, – фактический центр Вселенной, то вы все делаете правильно и в скором времени познаете смысл этого вашего действия. А кроме этого откровения узнаете еще и то, что вы сейчас читаете книгу не по вашему непосредственному выбору, а в результате взаимодействия всего в этой Вселенной.
Как же так получается, что все мы в обыденной жизни существуем и не знаем того, что это не мы выбрали сейчас, например, поесть, а это голод сделал за нас, а голод, в свою очередь, выбрала эволюция, а Ч. Дарвин начал ее излагать закономерностно и что тут без чувства голода также не обошлось, поскольку… Отвечая так и дальше, мы поймем, откуда, собственно, появился человек в этой системе, где все проистекает одно из другого; человек, который полагает, что все «проистекает» («диалектически»), а он — нет, что он-де «свободно выбирает».
Как без человека идет познание? Познающий субубъект имеет дело с вещью, которая видится им в причинно-следственной взаимосвязи, то есть он фактически начинает с вещи — некой материальной субстанции, например с солнца, а потом обращается к закономерности: солнце — действие (причем солнце не является символом этого действия, а является символом самого себя). Фактически речь идет о неких знаках и образах, но они не «вторичны» («плюс-ткань»), а напрямую обозначают видимое, являясь символами самих себя. Само солнце (не слово — «солнце»!), как его воспринимает субсубъект, является по сути в таком виде для этого субсубъекта «именем собственным». Что ж, с субсубъектом понятно, и мы переходим к знаковой системе человека, не углубляясь, впрочем, сейчас во все тонкости, чему посвящена другая наша работа.[155]
Со времен А.А. Потебни под словом понимается звук, внутренняя форма (образ, представление) и значение; это представление в свое время поддержал и Л.С. Выготский, но такой по сути описательный подход не может раскрыть эволюционной значимости языка. Поэтому позже Л.С. Выготский усложняет систему, вводя понятие «понятия», что позволило ему наконец методологически раз-отождествить образ слова и его значение, чего доселе не замечали. «Обобщение» — вот новый компонент, правомерно введенный Л.С. Выготским в психологию языка и мышления. Это несомненно раздвигает границы и представляет новые перспективы. Не случайно сам Лев Семенович после своего открытия семимильными шагами двигался по пути исследования развития процесса мышления — в онтогенезе. Но нас интересует здесь эволюционная значимость языка, грубо говоря, в филогенезе, а одного «обобщения» для этого явно недостаточно.
Рассматривая же отношение языка и познания, слово определяется не просто как знак или обобщение, оно представляется настоящим самостоятельным третьим, само слово оказывается для человека не просто пассивным обобщением, а «свернутой закономерностью». Что это такое? Мы смотрим на ручку и при ее описании прежде всего начинаем с ее функции, само название «ручка» семантически несет в себе прежде всего функциональный аспект: «ею можно писать на бумаге» и т. д., причем это касается не только взрослых, но и детей, фактически это свойство человеческого слова, оно имманентно принадлежит ему. Для нас нет ручки самой по себе, скорее есть действие само по себе, которое мы обозначаем некими вещами, но последние — символы этого действия, а не самих себя, как мы оговаривали это на уровне субсубъекта.
Еще более тонкий пример, правда не в этой связи, приводит М.Г. Ярошевский: «Некогда люди называли словом „чернила“ черного цвета жидкость для письма, впоследствии же без всякого насилия над мыслью стали говорить о красных, синих и другого цвета жидкостях, используемых в тех же целях. Из слова „чернила“ образ черного цвета исчез, – пишет далее М.Г. Ярошевский. – Остались звук (внешняя форма) и значение (понятие об обозначаемом предмете)».[156] Что ж, с ним нельзя не согласиться, «имя собственное» как таковое ушло из языка, можно сказать, что оно трансформировалось в «нарицательное», но нельзя и не заметить того, что в слове осталось не столько «значение», сколько «предназначение».
Теперь мы возвращаемся к гносеологической модели мира. В соответствии с ней слово находится на третьем уровне, уровне закономерностей, а собственно «ручка» и «чернила» на втором (мир вещей). Но первоначально слово должно было быть именно там, где и обозначаемое. Является ли это контекстуальным противоречием или противоречием вообще? Нет, напротив, но у нас «прибавление»: теперь речь должна идти об идеальном! Действительно, если слово — это не просто «имя собственное» вещи, а свернутая закономерность, то это уже новая вещь (идеальная, порожденная сознанием), поскольку, по определению, вещью является все в сущем, и не имеет значения происхождение вещи — материальное оно или идеальное (что вряд ли можно считать допущением, поскольку нет критериев, отделяющих идеальное от материального).
Но таким образом получается, что часть вещей второго уровня «поднялась» из мира свободной сущности (возможностного уровня), а другая «спустилась» с третьего — мира закономерности. Более того, их теперь практически невозможно отличить друг от друга: и то и другое теперь — носитель некоего субстрата. Причем вещи как свернутые закономерности (особенно «вещи идеальные») не закончили на этом. Например, что такое класс классов? Идеальное создало свой мини-круговорот на гносеологических уровнях мира: какая-то материальная вещь из уровня вещей поднимается на уровень закономерностей, благодаря чему возникает вещь идеальная, далее она оказывается в мире вещей и снова поднимается оттуда в мир закономерностей, и возникает еще одна идеальная вещь, которая опять спускается в мир вещей и т. д. Постоянно происходит «пассаж идеальности», которая все дальше и дальше по содержанию удаляется от мира материальных вещей и наконец становится совершенно самостоятельной.
Но возникает вопрос равнозначности вещи-идеальной и вещи-материальной. Мы строим закономерности, исходя из мира вещей, а вещи эти, как мы уже поняли, подобны игрушкам у ребенка-непоседы — они перепутались. Вот, например, математики договорились о «типовых игрушках» с одной «фабрики» и «играют» себе потихонечку. А что же человек вообще? Фактически ситуация мало чем отличается, но отличие все-таки есть, и оно вот в чем: математики работают только с вещами-идеальными, но каждая из них прошла свой более-менее понятный, контролируемый, проверяемый путь идеального пассажа, в результате математика поражает действительной способностью находить верное решение.
С человеком же намного сложнее, у него больше «игрушек» и они с разных «фабрик», поэтому кроме необходимой вероятности, ориентирующей его в мире, он заручился еще и «мечом», способным разрубить гордиевы узлы — это понятие и механизм «выбора».
Итак, человек — это герой третьего уровня развития познания. Он привнес в логику познавательного акта вероятность, это открыло ему новые фантастические рубежи, но в определенном смысле закрыло то, что лежит у него под ногами. Вероятность и выбор — сложная (особенно в психологическом плане) пара, поэтому ниже мы рассмотрим ее и некоторые ее проявления, поскольку они нарисуют нам характерный образ человека-познающего.
Чудо человеческого познания — это прогнозирование: мы, как нам кажется, «знаем» не только то, что мы будем делать там-то и там-то тогда-то и тогда-то в таких-то и таких-то условиях, но и то, что получится в результате наших действий. Поразительная самонадеянность, надо признать, а причина этого — как раз в оговоренной уже конструкции вероятностей. Нам никогда не бывают и не могут быть известны все факторы, тем более от нас скрыты экстернальные воздействия, но мы вместе с тем самоубежденно утверждаем: «Возможно, мол, это и это, но вероятнее всего будет вот это». Математика разрабатывает целую «теорию вероятности», согласно которой, по данным «вероятностям» (где «вероятность» — это числовая характеристика степени возможности появления какого-либо случайного события при тех или иных условиях) одних случайных событий находят «вероятности» других событий, связанных каким-либо образом с первыми. В результате мы говорим: «на круг» (закон больших чисел) – так-то и так-то, а в каждом отдельном случае — как получится.
Создается огромный иллюзорный мир, поскольку все это иллюзия знания и человеку неизвестно, заснет ли он сегодня в привычное для себя время или он не доживет до этого момента. Вырабатываются «общие» закономерности, все это «подогревает» «остужаемое» практикой убеждение в возможности прогнозирования событийного плана. Люди смеются над прогнозом погоды, но никто не смеется над собой, хотя ситуация совершенно равнозначна.
Псевдо-знание реального положения дел множится, человек купается в допущениях, и в этом ему «помогает» отход от чувствования процесса, абсолютизация состояния в координатах пространства и времени. Так, некая вещь для него, как ему кажется, равнозначна вне зависимости от того, имеет ли он с ней дело сейчас или же это было полвека назад. Но все изменилось за это время настолько, что и речи не может быть о единстве этой вещи сейчас с якобы этой же вещью пятьдесят лет назад.
Вместе с тем такая самонадеянность человека рождает феноменальный каркас мировоззренческой априорности иллюзии знания всего и вся. «Что нового вы можете предложить?» — спрашивает человек, даже не собираясь слушать ответ. Слова (вообще), которые человек так любит и лелеет, придумывает во множестве, потеряли для него какой бы то ни было смысл. Ослаб интерес, поскольку интерес жив только в процессе, когда вы движетесь к неизвестному, а для современного человека нет неизвестного — для него нечто или «известно», или «этого не может быть».
Априорность — фантастический феномен, порожденный человеком на стыке самоуверенности при прогнозировании и иллюзии «всеизвестности» (хроническое deja-vu). Не зря Л. Витгенштейн в середине XX века обращается к человеку с бессмысленными, кажется, вопросами: «Как вы знаете, что у вас есть рука, когда вы ее не видите и не рефлексируете, а сразу отвечаете на поставленный вопрос? Вы только что положили книгу в стол, откуда вы знаете, что она сейчас там?» Поверхностность человеческих суждений удивительна. И Витгенштейн дает нам фундаментальное противоречие, доказывающее абсурдность априоризма, присущего человеческому мышлению. В чем фундаментальность этого противоречия? Когда кому-либо зачитываешь первую его половину: «Из того, что мне — или всем — кажется, что это так, не следует, что это так и есть», всякий пожимает плечами и говорит: «Это всем известно и без Витгенштейна». Однако вторая половина этой цитаты все меняет: «Но задайся вопросом, можно ли сознательно в этом сомневаться».[157] У человека нет собственно логического выхода из гносеологического тупика первой фразы, при сохранной уверенности в том, что она истинна, а это, в свою очередь, открывает дверь в гносеологический тупик.
Вместе с тем магия вероятности продолжает нас преследовать. Хотим мы того или нет, путь из одного состояния в другое на самом деле только один, но воображение человека рисует множество путей, и он оказывается перед выдуманной дилеммой выбора: что бы он ни выбрал, он выберет то, что будет следствием, вне зависимости от того, насколько оно соответствует его собственному выбору.
Зачем человек так стремится выбирать, требует права выбора? Разве это не реализация пустого по сути прогнозирования в интернальной системе? Вы проголосовали за президента, а он оказался совсем не такой, на какого вы рассчитывали. Вы расстроились? Почему? Потому что наивно полагали, что выбираете не какого-то человека, а свою политическую позицию. Буриданов осел — это чисто человеческий феномен.
Страшное слово «выбор» (а за ним — «ответственность», «значимость» и проч.) оказывается той последней каплей, которая лишает человека права на психологическое благополучие и делает его настоящим «человеком». Не просто «человек» — звучит гордо, а «человек выбирающий» — вот что, как мы все полагаем, действительно внушает гордость! Понятие «выбора» мы вкладываем в понятие «личность» — и «личность» начинает просто-таки светиться! И мы почему-то тут же добавляем: «свобода, независимость!» Но какая здесь связь?.. Выбор — это всегда потеря, поскольку, выбирая, мы всегда от чего-то отказываемся, потеря же никогда не бывает безболезненной (ведь нарушается целостность). Болезненность противостоит свободе. Свобода нелепа в сочетании с болезненностью, последняя, по меткому высказыванию О. Вейнингера, – «родственна одиночеству»,[158] вкупе же это — какой-то кошмар одиночества.
Вырисовывается целый арсенал своеобразных, чисто человеческих черт гносеологического толка, и описанные даже наполовину не исчерпывают его. Но откуда это? Если субсубъект «позволяет» себе одно допущение — полагаться на самого себя, то для человека эта ситуация усложняется, он готов не только к тому, чтобы «поверить себе», что фактически предполагает «положиться на самого себя», но и заставить кого-то еще также поверить в это, он становится таким образом «трисубъектом». К такому утверждению у нас нет и не может быть непосредственных оснований, но есть один патогномоничный симптом-следствие, подтверждающий эту версию, – язык.
Язык — это чисто человеческий феномен, и если речь — это способ самовыражения, то язык — это всегда для кого-то, именно поэтому уже сам по себе он несет необходимость убедительности, иначе в нем не было бы никакого толка. Социальность, в необходимом ее понимании, рождается именно с языком, вместе же они представляют собой взрывоопасную смесь. Эволюция субсубъекта заключается далеко не в обретении знания как таковом (доказательством тому XX век, когда количество знания увеличилось во множество раз, а эволюционный аспект не впечатляет) и не в способах познания как таковых, а в механизмах, стимулирующих ассоциативность мышления. Язык и социальность, полноценно возможная лишь при наличии языка, – как раз-таки эти механизмы.
Нет ничего странного в том, что трисубъект (в задачах которого постоянно стоит обречь еще кого-то в свою «веру») порождает на свет бессмысленные по своей сути феномены объяснения и учительства: мы способны объяснить все, что угодно, мы учим сразу, как только у нас возникает ощущение, что мы что-то поняли. Маленькие дети, только выучив первые буквы или узнав какую-то подробность из взрослой жизни, бегут к неосведомленным по данному вопросу сверстникам и начинают осведомлять их, учить. Учитывая всеобщность этих феноменов, человека за редким исключением интересует, что ему объясняют и чему его обучают.
Язык рожден трисубъектом и именно поэтому имеет целью быть не просто средством коммуникации, но (и причем в первую очередь) и средством убеждения, но все, что он способен произвести, – это лишь доказательство, последнее же как средство убеждения представляет собой совершенное ничто. Вот как эту простую и естественную мысль представляет Л. Витгенштейн: «А доказательство является таковым для того, кто признает его в качестве доказательства. Тот же, кто не признает его, кто не следует за ним как за доказательством, тот отделяется от нас еще до того, как оно было высказано».[159] Дети могут сутками, до драки, до изнеможения спорить, никогда не отказываясь даже от бессмысленных, казалось бы, утверждений.
Так родилось серьезное противоречие, которому мы по большому счету и обязаны появлением человека, поскольку, как мы помним, только противоречие рождает новую, доселе не виданную реальность: с одной стороны, стремление убеждать, а с другой — невозможность этого, при кажущейся естественности и достижимости такого результата. Обезьяна знает, как достать банан с помощью палки, но никогда не посоветует воспользоваться этим способом своему менее сообразительному сородичу, а вот совершенно незнакомый человек в общественном транспорте готов насоветовать своему случайному попутчику все, что угодно, по любому вопросу и с абсолютной уверенностью в своей правоте.
Феномен доказательства действительно весьма забавный: «докажи им, что ты не дурак». И мы занимаемся этим от рождения и до смерти, причем с завидным усердием, давая почву индивидуальной психологии Альфреда Адлера. Но забавность нашего доказательства вовсе не в контексте и не в содержании, а заключается она в том, что хоть мы и знаем из нелегкого опыта, что наше убеждение не имеет силы убеждения, мы никогда не расстаемся с надеждой кого-нибудь когда-нибудь да убедить. Вот оно, загадочное и противоречивое чудо природы — человек, сотканное из тенденции учить и убеждать, но ограниченное в этой возможности себе подобным. Существо, строящее целые системы вероятности по причине множественности, объемности своего причинно-следственного знания (а оно действительно велико), но не способное ничего изменить в обязательности этого перехода причины в следствие.
Человек лишился адекватности и в данной конкретной ситуации, исполненной целокупной гомогенной и полипотентной возможности, приносит ее в жертву адаптивности. Мы осмысливаем вперед огромные временные промежутки и уже сейчас поступаем не так, как следовало бы в этих конкретных условиях (здесь и сейчас), то есть не адекватно, а адаптивно, полагая, что если мы сейчас поступим так-то и так-то, то в будущем все произойдет так-то и так-то, как бы нам того хотелось или, как нам кажется, произойдет. Более того, осмысление всех вероятностей будущего в буквальном смысле слова парализует нас в настоящем.
Так, невротик, например, полагает, что есть вероятность того, что когда-нибудь в метро ему станет дурно (а такая вероятность для всех нас, кто пользуется этим видом транспорта, имеет место), и поэтому в нем не ездит. Но почему-то совершенно спокойно путешествует в автомобиле, хотя, по статистике, количество дорожно-транспортных происшествий с летальными исходами для их участников несомненно выше, чем «жертв» метрополитена. И не надо думать, что это свойство только невротичного человека — это наше с вами свойство, у невротика оно лишь более выражено и выглядит нелепым, да и это последнее утверждение о нелепости весьма относительно, поскольку приводимые им доказательства идеальны с позиции логических построений.
Так роковым образом пересеклись социальность (зачатки которой свойственны и животному миру) и язык, они потенциировали мышление, создав как собственно технические (языковые), так и целевые (социальность) механизмы ассоциирования. А ассоциирование — это фундамент человеческого мышления; таковым обычно считают логику, но логика и является системой ассоциирования, что наиболее красочно демонстрирует силлогизм — нечто соединяется и делается объединяющее заключение. Причем подобным образом мыслит не только формальный логик, а и ребенок, который полагает, что, если ему покупают игрушку, значит, его любят, и наоборот, – таков основной механизм мышления. И процесс идет…
Итак, наконец, вырисовываются неповторимые особенности человека как познающего: он не только полагается на самого себя (как это делает субсубъект), но всегда готов взять «на себя» еще кого-то благодаря потрясающей убежденности и уверенности в себе. Объединение всех этих особенностей дает нам возможность выделить трисубъекта. Он воин по своей сути, воин, насаждающий свой идеальный мир (самый, может быть, яркий пример тому — история религий)…
Итак, третий уровень (этап) эволюции познания характеризуется появлением трисубъекта, который готов к тому, чтобы убеждать, и который создал целую систему вероятности, породив тем самым на свет феномены прогнозирования, адаптивности, априорности мышления, объяснения, неубедительного доказательства, выбора и… идеальное. Последнее — это то достижение, за которое можно заплатить высокую цену, даже согласиться на «неубедительность доказательства». Ну и, кроме того, этим феноменам мы обязаны существованием человека.
Возможно, кого-то заинтересовало, что же будет четвертым уровнем эволюции познания. Прежде всего доказательство должно обрести силу пробуждения мысли, со-мыслия, четвертый уровень нуждается в естественном и целостном единстве, а только непринужденное со-мыслие сможет привести к единению разрозненного, столь необходимому для любого четвертого этапа. Нам скоро придется отказываться от доказательства в обычном для нас его понимании — «стенка на стенку», «несовпадение научных взглядов», но это пойдет нам на пользу. На четвертом этапе своего развития познание должно стать несодержательным.