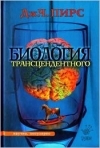Глава 1 Счастливые пары
Марк и Белла Шагал
И я понял: это моя жена… Мои глаза, моя душа.
Долгие годы ее любовь освещала все, что я делал.
Ты закружил меня в вихре красок. И вдруг оторвал от земли и сам оттолкнулся ногой, как будто тебе стало тесно в маленькой комнатушке. Вытянулся, поднялся и поплыл под потолком. Вот запрокинул голову и повернул к себе мою. Вот коснулся губами моего уха и шепчешь…
Я слушаю музыку твоего голоса, густого и нежного. Она звучит и в твоем взоре, и вот мы оба, в унисон, медленно воспаряем в разукрашенной комнате, взлетаем вверх. Нам хочется на волю, сквозь оконные стекла.
Судьба отмерила Марку Шагалу невероятно долгую и в целом счастливую жизнь. Может быть, потому что он родился практически бездыханным и с самых первых секунд своего пребывания в этом мире так настойчиво боролся за жизнь, что неожиданно приобрел совершенно немыслимый иммунитет к смерти, который и берег его почти столетие. А может быть, благодаря непостижимой сосредоточенности, отстраненности от всего мира при непрестанном поиске высшего смысла, большей красоты и идеальной содержательности. Он называл свое искусство «состоянием души», «психопластикой», искренне верил в него, убивая в себе злость за несправедливое отношение к своему творчеству, за неприятие его формы самовыражения. Семейная жизнь живописца стала проекцией никогда не покидающей его внутренней сосредоточенности, в большинстве случаев свойственной ищущим творческим натурам. Для Беллы жизнь с Шагалом стала сопровождением невероятно длинной цепи превращений, после которых, как после долгой химической реакции, из чудесной клубящейся дымки родился легендарный мастер. На ментальном уровне она стала тем непроницаемым кольцом энергии, которое обеспечило его душевную тишину для пробуждения и претворения в жизнь творческих решений. Она всегда стремилась не оставаться на месте, двигаться вместе со спутником. С этим связаны и ее писательские пробы, пробужденная жажда самореализации и движения — до последнего вздоха.
Марк Шагал прожил с Беллой двадцать девять лет — пожалуй, самых важных лет становления и тяжелого движения к признанию, окропленных потом, кровью и слезами, временем полного изменения внешней среды обитания, поломанной сначала большевиками, а затем фашистами. Это были годы отрешенного творчества и страстной любви, проникновенной, нерасторжимой и всепоглощающей любви, одновременно духовной и страстной, в которой хотелось тонуть им обоим. И они тонули… А потом Белла ушла в вечность, оставив на память написанные незадолго до смерти трогательные, как детский плач, «Горящие огни» — свидетельство ее тонкой, проникнутой религиозной духовностью и стремящейся к развитию души.
Прошло горькое время тоски и творческого бессилия, пролетел бесплодный год депрессии, наконец, вернувшись во Францию через восемь лет после смерти Беллы, он связал себя новыми брачными узами и прожил со своей второй избранницей Валентиной Бродской еще тридцать три года — с шестидесяти пяти до девяносто восьми, в течение которых вторая жена играла роль скорее заботливой матери, тихого, ненавязчивого собеседника и советчика. Это была уже не столько любовь, сколько крепкая дружба и тесная душевная привязанность. И это была уже другая жизнь, вернее, ее вторая серия, достойная и красивая старость, данная Шагалу в награду за роль вечного труженика, отринувшего внешние блага ради поиска духовных истин в художественном измерении. И следуя по стопам народной мудрости, утверждающей, что первая жена дана Богом, попробуем познать наиболее ценные штрихи к семейному портрету Марка и Беллы — двух трепещущих сердец, словно избранных Провидением для доказательства возможности великой и священной любви.
Исконно еврейский брак
Отношения Марка и Беллы Шагал во многом базируются на культурно-религиозной традиции еврейского народа. Союзы у евреев вообще отличаются монолитностью и крепостью; если представить, что обычный брак напоминает связанные цементом твердые тела, то брак евреев уже сам по себе скреплен неразрывным клеем глубокой традиции, фантастической сцепкой, тайный состав которой замешан на незыблемых вековых правилах, коллективной установке народа. Конечно, в среде евреев далеко не все браки счастливы, но внешне успешны практически все. Хотя только наивному или неосведомленному человеку показался бы гармоничным союз, скажем, Зигмунда и Марты Фрейд, но даже такие семьи благочинны, наполнены пчелиным гулом потомства и осмысленного терпеливого служения своей изящной немеркнущей культуре. Даже крайне редко случающиеся разрывы, как в жизни двух выдающихся психоаналитиков Эриха Фромма и Карен Хорни, происходят без сопровождающей обычные разводы психической ломки и жестокого душевного стресса, основанного на осознанном причинении боли друг другу.
Действительно, принципы и духовные символы еврейского народа грозным частоколом ограждают от любых низменных порывов, глубоко укоренившаяся склонность к холодному расчету в большинстве случаев обуздывает нетерпение страсти, не позволяя грубо выпячивать стремление к удовлетворению тайных желаний. Часто из глубин еврейских традиций являются свету неординарные союзы — страстные, утопающие в безбрежной любви и нежном аромате, как цветник, залитый теплым летним ливнем; союзы, самодостаточные, обитающие в собственном закрытом от всех мире, питающиеся собственным соком сладострастия и безоговорочного уважения. К таким, кстати, относится совместная жизнь Марка и Беллы Шагал — несмотря на разные истоки, очень похожих по духовной содержательности, жизненным принципам и психологическим установкам.
Инго Вальтер и Райнер Метцгер, авторы короткого и очень живого описания жизни художника, окрестили его «экзотическим созданием», человеком, который самым естественным образом «играл роль аутсайдера и эксцентрика от живописи». Уже в этих многозначительных характеристиках угадывается нелегкий путь, долгий серпантин в обход принятых и утвержденных догм, сопровождающийся сложными перипетиями отнюдь не бескровной борьбы, столкновением с кознями законодателей культурного фундамента общества, а то и просто с непониманием и отторжением на каком-то бессознательном, интуитивном уровне.
Рожденный вторым, но оказавшийся старшим (после смерти брата Давида в детском возрасте от туберкулеза) в почти нищей еврейской семье, Марк столкнулся с удручающей перспективой борьбы за существование, жизнью без намека на спокойствие и счастье, бытием ради куска хлеба. Больше всего из своего тревожного детства он запомнил мозолистые руки отца и его фатальную угрюмость. В обозначении Шагалом образа родителя трогательными словами «как и он, я был молчалив» кроется печальная неосознанная готовность втянуться в тяжелое ярмо, безропотно подставить свое неокрепшее плечо раздирающей его лямке, и так двигаться навстречу неотвратимой гостье — смерти. Но в этих словах и неприятие роли несчастного отца — грузчика, таскающего за гроши бочки с селедкой. Этот человек, который «за тридцать два года не пошел дальше рабочего», который всегда оставался «утомленным» и «озабоченным», стал главным эпицентром психического возбуждения подрастающего Марка. Ранняя психическая напряженность и физическая слабость (он так и не преодолел свою хилость после младенческой борьбы за выживание) вкупе с необычайной энергичностью матери сделали его задумчивым, мечтательно-озабоченным и немного романтичным. «Я посмотрел на свои руки. Они были слишком нежными… Мне надо было найти себе такое занятие, которое бы не закрывало от меня небо и звезды и позволило бы мне понять смысл моей жизни». Таким образом, сын не принял жизненных рамок отца, которые отражали животную борьбу за выживание, оставаясь слишком тягостным бременем для его психики. Но частично принял его семейный уклад, потому что воочию убедился, какой великой силой обладает женственное и материнское, которое помогало нести несчастному отцу его судьбу-крест. Пример родителей казался светлым лишь частично, потому что отец, давший жизнь девяти детям, для Марка являл собою пример тяглового вола, трудящегося с единственной целью — не дать умереть потомству. О собственной самореализации не могло быть и речи. По всей видимости, тут следует искать первопричину отказа Марка Шагала от традиционно большого потомства. В его подкорке навечно засели жгучие слезы детства, когда он со страхом и тоской думал о своем будущем.
Помог юноше изменить отношение к жизни не кто иной, как его дед. Именно благодаря деду, легко перешагивавшему через границы общепринятых норм, Шагал сумел освободиться от сковывавших его пут — системы условностей своего народа. Родовые связи у еврейского народа можно отнести к одной из форм управления подрастающим поколением. Поэтому местонахождение Шагала на координатной сетке между изнуренным, вызывающим жалость и скорбь отцом и легким на нестандартные решения, часто увиливающим от своей роли дедом кажется логичным и непротиворечивым. Но старик, который своим тунеядством загнал в гроб молодую жену («полжизни он провел на печке, четверть — в синагоге, а остальное — в мясной лавке»), показал путь, отличный от медленного самоубийства отца. И это тайное и скрытое стремление деда противоречить стандартам, действовать вопреки предопределенности открыли Шагалу путь к цепи собственных нарушений: безоговорочного отделения себя от семьи и ее прямолинейных традиций, ужалившего окружающих твердого решения заняться творчеством, наконец, отделения своего стиля в живописи от всех возможных направлений и школ. Лишь традицию семейных уз он принял без ропота и сомнений; она была внушена ему столь значительным числом людей, преподнесена с таким безусловным авторитетом, что он стремился повторить модель еврейского брака, защищая и отстаивая его в душе, как первую реликвию. Но и тут его особенно впечатлительная душа приняла идею семьи в сердце — совсем не так, как у многих преуспевающих прагматиков этого плодотворного народа. «Искусство — это прекрасно, – убеждал его как-то хитроумный фотограф, – посмотри на меня — я отлично устроен: хорошая квартира, мебель, клиенты, жена, положение». Семья в традиционном представлении еврея-обывателя была частью успешности, поэтому ею стоило дорожить. Для молодого же Шагала семья стала частью принципов, возможностью оставаться самим собой, вести откровенный разговор на любую тему. В этом коренное отличие его представлений от представлений большей части еврейского народа.
Нелюдимый, он мало общался со сверстниками, чаще проводя время в раздумьях над своим будущим. Суровая жизнь с мальчишеских лет сделала его тоскующим философом. В душе он был поэтом, долго сочинял стихи, ведя продолжительный ипохондрический поиск себя. Сложно предугадывать, куда завела бы его судьба, не будь у него столь ловкой и неунывающей матери. Именно она сумела устроить сынишку в городскую гимназию после окончания начальной еврейской школы. На подкуп учителя ушло пятьдесят рублей — сумма баснословная для бедной семьи рабочего из селедочной лавки. Материнская решительность вырвала мальчика из спячки, переместила на новую плоскость бытия и дала возможность соприкоснуться с другой, совершенно новой и пахнущей перспективами реальностью. Он понял, что может вырваться из своего затхлого мирка, убежать от вечной, уродливой нищеты и безнадежного существования ради куска хлеба. Учился он преимущественно плохо, но старался, памятуя об огромной жертве, которую принесла мать для него.
Каждый последующий шаг давался Марку с боем, причем нелегким. То, что его сверстникам доставалось без труда, казалось само собой разумеющимся, этот еврейский мальчик добывал в сражении. Но таким образом он закалялся. Он был крайне наблюдателен, ничто не ускользало от его взора, все могло пригодиться для выживания в мире, который, как он обнаружил, отвернулся от него. Окружающие просто жили, он же каждую минуту раздумывал, как вырваться из заколдованного и безжалостного круга, сдавливавшего грудь прессом зависимости от материального мира. Земное притяжение казалось ему слишком сильным и непомерно суровым. В истерзанной юношеской душе вызрело обостренное чувство свободы: Марк решил, что будет заниматься только тем, что наполнено воздухом свободы, дарит радостное ощущение бескрайности полей, необъятности космоса и безумное скольжение полета. С детства он научился жить между небом и землей, и его отношение к семейной жизни стало проекцией этого воздушного мироощущения, оно же передалось и его избраннице. Вернее, непостижимым образом совпало с ее лирическим и почти всегда одиноким пониманием окружающего мира. В этом не так уж много странного, тут присутствует отражение общей для двоих покорности традициям, перенесенной в плоскость индивидуального, личного, сугубо интимного. Но для нее — покорности женской, абсолютной; для него же, слишком много думавшего и страдавшего, – покорности как способа оттолкнуться и начать новый, уже собственный поиск.
Себе он казался одиноким деревцем на скале, растущим на вечном отшибе, терзаемым холодными грозами и порывами ураганного ветра. Сначала ранняя тоска выплескивалась настойчивой игрой на скрипке, терпеливым пением в синагоге и воинственными строфами стихов, наполненных, тем не менее, трогательными слезами юности и отражением сказочных, несбыточных желаний. Юный Шагал искал себя самозабвенно, не в пример своим сверстникам. В то время, когда для окружающих мальчиков жизнь еще была веселой беззаботной игрой, в его чувствительном до болезненности воображении уже маячил вопрос жизни и смерти. Наконец он обрел рисование, начав с копирования и постижения искусства точных линий. Но не зря ведь он изумлял всех невероятной наблюдательностью — плодом долгих раздумий. В конце концов в семнадцать лет благодаря исключительно собственной настойчивости он оказался в мастерской Иегуды Пэна, дружившего с Ильей Репиным и отменно знавшим живопись как академическое ремесло. К искусству Шагалу еще надо было подобраться. Марк Шагал признавался позже, что прямолинейный путь изначально претил ему; скорее всего, к моменту серьезных занятий живописью разрыв между воображением и действительностью был уже слишком велик. Его необычный до странности вкус и его особое миропонимание долго созревали, и это важно учесть, так как именно эти глубокие, как старческие морщины, штрихи в портрете Шагала сыграли главную роль и в его становлении как художника, и в построении здания семейной жизни. Он научился слушать собственный голос, звуки которого прорывались из глубин естества и нарастали, переходя в оглушительный, навязчивый гул, неумолимое требование двигаться дальше, чтобы «не зарасти мхом».
Двадцать семь рублей со снисходительной резкостью брошенные отцом под стол, чтобы он униженно собрал их (и так лучше осознал важность сделанного шага), стали кульминационной точкой взаимоотношений с семьей. Приняв этот первый и последний взнос отца в его становление, Марк окончательно оторвался от семьи, как оперившийся птенец, навсегда оставляющий свое гнездо. Но он взмыл над землей, ибо отсюда начинается его долгая и крепкая дружба с облаками, жизнь на небесах с редким посещением земной действительности. Бросив деньги под стол, как и прежде, когда давал на обучение, отец намеревался подчеркнуть свою значимость и уколоть сына-отщепенца, научившегося смотреть сквозь действительность куда-то вдаль. Марк простил это несчастному нереализованному родителю, еще больше укрепившись в мысли, что его путь будет совсем иным. Он ринулся в Петербург, намереваясь покорить могущественную столицу изящных искусств. Но земное притяжение неумолимо тянуло его в бездну принадлежности к бесхитростному и злому миру. Лишь свойственная еврейскому народу изворотливость и умение приспосабливаться позволили ему зацепиться в российской столице искусств. Сначала ученик в мастерской вывесок, зарабатывающий право на проживание в городе в качестве ремесленника, затем лакей в семье адвоката, наконец стипендиат в художественной школе Званцевой — тут двадцатилетний молодой человек демонстрировал удивительную целеустремленность, настойчивость и последовательность. Сзади стеной невидимых ощетинившихся копий его подпирала перспектива возврата в селедочную лавку, с тем чтобы таскать бочки, и погребения заживо в зловонных парах нищеты. Это навязчивое ощущение заставляло его бороться и искать другой путь, хотя часто его не жаловали там, куда он упорно пытался проникнуть. Знаменитый в то время Лев Бакст едко заметил юному Шагалу: «У вас есть талант, но вы небрежны и на неверной дороге». В интерпретации Юрия Безелянского «эстету Баксту трудно было принять провинциала Шагала, далекого от представителей “Мира искусства” с их маньеризмом и эстетизмом». Но сам-то Шагал знал, что он на верном пути, хотя бы потому, что любая дорога, которая вела из селедочной лавки в другой мир, была правильной.
В то время формирующемуся Шагалу было мало дела до девушек, в автобиографии он признавал себя «в амурной практике полным невеждой». Нет, его, конечно, волновали формы взрослеющих девиц. Однажды, по собственному признанию, он предложил помощь девочке, если только она обнажит для него ножку. Но это не было похоже на страсть к противоположному полу, а главное, слишком отвлекающими, слишком могущественными были раздирающие его на части мысли о будущем: каждый день взросления он вспоминал, что если ничего не предпримет, его ждет тяжелая изнурительная работа. В позднем мужском созревании присутствовала своя особая прелесть: рисуя обнаженное женское тело (например, в этот период была написана «Сидящая красная обнаженная»), он переживал сублимацию, переход сексуальной энергии в ментальную силу, что отвращало его от грубых раздражителей. Себя он подает робким, едва решающимся ответить на поцелуй Анюты, первой в его жизни девушки. И хотя позже Марк «целовался напропалую», не лишен был и чисто мужских желаний, «непреодолимых, как прихоть беременной женщины», первый опыт не обжег его плотским цинизмом низменных побуждений. Он всегда оставался сначала тихим романтиком, поэтом, жаждущим душевных ощущений, а уж затем, во вторую очередь, влюбчивым пареньком с воображением светского донжуана. У одной из своих пассий Марк Шагал как-то встретил главную любовь своей жизни…
Белла Розенфельд родилась в том же самом тихом белорусском Витебске, только на другом берегу Западной Двины, в семье состоятельного владельца ювелирных магазинов. Семейными канонами предопределялись скромность, целомудренность и следование жесткой системе незыблемых правил своего народа. Книги, романтическая поэзия и неукоснительная иерархия сопровождали ее безоблачное детство. Оно было безмятежно и спокойно, как застывшая гладь моря. В отличие от сурового уклада Марка, Белла, будучи почти самой младшей в семье, испытывала стабильные ощущения защищенности и предсказуемости. Тревоги касались разве что ее девичьих переживаний, через которые проходят все барышни из хороших семей. Покорная и смотревшая на мир преимущественно глазами книжных героев, она не только контролировала свои желания, но и досконально знала их. Это обитание красивой птички в невидимой клетке сформировало и ее трогательную одухотворенность, мгновенно замеченную пытливой душой Марка, разворошившую ее и затмившую в ней все остальное, даже свет солнца. Он не ожидал, что чувственная девушка и прелестный ангел способны слиться в одном человеческом облике, и, потрясенный открытием, навеки влюбился. Белла, эта юная неприкаянная душа, также была сражена сладкой и трепетной стрелой Амура, она увидела в молодом Шагале двуликого героя — едва сдерживающегося и этим пленяющего мужчину-фавна и руководящего им, не допускающего непристойностей творца. Интуиция, базировавшаяся на почерпнутых из книжного шкафа знаниях, подсказывала ей, что этому парню можно доверять. Он же в процессе развития их отношений сумел доказать, что является именно тем, за кого себя выдавал, в том числе совершив знаковый поступок: в течение нескольких лет знакомства он удерживался от добрачной интимной связи с девушкой. В сущности, это была первая значимая встреча в жизни Беллы, первая эмоциональная встряска в пресной жизни тихой девочки, которая, по ее же словам, «сидела на подоконнике, глотала книгу за книгой, людей чуралась, как чертей, даже от братьев с их насмешками отгораживалась занавеской». Но эта застенчивая девочка уже хорошо разбиралась в истинных ценностях, в серьезности намерений, в своих смутных и чужих настойчивых желаниях. Она родилась в такой семье, в таком окружении, что была обречена пройти путь «хорошей девочки», пользуясь семейным достатком, покровительством старших братьев, обласканная со всех сторон и приученная к заботе о своей персоне, достававшейся ей по праву младшего ребенка. Такие установки, полученные в детстве, не разрушают даже социальные катаклизмы.
Святость молитв и святость книг — две догмы, которые сформировали ее характер. Перед ними она благоговела; каждая книжная полка в шкафу была для нее подлинным «святилищем», да и сам шкаф был одушевленным созданием: «занятый своими книгами, шкаф замер в немой неподвижности, никак не отзываясь на бурлящую в доме жизнь». И еще: «Книги просыпаются под моим взглядом». Это была непростая девочка, ей требовалась особая духовность, такая, которую она даже боялась искать. И вот пришел молодой мужчина и, как воин-завоеватель, разрушил привычный порядок вещей, став неожиданным покровителем счастья и его неустанным искателем. Ей было над чем задуматься, ведь он, кажется, мгновенно оценил обстановку. Белла поражала изначальной глубиной, вынесенной из тиши замкнутого духовного и книжно-романтического мира. Но внутри нее дремала настоящая страсть, уже слегка пробужденная книжными историями о любви. Марк, настроенный на волну поиска, все постигал на ходу: не только через ощущения, рожденные книгами, но и прикасаясь к ярким, обжигающим светилам: Баксту, Дягилеву, Малевичу, Матиссу.
«Так моя жизнь влилась в русло жизни другого», – находим мы слова Беллы Шагал в ее книге «Горящие огни» о ее собственном восприятии первой встречи с Марком.
В этих словах заложено важное правило изначального принятия своей роли в семье. Эта роль сформирована религиозными и семейными традициями, вековой еврейской культурой и собственным книжно-романтическим пониманием союза мужчины и женщины. Белла была до мозга костей «хорошей девочкой», но уже и женщиной, готовой наперекор недовольству родителей бесконечно доверять и безропотно следовать за избранником — по предложенному им пути.