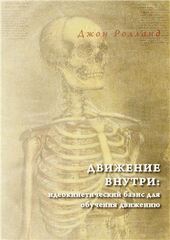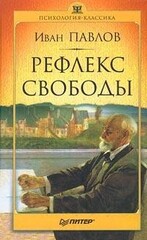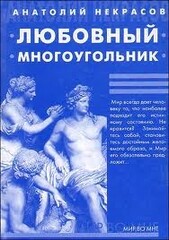VIII. Волк! Волк!
Случай Робера. Теория сверх-Я. Остовречи.
В ходе нашего диалога вы могли свыкнуться со стремлением, главенствующим в нашем комментарии, — обдумать заново основополагающие тексты аналитического опыта. Душой нашего углубленного изучения была следующая мысль — в опыте наилучшим образом всегда видно именно то, что находится от нас в некотором отдалении. И поэтому неудивительно, что как раз здесь и сейчас для осознания аналитического опыта мы вынуждены вновь начать с того, что подразумевает собой самое ближайшее данное анализа, т. е. с символической функции или, что абсолютно то же самое в нашем словаре, функции речи.
Мы обнаруживаем, что на эту центральную область аналитического опыта Фрейд указывает повсюду, никогда не называя ее, но обозначая на каждом шагу. Я думаю, что ничего не преувеличу, сказав, что любой текст Фрейда прежде всего и почти алгебраически выражает символическую функцию, чем и объясняется значительное количество антиномий, отмеченных Фрейдом с той честностью, благодаря которой ни один из его текстов не кажется замкнутым, содержащим всю систему целиком.
Я хотел бы, чтобы к следующей встрече кто-нибудь взял на себя обязанность подготовить комментарий одного текста, в этом отношении показательного. Написание данного текста относится ко времени между "Воспоминанием, воспроизведением и переработкой" и "Замечаниями о любви в переносе" — двумя из наиболее важных текстов сборника "Работы по технике психоанализа". Речь идет о "Введении к понятию нарциссизма".
Изучая ситуацию аналитического диалога, мы не можем оставить без внимания упомянутый текст. Если бы вы знали, что вытекает из содержания терминов "ситуация" и "диалог" — диалог в кавычках, — вы согласились бы со мной.
Мы уже попытались определить сопротивление в его собственном поле, затем — сформулировали определение переноса. Итак, вы уже можете почувствовать всю разницу между сопротивлением, отделяющим субъекта от полной речи, которую ждет от него аналитик, и являющимся функцией того вызывающего беспокойство отклонения, которое в его наиболее радикальной форме, на уровне символического обмена, перенос как раз и представляет собой, — и тем феноменом, который используется техникой анализа и который представляется нам, как выразился Фрейд, энергетическим источником переноса, т. е. любовью.
В "Замечаниях о любви в переносе" Фрейд, не колеблясь, называет перенос словом "любовь". Фрейд в своем исследовании не уходит от феномена любви, страсти в его самом конкретном смысле и говорит даже, что между переносом и тем, что в жизни мы называем любовью, нет никакой существенной разницы. Структура искусственного феномена, которым является перенос, и структура непроизвольного феномена, называемого любовью, а еще точнее, любовью-страстью, в психологической плоскости эквивалентны.
Со стороны Фрейда нет никакого ухода от феномена, никакой попытки растворить деликатные вопросы в символизме, как его обычно понимают — в иллюзорном, ирреальном. Перенос это любовь.
Центральным вопросом нашей работы станет теперь проблема любви в переносе, и на этом наше изучение "Работ по технике психоанализа" завершится. Тем самым мы окажемся в самом сердце другого понятия, которое я постараюсь здесь ввести и без которого также невозможно правильно разложить то, чем мы пользуемся в нашем опыте — функцию воображаемого.
Не следует думать, что функция воображаемого отсутствует в текстах Фрейда — не более, чем символическая. Просто Фрейд не выводит ее на первый план и не подчеркивает ее всюду, где можно ее обнаружить. Когда мы будем изучать "Введение в нарциссизм", вы увидите, что сам Фрейд для обозначения различия между тем, что является ранним слабоумием, шизофренией, психозом, и тем, что является неврозом, не находит иного определения, чем следующее (возможно, многих из вас оно удивит):
"Как у истерика, так и у невротика, страдающего навязчивыми состояниями, поскольку их болезнь отражается на их отношении к миру, нарушено нормальное отношение к реальности. Но анализ обнаруживает, что у таких больных тем не менее вовсе не утрачено эротическое отношение к людям и предметам, оно сохранено у них в области фантазии, т. е. с одной стороны, реальные объекты заменяются и смешиваются у них с воображаемыми образами, восходящими к их воспоминаниям, — не напоминает ли вам это нашу схему, представленную на прошлом занятии, — с другой стороны, они не делают никаких усилий для реального достижения своих целей, т. е. для действительного обладания объектами. Только для этих состояний либидо и следует сохранять употребляемое Юнгам без строгого различия выражение: интроверсия либидо. У парафреников дело обстоит иначе. У них, по-видимому, либидо совершенно отщепилось от людей и предметов внешнего мира без всякой замены продуктами фантазии. — А это означает, что парафреник воссоздает этот мир воображения., — Речь здесь, по видимому, идет о вторичном процессе, о попытке к реконструкции, выражающейся в стремлении вернутьлибидо объекту".
Здесь намечено основное различие, которое необходимо делать между неврозом и психозом в том, что касается функционирования воображаемого; это различие мы сможем углубить в ходе анализа случая Шребера, к которому, я надеюсь, мы сможем приступить до конца года.
Сегодня же я передаю слово сидящей справа от меня Розин Лефор, моей ученице. От нее я узнал вчера, что в нашей подгруппе детского психоанализа она подготовила наблюдение ребенка, о котором уже много мне рассказывала. Это один из сложных случаев, доставляющих нам много затруднений в плане диагностики, двусмысленных с точки зрения нозологии. Тем не менее, Розин Лефор смогла увидеть всю глубину этого случая, в чем вы сможете убедиться.
Если на двух предыдущих лекциях мы опирались на наблюдение Мелани Клейн, то сегодня я предоставляю слово Розин Лефор. В границах отпущенного нам времени она представит вопросы, на которые я постараюсь дать ответы и которые могутпрозвучать в рамках темы следующей лекции "Перенос в воображаемом".
Розин, представьте, пожалуйста, нам случай Робера.
СЛУЧАЙ РОБЕРА
Г-жа Лефор: — Робер родился 4 марта 1948 г. Его историю было сложно восстановить, а о пережитых травмах нам удалось узнать главным образом благодаря материалу, полученному во время сеансов.
Отец его неизвестен. Мать, страдающая паранойей, в настоящий момент находится в больнице. Скитаясь от дома к дому, она держала ребенка при себе до возраста пяти месяцев. Она пренебрегала даже элементарным уходом за малышам вплоть до того, что забывала его кормить. Ей нужно было без конца напоминать о необходимом уходе, о том, что ребенка нужно мыть и кормить. Как выяснилось, этот мальчик был настолько заброшен, что даже голодал. В возрасте 5 месяцев его пришлось госпитализировать в тяжелом состоянии гипотрофии и истощения.
Едва его поместили в больницу, как он заболел двусторонним отитом, потребовавшим двойной мастоидектомии. Он был направлен к Полю Парке, чья профилактическая практика, как известно, не изобиловала излишествами. Там он был изолирован, и по причине анорексии его приходилось кормить через зонд. Мальчика выписали из больницы в 9 месяцев и почти насильно вернули матери. Нам ничего неизвестно о двух месяцах, проведенных с нею. Его след вновь обнаруживается во время госпитализации в возрасте 11 месяцев, когда он опять оказался в состоянии ярко выраженного истощения. Несколькими месяцами позже он будет окончательно и официально оставленматеръю, которую никогда больше не увидит.
С этого момента и до возраста трех лет девяти месяцев мальчик двадцать пять раз меняет место пребывания, попадая во все новые детские учреждения и больницы, так ни разу и не оказавшись у кормилицы, в собственном смысле слова. Эти госпитализации были вызваны его детскими заболеваниями; его исправляли на аденоидектомию, неврологическое обследование, вентрикулографию, электроэнцефалографию, которые дали нормальные результаты. Были сделаны санитарные, медицинские оценки, которые показали глубокие соматические нарушения. Затем, после улучшения соматики, были замечены психологические нарушения. В результате последнего обследования Денфером было решено, что Робера в возрасте трех с половиной лет следует поместить, и уже окончательно, в психиатрическую больницу в связи с не совсем ясным пара-психотическим состоянием. Результат теста Жезелля: QD=43.
Итак, к трем годам девяти месяцам он попадает в одно из учреждений домаДенфера, где поступает ко мне на лечение. В этот момент он выглядел следующим образом.
С точки зрения роста и веса, он был в хорошем состоянии, за исключением хронической двусторонней отореи. С точки зрения двигательных параметров, следует отметить его раскачивающуюся походку, значительное расстройство координации движений, постоянную повышенную возбужденность. С точки зрения языка — полное отсутствие связной речи, частые крики, гортанный нестройный смех. Он умел произносить лишь два слова, которые выкрикивал — "Мадам!" и "Волк!". Слово "Волк!" повторялось им на протяжении всего дня, что и побудило меня прозвать его "ребенок-волк", поскольку таковым, поистине, было его собственное представление о самом себе.
С точки зрения поведения, он был гиперактивным, все время совершал беспорядочные движения. Хватательные движения отличались несогласованностью — он выбрасывал руку вперед, чтобы схватить какой-либо предмет, и если его не доставал, он не мог ничего исправить, но должен был возобновлять движение с самого начала. Кроме того, следует отметить различные нарушения сна. На этом постоянном фоне у него случались приступы конвульсивных движений, без настоящих конвульсий, с покраснением лица, душераздирающими воплями по поводу обыденных ситуаций его жизни — горшок, и особенно опорожение горшка, переодевание, кормление, открывание дверей, которое было невыносимо для него точно так же, как и темнота, крики других детей и, какмы увидим, смена комнат.
Реже у него случались диаметрально противоположные приступы — тогда он находился в полной прострации, глядя без цели, словно депрессивный больной.
Ко всем взрослым он относился одинаково, проявляя крайнюю возбужденность и не вступая в подлинный контакт. Детей, по-видимому, он игнорировал, но когда один из них кричал или плакал, у него начинался конвульсивный приступ. В момент таких приступов он становился опасен, силен, он начинал душить других детей, так что его приходилось изолировать ночью и на время еды. Тогда не было заметно ни тревоги, ни каких-либо эмоций.
Мы точно не знали, к какой категории следует отнести его случай. Однако постарались заняться его лечением, все время спрашивая себя, удалось ли нам чего-нибудь достичь.
Я расскажу о первом годе лечения, которое затем было на год прервано. В лечении можно выделить несколько фаз.
Во время предварительной фазы он сохранял присущее ему в жизни поведение. Он появлялся в комнате, бегая без остановки, крича, подпрыгивая и падая на корточки, хватаясь руками за голову, открывая и закрывая дверь, включая и выключая свет. Он хватал и вновь отбрасывал предметы, или еще нагромождал их наменя. Прогнатия была ярко выражена.
Единственное, что я смогла отметить в течение этих первых сеансов, это то, что он не решался приблизиться к бутылочке с молокам, или же с трудом приближался к ней, дуя поверх нее. Я также отметила интерес к тазу, который, будучи полным воды, по-видимому, вызывал настоящий приступ паники.
В конце этой предварительной фазы, во время одного из сеансов, нагромоздив на меня все, что попалось ему под руку, он убежал в состоянии большого возбуждения, и я услышала, что он оказался наверху лестницы, с которой не может спуститься сам, и говорит трогательным тоном и очень тихим, вовсе не свойственным ему голосам: "Мама" — перед лицом пустоты, Эта предварительная фаза завершилась вне лечения. Как-то вечерам, после того, как детей уложили спать, он, стоя на своей кровати, попытался при помощи пластмассовых ножниц отрезать свой пенис на глазах у ошеломленных детей.
Во второй части лечения он стал выказывать то, чем был для него 1Волк!". Он выкрикивал это слово беспрестанно.
Однажды он начал с того, что попытался задушить маленькую девочку, лечившуюся у меня. Пришлось их разнимать и посадить его в другую комнату. Последовала неистовая реакция, он стал крайне возбужден. Я принуждена была отвести его в комнату, где он обычно жил. До этого же момента он кричал: "Волк!" — разбрасывал все по комнате — еду и тарелки, так как находился в столовой. В следующие дни каждый раз, как он проходил возле комнаты, где был заточен, он кричал: "Волк!".
Тут разъясняется также его поведение по отношению к дверям: он не выносил, когда двери были открыты и во время сеанса постоянно открывал их, чтобы заставить меня закрыть их и вопил: "Волк!".
Тут необходимо обратиться к его истории: смена мест, комнат воспринималась им как разрушение, поскольку в его жизни без конца сменялись как место пребывания, так и окружающие его взрослые. Это стало для него настоящим разрушительным принципом, которым были интенсивно отмечены его первичные жизненные проявления — принятия пиши и выделений. Он выражал такой принцип, главным образом, в двух ситуациях — с соской и с горшком.
Наконец, он стал брать бутылочку с соской. Однажды он открыл дверь и протянул бутылочку кому-то воображаемому когда он был в комнате один со взрослым, он продолжал вести себя так, как если бы там были другие дети вокруг него. Он вернулся, выдернув соску, и заставил меня вновь одеть ее; затем снова протянул бутылочку вовне, оставил дверь открытой, повернулся ко мне спиной, проглотил два глотка молока, обратился ко мне лицом, выдернул соску, закинул голову назад, залил себя молоком, а остальное вылил на меня. Охваченный паникой, он убежал, не сознавая происходящего. Мне пришлось подхватить его на лестнице, с которой он уже было покатился. В этот момент я подумала, что он преодолел разрушение и что открытая дверь имолоко были связаны.
Последовавшая за этим сцена с горшком была отмечена теми же чертами разрушения. В начале лечения он считал, что обязан делать ка-ка на сеансе, полагая, что если он даст мне нечто, он сохранит меня. Он мог это делать лишь прижавшись ко мне, сидя на горшке и держа одной рукой мой фартук, а другой — бутылочку или карандаш. Он ел до этого и особенно — после. Не молоко, на сей раз, а конфеты и пирожные.
Эмоциональная напряженность свидетельствовала о сильной тревоге. Последняя из этих сцен высветила существовавшую для него связь между дефекацией и разрушением в результате изменений.
Эту сцену он начал с того, что сделал ка-ка, сидя рядом со мной. Затем, усевшись рядом с какой, стал листать книгу, переворачивая страницы. Потом он услышал шум снаружи. Обезумевший от страха, он вышел, взял свой горшок и поставил его перед дверью человека, который только что вошел в соседнюю комнату. После чего он вернулся в комнату, где находилась я, и, прижавшись к двери, закричал — "Волк! Волк!"
Я подумала, что это былумилостивителъный обряд. Он был неспособен отдать мне эту каку. В определенной степени мальчик знал, что я этого не требую. Он вынес ее наружу, он хорошо знал, что будет брошен, значит, разрушен. Я проинтерпретировала ему его обряд. Тогда он отправился за горшком и поставил его рядом со мной, спрятав под бумажкой; при этом он повторял: "воняет, воняет," — как бы для того, чтобы не быть обязанным его отдать.
После чего он стал агрессивен со мной, как если бы я, разрешив ему обладать собой посредством этой каки, оказавшейся в его распоряжении, дала ему возможность быть агрессивным. Очевидно, раньше он не имел возможности обладать, и его действия имели смысл не агрессивности, но лишь саморазрушения, когда он нападал на других детей.
Начиная с этого дня он не считал обязательным делать кака на сеансе. Он использовал символические заместители песок. У мальчика существовала полная неразбериха между ним самим, содержанием его тела и окружающими объектами, детьми и взрослыми. Его состояние возбуждения, тревоги все более и более росло. В жизни он стал невыносим-Да и сама я на сеансах была свидетелем настоящих бурь, в которые я с трудоммогла вмешаться.
И вот что однажды произошло. В тот день, выпив немного молока, он вылил его на пол, затем бросил песок в таз с водой, наполнил песком и водой бутылочку, сделал пи-пи в горшок и положил туда песок. После чего, собрав молоко, перемешанное с песком и водой, добавил все это в горшок и поместил сверху резиновую куклу и бутылочку. Все это он доверил мне.
В этот момент он отправился открывать дверь и вернулся с лицом, перекошенным от страха. Он снова схватил бутылочку, находившуюся в горшке, и стал упорно бить ее, пока не превратил ее в мелкие осколки. Затем он их тщательно собрал и добавил их к песку в горшке. Робер был в таком состоянии, что я вынуждена была отпустить его, чувствуя, что уже ничего больше не могу для него сделать. Он унес этот горшок. Небольшая часть песка упала на пол, вызвав у ребенка невероятную панику. Ему понадобилось собрать все до мельчайшей песчинки, как если бы это были кусочки него самого, при этом он кричал: "Волк! Волк!"
Он не мог переносить, ни оставаться в коллективе, ни приближения какого-либо ребенка к его горшку. Его приходилось укладывать спать в состоянии сильного напряжения, которое поразительным образом проходило лишь после приступа поноса, после того, как он размазывал понос руками повсюду в кровати, а также на стенах.
Вся эта сцена была настолько эмоциональной и переживалась с такой тревогой, что я была очень обеспокоена и начала понимать то, что он думал о себе самом.
Он уточнил это на следующий день: когда мне пришлось обмануть его надежды, он подбежал к окну, открыл его и закричал: "Волк! Волк!" — и, увидев свое изображение на стекле, ударил его с криком: "Волк! Волк!".
Таким образом, Робер представился — он был "Волк!". То, что он ударял или упоминал с таким напряжением, было его собственным изображением. Горшок, куда он сложил все, что попадает в него самого и из него выходит, пи-пи и ка-ка, а также человеческий образ — куклу, осколки бутылочки, был поистине его собственным образом, подобием образа волка, чему свидетельством была паника, возникшая в тот момент, когда немного песка упало на пол. Последовательно и одновременно онявляется всеми элементами, которые он сложил в горшок. Он был лишь рядом объектов, символов содержания его тела, посредством которых он вступал в контакт с повседневностью. Песок — символ фекалий, вода — символ мочи, молоко — символ того, что попадает в его тело. Однако сцена с горшком показывает, что он очень мало различал все это. Для него все содержание было едино в одинаковом чувстве постоянного разрушения его тела, которое, в противоположность содержанию, представляет собой вместилище и которое он символизирует разбитой бутылочкой, мелкие кусочки которой были помещены им в это разрушительное содержание.
Следующая фаза была посвящена наложению заклятия на "Вопк\°. Я говорю о заклятии, поскольку ребенок производил на меня впечатление одержимого дьяволом. Благодаря моему постоянству он мог заклинать дьявола при помощи молока, которое пил, и сцен повседневной жизни, которые причинили ему столько зла.
В этот момент мои интерпретации были направлены, главным образом, на то, чтобы дифференцировать содержимое его тела с аффективной точки зрения. Ка-ка — это то, что он дает, и его ценность зависит от молока, которое он получает. Пи-пи — это агрессивное.
Многие сеансы проходили следующим образом. В тот момент, когда он делал пи-пи в горшок, он объявлял мне: tie ка-ка, это пи-пи". Ом был опечален. Я его успокаивала, говоря ему, что он слишком мало получил, чтобы быть способным дать что-либо, не разрушая при этом себя. Такие слова успокаивали его. Тогда он мог пойти вылить горшок в туалет.
Опорожнение горшка сопровождалось многочисленными защитительными обрядами. Сначала он выливал мочу в умывальник так, чтобы вода из крана могла заместить мочу. Он наполнял горшок, явно переполняя его — как если бы вместилище существовало лишь посредством содержания, которое должно его переполнять, чтобы в свою очередь вместить его. Это было синкретическое видение бытия во времени как вместилища и содержания, совсем как во внутриутробной жизни.
Он находил здесь тот смешанный образ себя самого, которым он обладал в собственном представлении. Он выливал пипи и пытался снова поймать его, будучи убежден, что он сам исчезает. Он кричал: "Волк!" — и горшок мог для него обладать реальностью лишь тогда, когда он был полон. Вся моя позиция заключалась в там, чтобы показать ему реальность горшка, остающегося после того, как из него вылили пи-пи: так и он, Робер, оставался после того, как сделал пи-пи, так и умывальник не был смыт текущей водой.
Посредством таких интерпретаций и моего упорства Робер ввел промежуток между опустошением и наполнением вплоть до того дня, когда он смог, торжествуя, появиться с пустым горшкам в руках. Он, очевидно, воспринял идею постоянства собственного тела. Так, одежда была для него его вместилищем, и когда одежду с него снимали, это было для него в определенном смысле смертью. Сцена раздевания была для него причиной настоящих приступов, последний из которых продолжался 3 часа, и в тот момент, по словам персонала, он был словно одержимый. Он вопил: "Волк!" — бегал из одной комнаты в другую, опрокидывал на других детей фекалии, которые он находил в горшках-Лишь однажды, когда его привязали, онуспокоился.
На следующий день он пришел на сеанс и начал раздеваться в состоянии большой тревоги, после того, совсем голый, забрался в кровать. Потребовалось три сеанса, чтобы ему удалось выпить немного молока, лежа голым в постели. Он показывал на дверь и окно, бил собственное изображение с криком: "Волк!".
Одновременно в повседневной жизни процесс раздевания стал проходить намного легче, но сопровождался большой депрессией. Вечером без всякой причины он принимался рыдать, спускался вниз, чтобы его утешила воспитательница, и засыпалу нее на руках.
В конце этой фазы, благодаря моему постоянству, сделавшему молоко конструктивным элементом, он наложил вместе со мной заклятие на опустошение горшка и на сцену раздевания. Однако, принужденный необходимостью выстраивать минимум, он не касался прошлого, а считался лишь с настоящим его повседневной жизни, как если бы он был лишен памяти.
В следующей фазе уже я стала "Волк!".
Он воспользовался тем минимумам построения, которое ему удалось осуществить, чтобы спроецировать на меня все зло, испытанное им, и чтобы в некотором роде обрести память. Таким образом, он постепенно становился агрессивным, что оказывалось для него трагичным. Подталкиваемый прошлым, он должен был быть агрессивен со мной, и однако в то же время в настоящем я была тем, в чем он нуждался. Я должна была успокаивать его моими интерпретациями, говорить ему о прошлом, которое обязывало его быть агрессивным, и обещать ему, что это не повлечет за собой нимоего исчезновения, ни его перемещения, всегда воспринимавшегося им как наказание.
Когда он был агрессивен со мной, он пытался себя разрушить. Он представлял себя бутылочкой и старался разбить ее. Я вытаскивала ее у него из рук, поскольку он не был в состоянии перенести ее разрушение. Тогда он возвращался к действительности сеанса, и его агрессивность ко мне продолжалась.
В этот момент он заставлял меня играть роль его матери, мучащей его голодом. Он обязывал меня садиться на стул, где был его стакан с молокам так, чтобы я опрокинула стакан, лишив его, таким образом, хорошей пищи. Он начинал кричать: "Волк!" — брал колыбельку и ванночку и выбрасывал их в окно. Он поворачивался ко мне и с яростью заставлял меня глотать грязную воду, крича при этом: "Волк! Волк!" Эта бутылочка представляла в данном случае плохую пишу и отсылала нас к разлучению его с матерью, лишившему его пищи, и ко всем переменам, которые ему пришлось пережить.
В то же время он дал мне другую роль плохой матери — роль той, которая уходит. Как-то вечером он увидел, как я выхожу из учреждения. На следующий день он отреагировал на увиденное, хотя раньше, замечая, как я ухожу, он не был способен выразить свои эмоции, которые он мог при этом ощущать. В тот день он сделал пи-пи на меня в состоянии большой агрессивности и тревоги.
Данная сцена была лишь прелюдией к финальной сцене, в результате которой он окончательно приписал мне все пережитое зло и окончательно спроецировал на меня "Волк!".
Что ж, поскольку я уходила, я была вынуждена проглотить бутылочку грязной воды и получила агрессивное пи-пи. Итак, я была "Волк!". В один из сеансов Робер отделался от него, закрыв меня в туалете, затем один вернулся в комнату, где мы работали, забрался в пустую постель и начал стонать. Он не мог меня позвать, и однако ему было нужно, чтобы я вернулась, поскольку я была постоянным человеком. Я вернулась. Робер лежал взволнованный, его большой палец находился в двух сантиметрах ото рта. И впервые на сеансе он протянул ко мне руки и позволил себя утешить.
Начиная с этой сцены, по словам работников учреждения, поведение мальчика полностью изменилось.
У меня осталось впечатление, что он изгнал "Волк1.".
С этого момента он больше не говорил о нем и смог перейти к следующей фазе — к внутриутробной регрессии, т. е. к построению своего тела, ego-body, чего он не мог осуществить раньше.
Чтобы использовать диалектику, которую он сам всегда использовал — диалектику содержание — вместилище — для собственного построения Робер должен был быть моим содержанием, причем он должен был удостовериться и в моем обладании, т. е. в своем будущем вместилище.
В начале этого периода, он брал ведерко, полное воды, с веревочной ручкой. Он совершенно не мог переносить, когда эта веревочка была привязана за оба края. Ему нужно было, чтобы с одной стороны она свисала. Я была поражена тем фактом, что, когда мне пришлось укрепить веревку, чтобы нести ведро, он почувствовал, как казалось, почти физическую боль. Однажды он поставил ведерко, полное воды, между ног, взял веревку и поднес ее край к своему пупку. Я подумала тогда, что ведерко — это я, и что он привязывал себя ко мне пуповиной. Затем он опрокинул содержимое ведра, разделся донага и улегся в воде в положении эмбриона, съежившись. Время от времени он вытягивался и даже открывал и закрывал на жидкость рот — так, как эмбрион пьет амниотическую жидкость, о чем свидетельствуют результаты последних американских опытов. У меня осталось впечатление, что таким образом он себя реконструировал.
Сперва чрезвычайно возбужденный, он начинает осознавать некоторую реальность удовольствия и все оканчивается двумя главными сценами, проведенными с крайним благоговением иудивительной для его возраста и состояния полнотой.
В первой из этих сцен Робер, будучи совершенно обнаженным передо мной, собрал воду в соединенные ладошки, поднял ее на высоту своих плеч и облил ею тело. Он возобновлял это действие несколько раз, и затем мягко сказалмне: °Робер, Ребер".
За таким крещением водой — а это было именно крещение, если принять во внимание благоговение мальчика, — последовало крещение молоком.
Сначала он стал играть с водой скорее с удовольствием, чем с благоговением. Затем он взял свой стакан молока и выпил его. Потом вновь надел соску и начал обливать свое тело молоком из бутылочки. Поскольку это было довольно медленно, он снял соску и вновь стал обливать грудь, живот, пенис с явным чувством удовольствия. Затем он повернулся ко мне и показал мне свой пенис, взяв его в руку с радостным видом. Затем выпил молока, поместив его, таким образом, снаружи и внутри, так что содержание стало одновременно содержанием и вместилищем, обнаруживая при этом ту же ситуацию, как и при игре с водой.
В следующих фазах он перешел к стадии орального построения.
Эта стадия чрезвычайно трудна и сложна. Прежде всего, ему было 4 года, а он переживал лишь самую первоначальную стадию. Более того, другие дети, состоявшие у меня в тот момент налечении в данном учреждении, были девочки, что представляло проблему для него. Наконец, редуцированные формы поведения Робера не исчезли полностью и имели тенденцию к возвращению каждый раз, как он ощущал фрустрацию.
После крещения водой и молоком Робер начал переживать отношение симбиоза, характеризующее первичное отношение мать-ребенок. Однако когда ребенок действительно его переживает, обычно не существует никаких проблем, связанных с полом, по крайней мере в отношении новорожденного к его матери. Тогда как тут таковое имело место.
Робер должен был составить симбиоз с матерью женского пола, что ставило, таким образом, проблему кастрации. Проблема для меня заключалась в том, чтобы суметь дать ему пищу и не повлечь тем самым его кастрацию, Сначала он пережил этот симбиоз в простой форме. Сидя у меня на коленях, он ел. Затем он бралмое кольцо и часы и надевал их на себя или же брал карандаш из моей блузы и зубами ломал его. После того, как я проинтерпретировала ему его действия, идентификация с фаллической матерью-кастратором осталась в плоскости прошлого и сопровождалась реактивной агрессивностью, изменившейся в плане мотиваций. С тех пор он ломал грифель карандаша лишь затем, чтобы наказать себя за эту агрессивность.
Как следствие, он смог пить молоко из бутылочки, находящейсяуменя в руках, но должен был сам придерживать бутылочку. Лишь позднее он смог переносить, чтобы только я держала бутылочку, как если бы все прошлое запрещало ему принимать от меня содержание достаточно важного объекта.
Его желанию симбиоза еще противоречило прошлое. Вот почему он прибегнул куловке давать себе самому бутылочку. Но благодаря опыту с другой пищей — кашей и пирожными, убедившись, что пища, полученная от меня посредством этого симбиоза, не делала его девочкой, он смог принимать пишу от меня.
Сначала он пытался стать отличным от меня, отделившись от меня. Он давал мне есть и приговаривал, ощупывая себя: "Робер", — затем трогал меня — "Не Робер". Я активно воспользовалась этим в моих интерпретациях, чтобы помочь ему отличить себя. Эта ситуация перестала ограничиваться лишь нашим с ним отношением, он включил в нее и лечившихся у меня девочек.
Здесь мы имеем дело с проблемой кастрации, поскольку он знал, что до него и после него ко мне на сеанс приходили девочки. Эмоциональная логика требовала, чтобы он сделался девочкой, так как девочка прерывала необходимый ему симбиоз со мной. Ситуация была противоречивой. Он проигрывал ее различными способами, делая пи-пи то сидя на горшке, то стоя, но выказывая агрессивность.
Робер стал теперь способен принимать и давать. Он давал мне свою коку, не опасаясь, что будет кастрированэтим даром.
Итак, мы достигли некоторых успехов в лечении. Их можно резюмировать в следующем: содержание его тела более не является деструктивным, плохим; Робер способен выражать свою агрессивность, делая пи-пи стоя, а существование целостности его вместилища, т. е. тела, не ставится при этом под вопрос.
QD. по Жезеллю изменился с 43 на 80, а тест ТерманМерилля показал QJ.=75- Клиническая картина изменилась, двигательные расстройства исчезли, так же как прогнатия. С другими детьми он стал дружелюбен и часто защищал более маленьких. Его можно начинать приобщать к групповой деятельности. Лишь язык остается рудиментарным. Робер никогда не составляет фраз, а употребляет лишь отдельные слова.
Затем я у ехала в отпуск. Я отсутствовала 2 месяца.
После моего возвращения он разыгрывает сцену, выявляющую сосуществование в нем упрощенных форм прошлого и построения настоящего.
Во время моего отсутствия его поведение стало прежним по-прежнему, но богаче за счет полученного опыта он выражал то, что представляла для него разлука, страх меня потерять.
Когда я вернулась, он вылил, как бы уничтожив, молоко, свое пи-пи, выбросил каку, затем снял свой фартук и бросил его в воду. Таким образом он разрушил свое прежнее содержимое и вместилище, обнаруженные травмой моего отсутствия.
На следующий день в результате чрезмерной эмоциональной реакции, выразительность Робера преобразовалась на соматической плоскости — появился обильный понос, рвота, обморок. Он полностью избавился от своего прошлого образа. Одно мое присутствие могло обеспечить связь его самого со своим новым образом — как с новым рождением.
В этот момент он приобрел новый образ себя. На сеансах он проигрывает старые травмы, которых мы не знали. Робер пьет из бутылочки, кладет соску в ухо и разбивает затем бутылочку в состоянии ярости.
Все же он стал способен сделать это так, что целостность его тела не пострадала, он отделился от своего символа — бутылочки — и мог выражаться при помощи бутылочки, используемой в качестве объекта. Этот сеанс был настолько поразителен (он повторил его два раза), что я решила провести расследование, чтобы узнать, как прошла антротамия, перенесенная им в возрасте пяти месяцев. Тогда стало известно, что в службе ORL, где он был оперирован, ему не делали анестезию, а в течении всей болезненной операции у него во рту насильно держали бутылочку со сладкой водой.
Этот травматический эпизод высветил сложившийся у Робера образ его матери, морящей его голодом, больной паранойей, опасной для окружающих, наверняка нападавшей на ребенка. Затем — разлука, бутылочка, которую насильно держат у него во рту и которая вынуждает его глотать крики. Кормление через трубочку, двадцать пять последовательных перемещений. Я думаю, драма Робера состояла в том, что все его орально-садистские фантазмы были реализованы в условиях его существования. Его фантазмы становились реальностью.
Недавно мне пришлось поставить его перед лицом реальности. Я отсутствовала в течение года и вернулась в учреждение беременной, на 8 месяце. Увидев меня беременной, он начал играть фантазмами разрушения моего ребенка.
Я исчезла на время родов. В течение моего отсутствия мой муж занялся его лечением, он разыграл разрушение моего ребенка, Когда я вернулась, мальчик увидел меня без живота и без ребенка. Итак, он был убежден, что его фантазмы стали реальностью, что онубил ребенка, а значит, яубью его.
Он был чрезвычайно возбужден последние две недели до того момента, как он смог мне это сказать. И тогда я показала ему истинное лицо реальности. Я привезла ему мою маленькую дочку, чтобы он узнал, наконец, в чем дело. Его возбуждение явно ослабло, и когда я вновь встретилась с ним на сеансе на следующий день, он начал, наконец, выражать мне чувство ревности. Он привязался к чему-то живому, а не к смерти.
Этот ребенок всегда оставался на той стадии, где фантазмы являлись реальностью. Вот объяснение тому, что егофантазмы внутриутробного построения в лечении были реальностью, и что он смог создать удивительное построение. Если бы он миновал эту стадию, я не смогла бы добиться от него самого такого построения.
Как я говорила вчера, у меня сложилось впечатление, что этот ребенок был поглощен реальным, что в начале лечения у него отсутствовала какая-либо символическая функция, и тем более функция воображаемого.
Лакан: — Тем не менее в его распоряжении были два слова.
Ипполит: — Я хотел бы задать вопрос по поводу слова "Волк'1. Откуда взялся "Волк"?
Г-жа Лефор: — В детских учреждениях нянечки часто пугают детей волком. В учреждении, где я занималась лечением мальчика, как-то раз, когда поведение детей было невыносимым, их закрыли в садике, а нянечка вышла наружу и завыла волком, чтобы образумить детей.
Ипполит: — Остается объяснить, почему страх волка закрепился в нем, как и в остальных детях.
Г-жа Лефор: — Очевидно, волк был отчасти пожирающей матерью.
Ипполит: — Вы полагаете, что волк всегда является матерью7
Г-жа Лефор: — В детских историях всегда говорится, что волк придет и съест. На орально-садистической стадии ребенок хочет съесть мать, и он думает, что мать хочет съесть его. Мать становится волком. Я думаю, что генезис, вероятно, таков, хотя я не вполне уверена. В истории этого ребенка есть много неизвестных моментов, о которых я не смогла узнать. Когда он хотел быть агрессивным со мной, он не становился на четвереньки и не лаял. Теперь он делает это. Теперь он знает, что он человек, но время от времени ему бывает необходимо идентифицировать себя с животным, как это делает ребенок в 18 месяцев. И когда он хочет быть агрессивным, он становится на четвереньки, издает звук: "у-у" — без всякого страха. Затем он поднимается и продолжает сеанс. Он может пока выражать агрессивность лишь на такой стадии.
Ипполит: — Да, это переход от zwingen (принуждать) к bezwingen (преодолевать). Огромная разница между словом, где есть принуждение, и словом, где принуждения нет. Принуждение, Zwang, — это волк, который внушает страх, а страх преодоленный, Bezwingung, — это момент, когда сам мальчик играет волка.
Г-жа Лефор: — Да, я с вами согласна.
Лакан: — Волк, естественно, ставит все проблемы символизма, это не ограничиваемая функция, поскольку мы вынуждены искать ее истоки в общей символизации.
Почему волк? Это не столь уж обычный в нашей области персонаж. Тот факт, что именно волк выбран для создания этих эффектов, непосредственно связывает нас с более широкой функцией в мифологической, фольклорной, религиозной, первобытной плоскости. Волку сродни целая последовательность, отсылающая нас к тайным обществам и тому, что в них связано с инициацией, будь то принятие тотема или идентификация с персонажем.
Сложно провести эти различия по поводу столь неразвернутого феномена, но я хотел бы обратить ваше внимание на разницу между идеалом собственного Я и сверх-Я в детерминации вытеснения.
Не знаю, заметили ли вы, что существует два понятия, которые, будучи введены в какую-либо диалектику для объяснения поведения больного, кажутся направленными совершенно противоположным образом. Сверх-Я является принуждающей функцией, а Я-идеал — воодушевляющей.
Такое различие часто стараются не замечать, переходя от одного термина к другому, как если бы они были синонимами. Данный вопрос стоило бы задать при изучении отношения переноса. Подыскивая основание терапевтическому действию, исследователи способны сказать, что субъект идентифицирует аналитика со своим идеалом, или напротив, со своим сверх-Я, ив том же тексте заменяют один термин на другой в зависимости от хода доказательства, не объясняя при этом разницу.
Мне, конечно, придется еще рассмотреть вопрос о сверх-Я. Скажу сразу, что, если мы не будем ограничиваться слепым, мифическим использованием этого термина, ключевое слово, идол, сверх-Я расположится главным образом в символической плоскости речи, в отличие от Я-идеала.
Сверх-Я — это императив. Как свидетельствует его здравое понимание и использование, сверх-Я однородно регистру и понятию закона, т. е. совокупности системы языка, поскольку оно определяет положение человека как такового, не только как биологической особи. С другой стороны, нужно также подчеркнуть, в противоположность этому, его безрассудный, слепой характер чистого императива, простой тирании. В каком же направлении может быть произведен синтез этих понятий?
Сверх-Я имеет отношение к закону, и в то же время это закон безрассудный, вплоть до того, что он превращается в непризнавание закона. Мы видим, что именно таким образом действует сверх-Я у невротика. Не потому ли, что мораль невротика безрассудная, разрушительная, только угнетающая и почти всегда противозаконная, — не потому ли потребовалось в психоанализе разработать функцию сверх-Я?
Сверх-Я — это одновременно закон и его разрушение. Таким образом, он даже является речью, заповедью закона в той мере, как от этого последнего остается лишь корень. Закон целиком сводится к чему-то, что нельзя даже выразить, как "Ты должен" речь, лишенная всякого смысла. Именно в этом смысле сверх-Я в конце концов сводится к отождествлению с тем, что в первоначальном опыте субъекта представляется как наиболее опустошающее, завораживающее. В конечном счете, сверх-Я отождествляется с тем, что я называю "страшилищем", с фигурами, связанными с какими бы то ни было первичными травмами, перенесенными ребенком.
В этом, особо показательном, случае мы видим данную функцию языка воплощенной, мы прикасаемся к ее наиболее редуцированной форме, сведенной к одному слову, смысл и значение которого для ребенка мы даже не способны определить, но эта функция, тем не менее, связывает его с человеческим сообществом. Как вы правильно указали, это не просто одичавший ребенок-волк, это говорящий ребенок и именно посредством восклицания "ВолкГ у вас с самого начала была возможность установить с ним диалог.
В этом наблюдении восхитителен момент, когда после сцены, которую вы описали, из употребления исчезает слово "ВолкГ, Именно вокруг этого стержня языка, вокруг отношения к слову, которое для Робера было сводом закона, происходит поворот от первой ко второй фазе. Затем начинается необыкновенная разработка, завершающаяся переломным самокрещением, когда он произносит свое собственное имя. Мы прикасаемся здесь к основополагающему отношению человека к языку, в его наиболее редуцированной форме. Это чрезвычайно впечатляюще.
Какие еще вопросы вы хотели бы задать?
Г-жа Лефор: — Какова же диагностика?
Лакан: — Ну что ж, есть люди, которые уже имеют свое мнение по этому вопросу. Ланг, мне говорили, что вчера вечером вы высказывались по этому поводу, и мне показалось это интересным. Я думаю, что ваша диагностика лишь аналогическая. Руководствуясь существующей в нозологии таблицей, вы назвали это…
Д-р Ланг: — Галлюцинаторным бредом. Всегда можно попытаться найти аналогию между довольно глубокими расстройствами в поведении детей и тем, что нам известно о взрослых. И чаще всего приходится слышать о детской шизофрении, когда исследователи не совсем понимают, что происходит. Здесь не хватает одного основополагающего элемента, чтобы можно было говорить о шизофрении — диссоциации. Нет диссоциации, поскольку едва существует построение. Я подумал, что это напоминает некоторые формы галлюцинаторного бреда. Вчера вечером я делал значительные оговорки, поскольку необходимо преодолеть целую ступень между непосредственным наблюдением ребенка такого возраста и тем, что нам известно из обычной нозографии. В этом случае необходимо разъяснить многие вещи.
Лакан; — Да, именно так я понял ваши слова из того, что мне сообщили. Галлюцинаторный бред, как вы его понимаете, в смысле хронического галлюцинаторного психоза, имеет лишь одно общее с тем, что имеет место у данного субъекта, а именно, то измерение, которое тонко отметила г-жа Лефор: этот ребенок живет лишь реальным. Если слово "галлюцинация" обозначает что-либо, так это ощущение реальности. В галлюцинации есть нечто, что пациент действительно принимает за реальное.
Вы знаете, насколько это остается проблематичным даже в галлюцинаторном психозе. В хроническом галлюцинаторном психозе взрослого существует синтез воображаемого и реального, в нем-то и заключается вся проблема психоза. Здесь же обнаруживается вторичная разработка в воображаемом, выделенная г-жой Лефор и являющаяся, буквально, ненесуществованием в состоянии зарождения.
Я уже давно не возвращался к этому наблюдению. И все же, в прошлый раз я представил вам большую схему с вазой и цветами, где цветы — воображаемы, мнимы, иллюзорны, а ваза реальна, или наоборот, поскольку устройство можно расположить обратным образом.
В данном случае я лишь могу обратить внимание на уместность этой модели, построенной на отношении "цветысодержимое" и "ваза-вместилище". Поскольку система "вместилище-содержимое", выведенная мной на первый план значения, которое я придаю стадии зеркала, здесь, как мы видим, задействована полностью и в чистом виде. Мы замечаем, что ребенок руководствуется более или менее мифической функцией вместилища и лишь под конец он способен вынести ее пустоту, как отметила г-жа Лефор. Быть способным выносить ее бессодержательность значит отождествить ее, наконец, с чисто человеческим объектом, то есть инструментом, способным отделиться от своей функции. И это является главным настолько, насколько в человеческом мире существует не только utile (полезное, годное к чему-либо), но и outil (инструмент, штука), то есть инструменты, существующие сами по себе.
Ипполит: — Универсалии.
Д-р Ланг: — Переход от вертикального положения валка к горизонтальному очень любопытен. Мне кажется, что волк вначале — это пережитое.
Лакан; — Волк вначале не является ни самим ребенком, ни кем-либо другим.
Д-р Ланг: — Это реальность.
Лакан: — Нет, я думаю, это главным образом речь, сведенная к ее остову. Это ни Робер, ни кто-либо другой. Ребенок, очевидно, есть "Волк!" постольку, поскольку произносит это слово. Но "Волк'" — это и все что угодно, в той мере как оно может быть названо. Вы видите здесь узловую точку речи. Собственное Я здесь полностью хаотично, речь является остановившейся. Но именно на основе "Волк1." собственное Я может занять свое место и быть выстроено.
Д-р Барг: — Я отметил, что однажды произошло изменение, когда ребенок играл со своими экскрементами. Он давал, менял и брал песок и воду. Я думаю, что здесь как раз он и начал строить и проявлять воображаемое. Он уже мог занимать более отдаленное положение от объекта, его экскрементов, и затем становился все более и более далек. Я не думаю, что здесь можно говорить о символе так, как вы его понимаете. Однако вчера мне показалось, что г-жа Лефор говорила о них именно как о символах.
Лакан: — Это сложный вопрос. Им-то мы как раз и занимаемся, поскольку он может дать нам ключ к тому, что мы обозначили как собственное Я. Что такое собственное Я? Природа инстанций различна: одни из них являются реалиями, другие образами, воображаемыми функциями. Одной из них является собственное Я.
Вот к чему я хотел бы вернуться перед тем, как мы расстанемся. Не следует опускать то, что вы столь впечатляюще описали нам вначале, — двигательное поведение этого ребенка. У мальчика, по-видимому, нет никаких повреждений органов. Каково же теперь его двигательное поведение? Каковы его хватательные движения?
Г-жа Лефор: — Конечно, ониуже не такие, как прежде.
Лакан: — Вначале, как вы говорили, когда он хотел достать предмет, он мог ухватить его лишь одним жестом. Если этогожеста недоставало, он должен был возобновить движение с самого начала. Итак, он контролирует визуальную ориентацию, но у него нарушено понятие дистанции. Этот дикий ребенок всегда может, как хорошо организованное животное, схватить то, что он желает. Но если в действии есть ошибка или ляпсус, он может исправить их лишь начав все сначала. Следовательно, мы можем сказать, что, очевидно, у этого ребенка нет недостатков или отсталости, относящейся к пирамидальной системе, но что мы имеем дело с проявлениями недостатков в функциях синтеза собственного Я, как мы его понимаем в аналитической теории.
Отсутствие внимания, несвязная возбужденность, которую вы отметили вначале, должны быть также отнесены за счет недостатков функций собственного Я. Впрочем, нужно отметить, что в некоторых отношениях аналитическая теория представляет даже функцию сна как функцию собственного Я.
Г-жа Лефор: — Этот ребенок, который не спал и не видел снов, в тот знаменательный день, когда он закрыл меня в туалете, начал ночью видеть сны и звать во сне маму, а его двигательные расстройства смягчились.
Лакан: — Вот то, к чему я хотел прийти. Ничто не мешает мне непосредственно связать нетипичность его сна с ненормальным характером его развития, отсталость которого относится именно к плану воображаемого, к плоскости собственного Я как воображаемой функции. Это наблюдение показывает нам, что из отсталости этой точки развития воображаемого вытекают нарушения в некоторых функциях, казалось бы, низших по отношению к тому, что мы можем назвать надстроечным уровнем.
В этом наблюдении представляет чрезвычайный интерес отношение между строго сенсорно-двигательным созреванием и функциями овладения воображаемым у субъекта. Весь вопрос заключается в этом. Нам следует понять, в какой мере именно эта связь затронута в шизофрении.
В зависимости от нашей склонности и от того, как каждый из нас представляет себе шизофрению, ее механизм и главную движущую силу, мы можем включать или нет этот случай в рамки шизофренического заболевания.
Безусловно, насколько вы показали нам значение и зону охвата данного заболевания, перед нами не шизофрения в смыслесостояния. Но здесь есть шизофреническая структура отношения к миру и целый ряд феноменов, которые мы можем, в конце концов, приравнять к разряду кататонических. Конечно, тут нет, собственно говоря, ни одного симптома, так что ограничив этот случай такими рамками, как это сделал Ланг, мы можем определить его лишь приблизительно. Однако некоторые изъяны, некоторые недостатки человеческой адаптации ведут к чему-то такому, что позже, по аналогии, предстанет как шизофрения.
Я думаю, больше тут сказать нечего. Можно разве лишь добавить, что это так называемый демонстративный случай. В конце концов, у нас нет никакого основания думать, что нозологические рамки оставались неизменными извечно и ожидали нас уже готовыми. Как говорил Пеги, маленькие винтики всегда подходят к маленьким отверстиям, но случаются аномальные ситуации, когда маленькие винтики перестают соответствовать маленьким отверстиям. Мне не представляется сомнительным, что речь идет о феноменах психотического порядка, или точнее, о феноменах, которые могут завершиться психозом. Что вовсе не означает, что всякий психоз начинается именно так.
Леклер, именно вас я попросил бы рассказать нам в следующий раз о "Введении в нарциссизм", опубликованном в IV томе CollectedPapers или в Х томе полного собрания сочинений. Вы увидите, что речь идет о вопросах, поставленных в рамках изучаемой нами темы регистра воображаемого.
10 марта 1954 года.