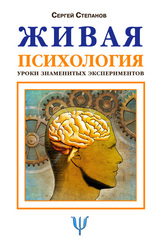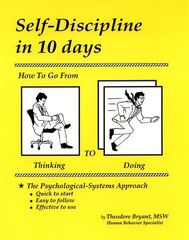Глава 8 Индивидуальное и социальное
8.5 Советская психология
Марксистско-ленинская теория в советской стране претендовала на звание объективной социальной науки о человеческой деятельности. Теоретически советское государство обладало такой легитимностью, которой не имели западные правительства или правительства, созданные по их подобию, поскольку оно было политическим средством объективного познания мира и, следовательно, двигателем прогресса. Считалось, что первым создал основу для этого объективного знания Маркс. Советское государство противопоставляло себя западным странам, где, в теории, легитимность правительства состояла в том, что оно выражало предпочтения граждан; однако эти предпочтения могли выражать, а могли и не выражать объективное понимание человеческих проблем. Защитники Советского Союза утверждали, что западные страны сохраняют непрогрессивные структуры власти, поскольку не поняли объективных требований к управлению, основанных на науке о человеке. Особый теоретический путь легитимации советской власти означал, что теория государства здесь опиралась на научные представления о социальной и исторической природе человека. Это потенциально делало социальную психологию очень важной дисциплиной. Для советских ученых социальная психология — наука об отношениях между «индивидом» и «обществом» — находится в единстве с объективными истинами марксизма-ленинизма.
Тем не менее — и в этом есть некая мрачная ирония — в советской психологии по большей части господствовала естественно-на- учная модель, которая, по существу, игнорировала людей как социальных деятелей. Фактически отождествление государства с Коммунистической партией Советского Союза, означавшее централизацию власти и ее монополизацию партией, привело к тому, что было сложно, а часто и невозможно, объективно изучать как раз те науки, которые должны были легитимировать государство. И почти совершенно невозможно было в рамках советской системы проводить объективные эмпирические социальные исследования человеческой деятельности. В своем крайнем выражении — при сталинском режиме — правительство не терпело никакой теории, которой бы не сформулировало оно само, т. е. партия. Вот слова партийного босса: «Все попытки какой-либо теории, какой-либо научной дисциплины представить себя как автономную, самостоятельную дисциплину, объективно означают противопоставление генеральной линии партии, противопоставление диктатуре пролетариата» [12, с. 27]. Тот же довод, который, теоретически, делал советскую систему единственно способной создать социальную психологию, — укорененность этой системы в объективном знании — на политической практике препятствовал серьезным исследованиям. Подобного рода неприятный парадокс — разрыв между теорией и практикой, в конечном итоге, и лишил советскую власть какой-либо вообще интеллектуальной легитимности.
Однако на этом история не кончается: и в советской психологии проводились важные работы по изучению отношений личности и общества, которые мы могли бы обсудить. Как говорилось ранее, когда мы рассматривали истоки русской психологии в контексте европейской науки (см. главу 4), психология в дореволюционной России развивалась поступательно, соединив в себе многообразные интересы — медицины, философии, экспериментальной науки и социального реформаторства. Первый официальный психологический институт был открыт Челпановым при Московском университете, хотя существовал еще основанный Бехтеревым Психоневрологический институт в Санкт-Петербурге и большой коллектив Павлова, изучавший условные рефлексы в Военно-медицинской академии. Несколько психологов, ставших влиятельными после революции, учились у Челпанова или работали с ним — в частности, Константин Николаевич Корнилов (1879–1957), бывший его старшим научным сотрудником. Корнилов был выходцем из так называемой сельской интеллигенции — его отец был счетоводом. Сам он рассказывал о себе как о трудолюбивом студенте из низов, который сделал себя сам, и теперь, занимаясь педагогической психологией, старается помочь представителям своего класса. Хотя работа Корнилова состояла в основном в изучении времени реакции и мало чем могла послужить людям, использование им общепринятой в 1920-е гг. риторики характеризует тот социальный контекст, в котором молодые идеалисты обращались к психологии [цит. по: 106, с. 113]. Другим исследователем, работавшим с Челпановым, был Павел Петрович Блонский (1884–1941), студентом сидевший в тюрьме, член Социалистической революционной партии во время восстаний 1904–1906 гг. Первый психолог, поддержавший большевиков в 1917 г., он видел в революции возможность реализовать педагогические идеалы и создать условия для спасения людей от невежества.
Война России с Германией и Австро-Венгрией, крушение царской власти, революция и гражданская война сопровождались огромными материальными лишениями и фактической анархией в общественной жизни. После революции многие из тех, кто имел профессию, включая ученых-естественников и врачей, уехали. Но представители старшего поколения — такие как Челпа- нов, Бехтерев и Павлов — остались и, несмотря на ужасные условия, продолжали работу. Кроме них были и молодые радикалы, верившие в первые годы большевистского правления, что возможно все: революция создала совершенно новые социальные условия, которые изменят природу человека. В 1920-е гг. Алексей Капитонович Гастев (1882–1941) возглавил движение за научную организацию труда (НОТ), задавшись целью создать эффективно действующие системы «рабочий — машина». Материалистическая теория природы человека, верили радикалы, означала, что можно заново спроектировать мужчин и женщин и реализовать, наконец, старую мечту поколения 1860-х гг. о «новом человеке». В том, что касается телесных потребностей и их удовлетворения, считали они, не должно быть лицемерия; а у человека, действующего на благо общества, исходя из объективного знания об этих материальных нуждах, не должно быть внутренних препятствий. Радикальные психологи с головой погрузились в утопические планы переделки не только академической культуры, но и самой природы человека. В результате идея социальной инженерии превращалась в социальную психологию Ставя перед собой другие задачи, но с тем же ощущением безграничности возможностей радикальная феминистка Александра Михайловна Коллон- тай (1872–1952) отстаивала свободную любовь, чтобы освободить женщин от экономической зависимости в браке. Уже в 1920 г. Блонский писал: «мы становимся на марксистскую точку зрения, как на единственно научную. Речь идет о том, чтобы обобщить эту точку зрения и считать ее правомерной не только в экономике, но вообще в обществоведении… и в психологии, а также в философии и вообще в науке» [2, с. 31]. Как философ образования, он общался с Надеждой Константиновной Крупской (1869–1939) — женой Ленина, сыгравшей огромную роль в создании новой системы образования.
С 1923 г. в радикальные проекты педагогики и человеческой инженерии вмешались чрезвычайные обстоятельства политической и экономической жизни. Теоретики стали обращать больше внимания на связь науки с марксистской теорией, и Корнилов на съезде нейропсихологов в 1923 г. поставил задачу создания марксистской психологии. Большевики верили в то, что Маркс открыл подлинное знание о человеческом существовании. А так как СССР был единственным государством, заложенным на фундаменте этого знания, они ожидали, что при коммунизме психологическая и социальная науки приобретут новый, уникально объективный характер. Социалистическая академия общественных наук была основана в 1918 г. для обучения партийных кадров марксистскому пониманию человека. Переименованная в 1924 г. в Коммунистическую академию, она не раз вступала в конфликт с дореволюционной Академией наук, особенно когда «красные профессора» пытались распространить марксизм на естественные науки и выступали, к примеру, против новой области физики — квантовой механики. Психологи горячо обсуждали новые качества коммунистической психологии в противоположность буржуазной психологии, созданной в таком обществе, где нарушена объективная логика исторического процесса.
Кроме философской и идеологической у дискуссии была оборотная сторона — жестокая борьба за скудные материальные ресурсы, заставлявшая исследователей искать доступа к партии как источнику власти и распределителю финансов. Фоном к этой борьбе служили дебаты по марксистской философии 1920-х гг., результатом чего стала замена исторического материализма Николая Ивановича Бухарина (1888–1938) на диалектический материализм Абрама Моисеевича Деборина (Иоффе; 1881–1963). Бухарина осуждали за излишний детерминизм. В 1930–1931 гг. все теоретические споры были прерваны Великим переломом, когда Коммунистическая партия подчинила все уровни жизни — как теорию, так и практику — задаче трансформации страны. Многие из активных участников этих событий вышли из стен Коммунистической академии и не имели времени на то, чтобы разбираться в академических тонкостях ученых с дореволюционным образованием.
В 1920-е гг. за господство в психологии и нейропсихологии соперничали несколько фракций. Бехтерев назвал рефлексологию материалистической теорией, которая объясняет человеческие поступки «ассоциативными рефлексами»; рефлексология должна была помочь всем «стремящимся свергнуть с себя иго субъективизма в научной оценке тех сложных отправлений человеческого организма, которые приводят к установлению соотношения его с окружающим миром» [1, с. XXIV]. Бехтеревская программа психологии была аналогична бихевиоризму: в ней психические процессы превращались в наблюдаемые соответствия между сенсорной информацией и движением. Неспециалистам, однако, было сложно увидеть разницу между теориями Павлова и Бехтерева, которые были конкурентами в борьбе за материальные ресурсы в Ленинграде (как был переименован Петроград после смерти Ленина в
г.). Программа Павлова состояла в экспериментальном изучении условных рефлексов; от него предполагалось перейти к созданию теории мозговой активности. Программа Бехтерева, в которой рефлексы назывались не условными, а ассоциативными, была менее точно сформулирована; она ставила целью объединение науки, но не содержала ясного плана, как достичь этой цели.
Призыв к созданию марксистской психологии шел не из Ленинграда, а из Москвы, от врача, участвовавшего в движении за душевное здоровье, Арона Борисовича Залкинда (1886–1936), и от Корнилова. Оба были членами партии, преданными делу коммунизма, чего нельзя сказать о Бехтереве или Павлове. Челпанов- ский Институт психологии, где работал Корнилов, продолжил функционировать после 1917 г. Затем, в 1923 г., Корнилов разорвал отношения с Челпановым и сам стал директором института. Как говорится в русской пословице, «лес рубят — щепки летят». Корнилов и его сторонники утверждали, что Челпанов противился реорганизации психологии на марксистских основаниях, и что он считал марксизм не объективной основой для науки в целом, а лишь одной из возможных философий. Челпанов боролся, хотя и понимал, как и все ученые к тому времени, что будет вынужден либо приспособиться к коммунистическому режиму, либо эмигрировать. Он утверждал, что марксистская философия полезна для экспериментальной психологии, так как позволяет установить связь между исследованиями мозга и интроспективными отчетами участников психологических экспериментов. Челпанов обвинял Корнилова в вульгарном материализме, однако ему самому так и не удалось освободиться от обвинения, что он — неперестроивший- ся идеалист из дореволюционного прошлого. Корнилов возглавлял Институт до начала 1930-х гг., когда его, в свою очередь, заклеймили как «эклектика» и сместили с должности. Утверждалось, что под именем марксистской психологии он предлагал мешанину теорий и методов, и что он так и не выстроил объективную научную практику, которая бы двигала вперед историю — историю, создававшуюся тогда Сталиным.
На первый взгляд кажется удивительным, что работа Павлова в конечном итоге выиграла от этих конфликтов. Он с самого начала не испытывал ничего, кроме презрения, к захватившим власть «варварам», но был так предан естественно-научным исследованиям, что готов был признать новый режим, если тот будет способствовать его работе. У Коммунистической партии были свои причины поддержать знаменитого ученого. Объявив в 1920 г. о намерении уехать за границу, Павлов получил ответ непосредственно от Ленина. Ему сразу были выделены специальные средства, и впоследствии, ввиду его положения ученого с мировой репутацией, продолжавшего работать в Советском Союзе, Павлов начал пользоваться масштабной поддержкой. В 1924 г. главный партийный идеолог Бухарин публично одобрил работы Павлова как «оружие из железного инвентаря материализма» и, поскольку до смысла подобных лозунгов никто не докапывался, это еще раз официально узаконило павловскую программу [цит. по: 106, с. 253]. В результате к началу 1930-х гг. восьмидесятилетний Павлов был главой двух специально для него построенных институтов — в Ленинграде и в Колтушах, где на Биологической станции было занято примерно сорок научных работников. Его мнение о коммунистах смягчилось, и в 1934 г. он даже высказался публично в поддержку советского государства, хотя в своих исследованиях никогда не упоминал марксистских принципов. К моменту его смерти в 1936 г. сложилась странная ситуация, когда публично Павлов изображался героем социалистического труда, хотя в действительности его аудиторией были только ученые его собственной, хотя и большой, школы. История Павлова необычна тем, что тесно связана с историей советской страны, несмотря на то, что сам ученый остался независим от марксистского проекта.
В идеологических дискуссиях 1920-х гг. говорилось о возможности создать науку, которая бы исследовала биологическую сущность человека в единстве с исторической. Говорилось также, что достичь этого могут только марксисты, так как лишь им удалось освободить себя от идеалистических предрассудков в отношении природы человека. Считалось, что Маркс в общих чертах показал настоящие взаимоотношения между индивидом и обществом и фундаментальную роль материальной организации труда. В рамках этой общей схемы марксисты-ленинисты 1920-х гг. принялись реконструировать психологию на основе представлений Маркса и Энгельса об историческом происхождении человеческого сознания и деятельности. Это очевидным образом отличалось от программы Павлова, какую бы материальную поддержку он ни получал, и какую бы позицию позднее ему ни приписывали.
Это была программа ученого, который в конце XX в. приобрел посмертную славу, — Льва Семеновича Выготского (1896–1934). В период с 1960-х по 1990-е гг. его работы оказали значительное влияние на западную психологию и сыграли роль в либерализации психологии в восточной — контролируемой Советским Союзом — части Европы. Выготского называли и «Моцартом», и «свергнутым божеством» советской психологии — выражения, подразумевающие блестящую многосторонность человека, умершего молодым, чье имя пережило темную эпоху сталинских зверств [105; 159]. Как свидетельствует собрание сочинений, вышедшее отдельными изданиями на русском (в 1980-е гг.) и английском (в 1990-е гг.) языке, Выготский являет собой удивительный пример эффекта замедленного действия.
Выготскому, родившемуся в семье банковского служащего-ев- рея, для поступления в университет нужно было попасть в квоту на студентов-евреев. В студенческие годы — накануне и сразу после революции, в период появления множества оригинальных течений в искусстве — он был увлечен художественным авангардом. Его ранние работы были в области литературной критики, и во всех его последующих трудах он стремился дать место выразительному и художественному сознанию. Возможно, он приветствовал революцию, и, конечно, спустя несколько лет он уже блестяще знал классиков марксизма. По причинам, не вполне понятным, в январе 1924 г. Выготский впервые проявил себя не как исследователь искусства, а как представитель психологии сознания. На Втором психоневрологическом конгрессе в Москве этот молодой человек прочел доклад, который наэлектризовал аудиторию. Он критиковал (хотя и не называя имен) притязания программ Бехтерева и Павлова на объективную науку о человеке и — косвенным образом — симпатии партийных идеологов к таким работам. «Человек это вовсе не кожаный мешок, наполненный рефлексами, и мозг не гостиница для случайно останавливающихся рядом условных рефлексов» [6, с. 81]. Вместо этого Выготский обратился к марксизму как к философии, потенциально могущей примирить психологию сознания с материалистической наукой об организме. Корнилов и его московский институт приветствовали эту защиту психологии сознания, поскольку это подрывало позиции конкурирующих ленинградских школ, и Выготского пригласили работать в институте.
И доклад, и приглашение состоялись, возможно, с подачи двух молодых исследователей — Леонтьева и Лурия, которые впоследствии, в 1950-е гг., стали крупными фигурами в возрождении непавловской психологии и неврологии. Леонтьев стал известен в 1930-е гг. своими исследованиями детского развития, а Лурия — исследованиями повреждений мозга, над которыми он тщательно работал во время и после Великой отечественной войны. Леонтьев, эвакуированный во время войны на Урал, также работал с ранеными.
Воспоминания Александра Романовича Лурия (1902–1977),
относящиеся к середине 1920-х гг., дают яркое представление о беспокойной социальной и интеллектуальной обстановке: «Революция резко изменила содержание и образ нашей жизни. Для нас внезапно открылось множество возможностей для деятельности, простиравшейся далеко за пределы нашего узкоограниченного круга семьи и друзей. Революция сломала границы нашего тесного частного мирка и открыла новые широкие дороги. Нас захватило великое историческое движение…». Однако, по признанию Лурия, всеобщее возбуждение совершенно не способствовало систематическому организованному научному исследованию [14, с. 6]. Находясь в эпицентре этой активности, Выготский серьезно воспринимал диалектическую философию. Он надеялся объединить теории биологического развития и исторического происхождения сознания. В течение ряда лихорадочных лет, все чаще прерываемый прогрессирующим туберкулезом, он работал в сферах педагогики, клинической психологии и психологии развития; в спланированном им полевом психологическом исследовании узбекских крестьян затрагивались философские и методологические вопросы. В 1926–1927 гг. он написал обширный теоретический труд «Исторический смысл психологического кризиса», содержащий обзор всех конкурирующих подходов к психологии, существовавших в мире на то время. Этот труд увидел свет только в 1982 г. Его исследования по психологии развития нашли отражение в ряде эссе, изданных под общим названием «Мышление и речь» (1934); эта работа принесла ему известность на Западе.
Выготский разделил раннее детское развитие на доречевую стадию, понимаемую биологически, на которой ребенок обладает только сенсорной чувствительностью и эмоциональностью, и речевую стадию, на которой ребенок взаимодействует с исторической культурой и таким образом приобретает язык и способность к мышлению. Он спорил с теорией развития швейцарского психолога Пиаже. Именно в этом, довольно узком, контексте некоторые идеи Выготского стали известны на Западе в незначительной степени уже в 1930-е гг. и основательнее — в 1960-е гг. Но его более широкая социальная психология — в частности, идеи о взаимодействии между индивидом как биологическим организмом и исторически специфичной культурой, опосредованном развитием речи, оставалась малоизвестна. Выготскому, однако, не удалось систематически заниматься социально-психологическими исследованиями. Его мечты о марксистской социальной психологии как основе для создания единой психологии — теории, объединяющей биологические и лингвистические процессы, в книге «Мышление и речь» остались нереализованными. Так рано оборванная смертью, работа Выготского была в период между войнами наиболее серьезной попыткой построить марксистскую психологию. По разным причинам, ни в Советском Союзе в 1930-е гг., ни в США в 1960-е гг. эта попытка не нашла отклика. Благодаря сокращенному переводу «Мышления и речи» на английский язык (1962; полный перевод вышел в 1986 и 1987 гг.) его работа стала важным вкладом в западные дискуссии по психологии развития.
Тем временем в научную жизнь в СССР вмешивались политические обстоятельства. В последние годы своей краткой жизни Выготскому, как и другим психологам, пришлось столкнуться с критикой: его работы якобы недостаточно способствовали решению поставленных партией задач. В 1930-е гг. подобной критике подвергалось любое серьезное начинание в науке или искусстве: всякая внепартийная позиция, даже занятая в целях полемики или художественной экспрессии, считалась оппозицией партии, претендовавшей на объективное понимание сущности человеческого бытия. Говоря более прозаическим языком, партийных деятелей, поставленных перед задачей ускоренного выполнения пятилетнего плана по развитию промышленности, раздражали теории любого рода. Высоколобые теоретики, получившие образование до революции, вызывали у них презрение. Эти партийные чиновники подвергали сомнению практическую пользу от психологии и даже ценность ее как дисциплины.
Объективная физиология была политически более нейтральна, чем психология. Возможно, отчасти поэтому, а отчасти благодаря своей развитой инфраструктуре и материальной базе, школа Павлова продолжала процветать. Большинство других близких психологии областей пострадали: сначала психоанализ, за ним — педология. Так назывались исследования детского развития и применение их на практике, в частности тестирование школьников. В середине 1930-х гг. педологи доказывали полезность тестов, позволяющих выделять среди необразованных слоев населения умных детей — будущих лидеров. Учителя противились подобному вмешательству, умалявшему значение их собственных оценок. На практике тесты выявляли детей, чья способность к обучению была в силу разных причин ограничена, и это приводило к тревожному росту числа детей, называемых «дефективными». Как и в других странах, тестирование фактически улучшало положение детей из привилегированных слоев общества, и ухудшало положение детей из бедных и неблагополучных семей. Политические споры по этим вопросам в 1936 г. привели к официальному запрету педологии, что негативно повлияло на положение многих психологов.
Партийные деятели не считали, что новому советскому человеку нужна психология. Риторика «нового человека» возвращала назад — по меньшей мере, в 1860-е гг., к Чернышевскому, к утопическим надеждам на то, что социальные условия изменят саму природу человека. К 1930-м гг. в центре этих рассуждений стоял идеал человека, преодолевающего природные ограничения, нравственного субъекта с объективным осознанием действительности — того, кто выполняет решения партии, выступая тем самым в качестве агента исторического прогресса. В политических обстоятельствах того времени идеальный человек отождествлялся с верными сторонниками Сталина и партии. Сталинские поборники диалектического материализма утверждали, что путем осознания исторической обусловленности природы человека рабочий класс может совершить скачок за пределы существующих материальных условий. В их программе прогресса ни психологическим, ни социальным наукам не было места, и любую защиту этих наук они клеймили как подмену диалектических законов истории механистическими законами природы.
Историки обнаружили в архивных документах свидетельства борьбы ученых за ресурсы и должности — борьбы, прикрытой туманными, но агрессивными публичными дискуссиями. Стало больше известно о биографиях психологов. Выготский умер в 1934 г. в возрасте тридцати семи лет, в отчаянии от препятствий, на которые наталкивалось дело его жизни. Его коллега Лурия ушел в сторону от психологии, закончил медицинский факультет и работал в области неврологии, политически более нейтральной. Несмотря на политические катаклизмы и те трудности, которые они создавали для ученых, в 1930-е гг. в психологии появилось новое лицо — философ Сергей Леонидович Рубинштейн (1889–1960). Как именно Рубинштейн достиг видного положения, неясно, но он стал выразителем диалектической психологии, соединявшей эволюционное происхождение тела человека с исторической обусловленностью его сознания — и притом политически приемлемым способом. До своего назначения в 1932 г. в Педагогический институт им. А. И. Герцена в Ленинграде Рубинштейн преподавал в Одессе. Еще там он начал работу над статьей «Проблемы психологии в трудах Карла Маркса» (1934) и общим курсом психологии, написанным подобающим марксистским языком — учебником, который с конца 1930-х гг. стал основным в преподавании психологии. Интересно, что Рубинштейн в поисках основных категорий для своей концепции обратился к недавно опубликованным рукописям молодого Маркса. Как писал Рубинштейн, «исходным пунктом этой перестройки [психологии] является марк- совская концепция человеческой деятельности». Затем он цитировал Маркса, утверждавшего, что Гегель «понимает предметного человека, истинного… человека, как результат его собственного труда» [24, с. 24–25]. Позднее западные марксисты пытались ответить на те же вопросы, исходя из тех же позиций, повлияв в 1960-е гг. на развитие социальных наук.
Карьера Рубинштейна шла вверх: он получил Сталинскую премию и основал кафедру психологии на философском факультете Московского университета в 1942 г. (Психологический институт, изначально — часть университета, еще в 1920-е гг. был передан Министерству образования.) Однако между 1946 и 1949 гг. почти все виды психологии, включая рубинштейновскую, попали под огонь критики. Единственным исключением были психологи, связавшие свою работу с именем Павлова. Поддержка партией учения об условных рефлексах как основы естественной науки о человеке была догматически подтверждена на трех всесоюзных конгрессах — по физиологии (1950), психиатрии (1951) и психологии (1952). Эти конгрессы были характерной чертой последних параноидных лет сталинского правления (Сталин умер в 1953 г.). За победой в войне началась новая волна террора, СССР был охвачен антисемитизмом, а оказавшуюся под советским господством часть Европы парализовали показательные судебные процессы и концлагеря. Изоляция, страдания и холодная война способствовали развитию крайнего шовинизма по отношению к зарубежной науке. Партийные ораторы подчеркивали уникальный исторический вклад России в научный прогресс. Чтобы связать физиолога XIX в. Сеченова с Павловым, а Павлова — с диалектической наукой о бытии и сознании, они сконструировали генеалогическое древо и возвели эту связь в ранг догмы, имевшей продолжительное влияние на советские работы по истории психологии. Имея веские на то причины, психологи опасались, что власть, отданная преемникам Павлова, уничтожит психологию как независимую дисциплину. На психологическом конгрессе 1952 г. психологи воспротивились тому, что назвали «нигилизмом по отношению к психологическому наследию» [цит. по: 106, с. 450].
Спустя несколько лет после смерти Сталина психологи были готовы расширить исследовательскую программу, до этого почти целиком сводившуюся к изучению условных рефлексов, хотя все еще делали на публике и в печати реверансы в сторону Павлова. Известность вернулась к Рубинштейну во второй половине 1950-х гг. с выходом его диалектического исследования «Бытие и сознание» (1957). Борис Михайлович Теплое (1896–1965), отчасти на основе павловского учения, построил систематическую типологию человеческих характеров. В то же время он опубликовал учебник, в котором отстаивал независимость психологических проблем от физиологических. К началу 1960-х гг. советские ученые восстановили регулярные контакты с Западом, и в области исследований мозга это сопровождалось чувствами открытия и воодушевления у обеих сторон. Многие ученые позднее отмечали ущерб от решений так называемой Павловской сессии (1950), на которой были подвергнуты идеологической критике все направления работы, кроме изучения условных рефлексов. Наибольший вред был, пожалуй, нанесен науке в Центральной Европе — в основном, в Восточной Германии (ГДР), где идеологический контроль был строгим, а ученые вдали от политических центров Советского Союза не могли самостоятельно решать, корректны или нет те или иные проекты. Тем не менее психологи нашли пути и средства проводить исследования вне павловской парадигмы; недаром способность Центральной Европы выживать при репрессивных режимах вошла в легенду.
Алексей Николаевич Леонтьев (1903–1979), коллега Лурия и Выготского, имел особое влияние на новое поколение студентов в России. В 1933 г. он оставил политически накаленную атмосферу Москвы и переехал в Харьков, где после смерти Выготского продолжил работу над марксистской теорией детского развития. Любопытно, что в это время он писал докторскую диссертацию о формировании новой способности — воспринимать цвет кожей рук. Несмотря на проблемы с воспроизводимостью этих экспериментов, их гипотезы легли в основу общей марксистской теории развития; первые посвященные ей публикации вышли в 1950-е гг. Он также проводил экспериментальные исследования памяти, доказывая ее зависимость от социальной деятельности и включенность в нее. Присвоенные из социума способности, согласно Леонтьеву, формируют внутренний психологический мир.
Его работа стала известна как теория деятельности. Замысел Леонтьева заключался в том, чтобы с помощью категории деятельности — реальной деятельности людей в историческом и социальном мире — избежать дуализма абстракций «психика» и «мозг». Его довод состоял в том, что человек приобретает способности через социальную деятельность. То, что делают люди, — это не функция «психики» или «мозга», а процесс, с помощью которого они взаимодействуют с реальными условиями своего мира. В сложившейся ситуации этот тезис оказался конструктивным, так как дал основу для экспериментальной работы и, в то же время, удовлетворял марксистским требованиям и практическим запросам к науке как средству изменения действительности. В конце 1930-х гг., когда позволили политические условия, Леонтьев вернулся в Москву и постепенно приобрел доминирующее влияние на московскую психологию. Административные условия для развития психологии были созданы в рамках педагогики (Академии педагогических наук), а не естественных наук («большой» Академии наук). В то время не было ни одного психолога — действительного члена престижной Академии наук. В 1966 г. Леонтьев основал в Московском университете первый в Советском Союзе самостоятельный факультет психологии, деканом которого оставался до своей смерти в 1979 г. Он подготовил целое поколение психологов — поколение, занявшее центральные позиции в психологии в период перестройки 1980-х гг., хотя многие из этих психологов впоследствии стали выступать против его марксизма. Его теоретический труд «Деятельность. Сознание. Личность» (1975) был переведен на европейские языки, однако Леонтьев не достиг известности Выготского.
Хотя гипотетически марксизм-ленинизм давал возможность для объективных психологических и социальных исследований, политическая реальность в Советском Союзе разрушала объективность и подчас угрожала самому существованию этих наук. Советская наука потерпела поражение в изучении отношений «индивидуального» и «социального»; этот недостаток с очевидностью проявился в недоразумениях постсоветского (и более раннего) периода — особенно в готовности поверить в то, что капиталистическая экономика может решить социальные проблемы, а западная психология — личные. И все же Выготский и Леонтьев оба предложили марксистские альтернативы в психологии. Многие верили, что их работы указывают путь к истинно социальной психологии — психологии, демонстрирующей, как общество или исторический процесс формируют психологические способности — восприятие, эмоции, память, речь.
Начавшаяся в 1985 г. перестройка принесла либерализацию, и то, что до этого происходило почти подпольно, на неформальных научных кружках или домашних семинарах, вышло на поверхность и внесло новую струю в академическую и профессиональную жизнь. В этот период — как в СССР, так и на Западе — приобрели большое, хотя и запоздалое, влияние работы теоретика литературоведения Михаила Михайловича Бахтина (1895–1975) — образец междисциплинарной гуманитарной мысли, связывающей психологию с изучением языка, логики, истории и культуры. Среди психологов Михаил Григорьевич Ярошевский (1915–2002) впервые после долгого перерыва организовал издание работ Фрейда (1986), а также предложил более широкий взгляд на историю психологии — и не только российской.
Любая версия недавней истории Российской империи и Советского Союза в принципе подлежит пересмотру. События настолько масштабны, а их последствия все еще столь живы, что историкам надлежит быть скромными. Историю психологии в России и Советском Союзе нужно интегрировать в историю мировой психологии. Это тем более необходимо потому, что у людей, относящихся к советской системе критически, может возникнуть искушение интерпретировать ее воздействие на психологические и социальные науки исключительно как подмену исследований лозунгами или заблуждения тоталитарного режима. Но факт состоит в том, что в каждой национальной культуре попытки создать единую науку о личности в обществе были частью политического процесса. Возьмем, например, социальную психологию в США на протяжении почти всего XX века. Для американских исследователей казалось естественным, что отправной точкой для психологии служит индивид как биологически автономная единица. Социальные психологи нечасто обращались к изучению социальной или исторической природы своего предмета — тех людей, которых они исследовали. В общественных науках в США единицей анализа считается индивид, или политический и экономический субъект; этот же индивид стал «естественным» объектом в психологических экспериментах. Экспериментальная наука изучала отдельных людей — обычно студентов-первокурсников — в лабораторных условиях и подавала результаты как статистически значимые закономерности. Психологи не анализировали собственную работу как исторически обусловленное действие. Ученые, которые, как Джордж Мид, усомнились в возможности описать отдельных людей независимо от их социального мира, или те, кто, как феноменологи, ставил под вопрос ценность количественных измерений и статистических моделей, остались на обочине академической социальной психологии.
Тем не менее в советском опыте есть нечто отрезвляющее. Архитекторы революции хотели осуществить марксову идею просвещенного человечества: реализовать человеческий потенциал с помощью объективного познания человека как части материального мира. Этого сделать не удалось, и неудача принесла много невысказанных страданий. Стало ли это окончательным приговором эпохе Просвещения с ее прекрасной мечтой — положить с помощью знания конец бедствиям человечества? Ученые так не считают. И тем не менее история свидетельствует: наиболее продолжительный эксперимент по созданию нового мира, ставивший целью сделать науку о человеке основой политики, успехом не увенчался.