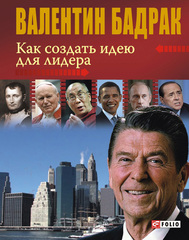Глава 1 Гоголь, моралисты и психиатры
Реабилитация Гоголя
Разорвать связь между патологией и нравственностью помогла философия «великого, радостного освободителя» Фридриха Ницше70. Пророк новой психологической эры, Ницше возвел на вершину иерархии человеческих способностей не рациональность, адаптированность и мораль, а самопознание и творчество. Мораль перестала вдохновлять его современников и виделась «препятствием творческой энергии жизни». Н.А. Бердяев в 1916 году возвестил: «Умеренная мораль, мораль безопасности, мораль, которая отсрочивает наступление конца… должна рано или поздно прекратиться, преодоленная творческой интенсивностью человеческого духа», — и утверждал, что «значение Ницше для этого кризиса… огромно»71. Если добродетелью прежнего поколения были гражданственность и моральный долг, то теперь молодежь стремилась к самовыражению — в том числе в искусстве. Наступила эпоха многочисленных художественных течений и дебатов о них, реабилитации «искусства для искусства» и обсуждения бессознательных истоков творчества. Правда, психиатры обратили свой взор на самого вдохновителя этого движения — Ницше, задумав диагностировать и его. Однако «переоценка ценностей» коснулась их самих. С началом XX века о произведении искусства стали судить по тому, насколько спонтанным и бессознательным был источник творчества. Так, психиатр В.Э. Дзержинский — брат будущего «железного Феликса» — считал произведения художественными, «только если они исходят из подсознательной сферы»72.
История с Гоголем, сыгравшая решающую роль в утверждении идеи о социальной миссии литературы, также подверглась переоценке. Критики заявили, что психиатрический диагноз был вынесен писателю, исходя не из научных, а из моральных оснований. В манифесте российских ницшеанцев Лев Шестов обрушился на тех, кто ценил Гоголя только за написанные им произведения, игнорируя его мучительные поиски истины или, что еще хуже, повесив на них ярлык болезни. Так называемым «идеалистам» нужны только «произведения Гоголя», им нет дела до него самого — до его несчастий, его уродливости, его неудач. Когда Гоголь сжег второй том «Мертвых душ», он был объявлен сумасшедшим ради спасения идеалов. Шестов же считал, что писатель был более верен себе, когда сжигал рукопись, чем когда ее писал73.
Интерес к Гоголю в России возобновился и в связи с религиозным возрождением конца XIX — начала XX века. Симпатии в адрес религиозных исканий писателя объединили столь разных лидеров интеллигенции, как Лев Толстой, Дмитрий Мережковский и Андрей Белый. По их мнению, христианство Гоголя было исключительно важно для понимания его произведений. Его поступки объяснялись не болезнью, а «духовным переворотом». Мережковский даже заявил, что у Гоголя не было никаких переломов и что его религиозный поиск длился всю жизнь74. Раскритиковав идею о душевной болезни Гоголя, критики усомнились в оценках психиатров и в их критериях нормального и патологического. Споря с Чижом, утверждавшим, что душевнобольной не может быть моральным человеком, молодой петербургский психиатр М.О. Шайкевич писал: душевнобольные так же, как здоровые люди, «способны любить свободу, истину, человечество и ненавидеть несправедливость, стремиться к свету и облегчать страдания других людей». В пример он приводил Гоголя и Гаршина75.
Подобно Шестову, петербургский психиатр Г.Я. Трошин (1874–1938) осудил своих коллег, искавших у Гоголя признаки болезни. Он показал связь между оценками критиков и диагнозами психиатров: «Прежде в эту мишень стреляли славянофилы и западники, в настоящее время поле боя занято психиатрами. И те, и другие, и третьи считают, что “самое лучшее, что можно сказать, — назвать Гоголя сумасшедшим”». Врачи же, «вместо Гоголя, изучают часть его». Трошин признавал противоречия в жизни писателя, но искал объяснение им не в болезни, а в его «творческом методе, в психологии смеха и бессознательном факторе». Он сам был музыкантом, писал стихи и размышлял о психологических эффектах музыки в работе «Музыкальные эмоции» и «О влиянии музыки на творчество» (1936). В том же году, когда состоялась защита его диссертации о рефлексах головного мозга, написанной под руководством Бехтерева, Трошин опубликовал книгу «Литературные и художественные чувства, нормальные и патологические»76. Он призывал к созданию «психологии творчества», которая была бы менее моралистична, чем современная ему психиатрия и психология, и в которой больше внимания уделялось бы воображению, фантазии и мечте. Такая психология, по мнению Трошина и его единомышленников, больше подошла бы для характеристики художников и писателей, в которых новое поколение видело своих пророков. В отличие от Ломброзо, трактовавшего гениальность как аномалию и болезнь, новая психология должна была анализировать внутренний мир творческого человека с осторожностью и симпатией.
Прежде всего следовало освободить творческих людей от приставшего к ним со времен Ломброзо ярлыка «вырождающиеся». Термину «дегенерация» Трошин противопоставил другой, уже однажды предложенный Баженовым, — «прогенерация». Показательно, что Баженов впервые употребил этот термин именно в работе о Гоголе, написанной по поводу юбилейной даты. Прогенерация — процесс, обратный дегенерации, приобретение человеком новых черт, новых способностей — совершался благодаря гениям. Сторонники теории дегенерации говорили: как при заходе солнца вдруг ярким светом вспыхивает один его луч, так и человечество, угасая и вырождаясь, может произвести на свет гения. Баженов возражал: появление гениев свидетельствует о развитии человечества, его продвижении на пути к более совершенному существу. Эти идеи разделял и киевский психиатр И.А. Сикорский (1845–1918), считавший, что артистический «тип представляет собою не проявление упадка, не какую-либо форму или период психической дегенерации, а напротив, явление высокопрогрессивное, захваченное в период своего незаконченного развития. Это есть одна из ступеней идеальной эволюции человека». Сикорский иллюстрировал эту мысль примерами из современной литературы. Он считал, что в новой литературе много «дисгармоничных» героев, которые тем не менее представляют собой новое развитие. Источник проблем, с которыми имел дело Гоголь, лежал, по мнению Сикорского, не только и не столько в болезни, сколько в том непонимании, с которым пришлось столкнуться писателю: «острейшее и жгучее орудие стыда и совести, которое Гоголь носил в своем сердце, сожгло его чуткую, застенчивую душу и лишило его возможности спокойно работать… Никто не оценил силы этого внутреннего страшного огня гоголевской совести, никто не залил его потоками любви, ни у кого не нашлось тонкого умения подать твердую руку помощи в драме душевной эволюции, которую переживал Гоголь»77.
Однако другие психиатры указывали на нелогичность в рассуждениях о превосходстве «больных гениев». По мнению Шайкевича, Баженов собрал более чем достаточный материал, чтобы подтвердить наличие у Гоголя душевной болезни, но остановился перед этим выводом. Шайкевич находил сам термин «прогенерация» затемняющим суть дела: «допустим, что человек, страдающий периодическим психозом или эпилепсией, одновременно наделен художественными дарованиями… Если перевесят положительные, полезные качества, назовут прогенерантом, отрицательные — дегенерантом». То же возражение он делал в адрес Трошина, считавшего, что «психологию великого человека нельзя втиснуть в рамки “обыкновенного”». Шайкевич также сомневался, что состояние Гоголя (которого он считал больным периодическим психозом) можно назвать проявлением прогенерации78.
Эти дискуссии происходили накануне и во время драматических событий первого десятилетия XX века — Кровавого воскресенья, массовых выступлений, подавления революции. На съезде в Киеве в сентябре 1905 года российские психиатры и невропатологи заявили о том, что рост числа душевных заболеваний — прямое следствие политики российского правительства. В свой итоговый документ съезд внес требование отставки нынешнего правительства и установления репрезентативной власти. Врачи хотели демократизировать не только страну, но и собственную профессию, и прежде всего больницы, в которых они работали. Наиболее радикально настроенные из них требовали отказаться от единоначалия и заменить диктат директора коллегиальным управлением. В коллегию больничных служащих должны были войти и представители младшего медперсонала — санитары и смотрители, положение которых было гораздо хуже положения врачей: получая мизерные зарплаты, они иногда жили тут же, в палатах вместе с душевнобольными. Наиболее радикальные врачи считали: психиатрическая больница нуждалась в реформах, как и российское самодержавие в целом.
Психиатрическое отделение больницы им Св. Николая в Петербурге, где Трошин служил ассистентом (заместителем главного врача), даже среди других казенных психиатрических учреждений выделялось своей бедностью, теснотой и плохой администрацией. С началом революционных событий сотрудники, недовольные авторитарной политикой директора, стали требовать участия в руководстве больницей. Когда директор отверг их требования о «коллегиальном управлении», санитары, возглавляемые младшими врачами, ворвались в кабинет директора, схватили его и насильно вывезли на тачке за ворота больницы. Разделавшись с властью, они приступили к освобождению «политических» пациентов — тех, кто был помещен туда по распоряжению полиции. В конце концов участники «бунта» были арестованы и осуждены; Трошин получил более года тюремного заключения79.
Чижа и Трошина разделяли теперь не только профессиональные, но и политические взгляды. Чиж по-прежнему оставался лояльным режиму и считал революционеров «анархистами или политическими преступниками», чей разрушительный пыл «зависит от их болезненной организации». Революционная толпа казалась ему состоящей из алкоголиков и душевнобольных, а ее лидеры — вырождающимися80.
С началом революции психиатры стали писать об увеличении числа душевных заболеваний, связывая это с ростом насилия на улицах. Заговорили, в частности, об особой категории — «революционных психозах», которыми заболевают в основном жертвы репрессий. В отличие от своих радикальных коллег, возлагавших ответственность за рост насилия на правительство, Чиж утверждал, что виноваты обе стороны, приводя случаи избиения толпой полицейского или священника. Он не принял категорию «революционных психозов», так же как ранее отверг другие категории — «тюремные» и «военные психозы», о которых говорили во время Русско-японской войны81. Он настаивал: «вопрос о сильных душевных волнениях как причине душевных заболеваний следует считать сданным в архив. Здоровые нормальные люди не могут заболеть душевной болезнью вследствие сильного душевного волнения». Чиж упрекал своих радикальных коллег за то, что они кроят этиологию душевных болезней по мерке своих политических симпатий, и предупреждал, что это «усилит недоверие публики к психиатрии»82. Он снова призвал отделить психиатрию от событий дня. Но, как это уже было в полемике по поводу Плюшкина, те психиатры, которые не могли и не считали нужным стоять в стороне от общественных событий, отвергли нейтралитет. В последующее десятилетие о Чиже было мало что слышно. В 1915 году он возглавил отделение Красного Креста на Западном фронте. Октябрьская революция застала его в Киеве; там, по-видимому, Чиж и умер или погиб в 1922 году83.