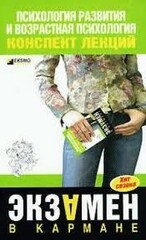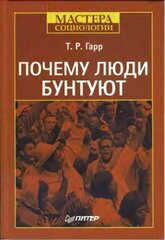16
Эго, друзья мои, эго. Чем больше я пытался разрушить его с помощью Жребия, тем больше оно разрасталось. Каждый бросок кубика откалывал от старого «я» очередной осколок, чтобы питать растущие ткани эго дайсмена. Я убивал былую гордость за себя как аналитика, автора статей, привлекательного мужчину, любящего мужа, но каждый труп скармливался этому каннибалу — эго сверхчеловеческого существа, которым я, по моим ощущениям, становился. Как я гордился тем, что стал дайсменом! Чьей главной целью, скорее всего, было полностью убить чувство гордости за собственную личность. Для меня же были допустимы любые варианты, кроме тех, что могли оспорить его могущество и славу. Кроме этой, все ценности — дерьмо. Заберите у меня эту идентичность, и останется лишь дрожащее от ужаса ничтожество, одинокое в пустой Вселенной. Если у меня есть решимость и Жребий — я Бог. Однажды я записал вариант (один шанс из шести), что могу (месяц) не подчиняться никакому решению Жребия, если захочу и если выпадет соответствующее число. Но такая возможность меня напугала. Паника унялась, только когда я понял, что такой акт «неповиновения» на самом деле будет актом повиновения. Жребий этим вариантом пренебрег. В другой раз я подумал, не написать ли, что отныне все решения Жребия будут рекомендациями, а не приказами. В сущности, я сменю его роль с верховного главнокомандующего на консультативный совет. Но угроза вновь обрести «свободную волю» парализовала меня. Этот вариант так никогда и не был записан.
Жребий постоянно меня унижал. Как-то в субботу он велел мне напиться: действие, которое представлялось мне несовместимым с моим достоинством. Быть пьяным означало потерять контроль над собой, что к тому же несовместимо с отстраненным экспериментальным существом, которым я становился, подчиняясь воле Жребия. Но мне понравилось. То, что я вытворял, не слишком отличалось от моих безумств на трезвую голову. Я провел вечер с Лил и Экштейнами, а в полночь принялся делать самолетики из рукописи моей книги о садизме и запускать их из окна, выходящего на 72-ю улицу. В пьяном виде я приставал к Арлин, что и было интерпретировано как домогательства в состоянии опьянения. Это происшествие стало очередной уликой в деле о медленном распаде Люциуса Райнхарта.
Я обеспечил своих друзей множеством других улик. Теперь я редко обедал со своими коллегами, поскольку, когда у меня было свободное время, Жребий обычно отправлял меня в другие места. Когда же я все-таки обедал с ними, кости часто навязывали мне какую-нибудь эксцентричную роль или поступок, которые, похоже, вызывали у них тревогу. Однажды во время двухдневного полного поста (я только пил воду), который выбрал для меня Жребий, я почувствовал слабость и решил позволить костям никуда меня не посылать: я разделю свой пост с Тимом, Джейком и Ренатой.
Они разговаривали в основном друг с другом, к чему уже привыкли за несколько последних месяцев. Когда адресовали вопрос или комментарий мне, делали это осторожно, как дрессировщики, кормящие раненого льва. В тот день обсуждали политику условной выписки пациентов из больницы, а я нервно посматривал на стейк Джейка и терял голову от голода. Доктор Манн обмусолил гребешками весь стол и свою салфетку, доктор Феллони изящно препровождала каждый отделенный крошечный кусочек баранины (баранины!) в рот, а я сходил с ума. Джейк, как обычно, умудрялся говорить и есть быстрее, чем Манн и Феллони вместе взятые.
— Их нельзя выпускать, — сказал он. — Если пациента выпускают преждевременно, это вредно для нас, для больницы, для общества, для всех. Почитайте Боуэрли.
Молчание. (На самом деле, жевание [я слышал каждый хруст], другие голоса в ресторане, смех, грохот тарелок, шипение жарящейся еды [я слышал, как лопается каждый пузырек] и громкий голос, который сказал: «Больше никогда».)
— Ты абсолютно прав, Джейк, — неожиданно произнес я. Это были мои первые слова за все время ланча.
— Помните того негра, выпущенного с испытательным сроком, который убил своих родителей? Какими мы были идиотами. А что, если бы он их только ранил?
— Он прав, Тим, — сказал я.
Доктор Манн не удосужился оторваться от еды, но Джейк метнул в меня еще один пронизывающий взгляд.
— Готов поспорить, — продолжал он, — что две трети пациентов, выписанных из больницы Квинсборо и других государственных больниц, выписаны слишком рано, то есть когда они всё еще представляли угрозу для себя и для общества.
— Верно, — сказал я.
— Я знаю, стало модным считать, будто госпитализация в лучшем случае — необходимое зло, но это глупая мода. Если у нас есть что предложить пациентам, то уж у больниц тем более. Пациент получает в три раза больше часов, проведенных с врачом, чем при самом лучшем амбулаторном лечении. Почитайте Хегальсона, Поттера и Буша, издание пересмотренное и исправленное.
— К тому же они не пропускают сеансы, — добавил я.
— Верно, — продолжал Джейк, — и лишены домашней обстановки, которая портит им жизнь.
— Нет ни жен, ни мужей, ни детей, ни домашней еды.
— Ну да.
— Но разве мы не стремимся к тому, чтобы пациенты адаптировались как раз к домашней обстановке? — перебила доктор Феллони.
— Адаптировались к какой-нибудь обстановке, — ответил Джейк. — Я пытаюсь добиться, чтобы мои пациенты-негры, пройдя групповую терапию, увидели болезнь белого мира, прекратили возмущаться и нашли удовлетворение либо в своей жизни в отделении, либо в неизбежном прозябании в гетто.
— Да кто ж не видит, — сказал я, — что мир белых болен. Посмотрите на миллионы голодающих в Восточной Германии.
Джейк притормозил на мгновение: он привык, что с ним соглашаются, но сейчас был не вполне уверен, не скрывается ли в моем заявлении какой-нибудь подвох. С блеском, составлявшим его суть, он уклонился от прямого ответа:
— Наша работа — обколоть психологическим пенициллином все общественное устройство, и белое и черное, и мы это делаем.
— А что касается миссис Лансинг, — сказала доктор Феллони, — вы по-прежнему считаете, что ее стоит выпустить?
— Это твое дитя, Рената, но помни: «Не уверен — не выпускай».
Доктор Манн рыгнул, и это было явным предупредительным сигналом, что он собирается говорить. Мы посмотрели на него с уважением.
— Джейк, — сказал он, — из тебя вышел бы прекрасный начальник концлагеря.
Молчание. Тогда я сказал:
— Что за мерзкая чушь! Джейк хочет помочь своим пациентам, а не уничтожить их. И, между прочим, в концлагерях начальник временами… морил их голодом.
Молчание. Доктор Манн, казалось, жевал жвачку; доктор Феллони медленно двигала головой вправо-влево и вверх-вниз, как зритель на теннисном матче, который целиком состоит из высоких подач. Джейк резко подался вперед и, бесстрашно глядя в безмятежное лицо доктора Манна, выпалил со стремительностью пишущей машинки:
— Не знаю, что ты имеешь в виду, Тим. Я в любой момент готов сравнить истории болезни моих пациентов с твоими. Моя политика выписки пациентов та же, что у директора. Думаю, ты должен извиниться.
— Совершенно верно, — доктор Манн вытер рот салфеткой (или, возможно, обгрыз ее). — Прошу прощения. Из меня тоже вышел бы прекрасный начальник. Единственный, кто им не стал бы, — это Люк, он бы всех выпустил — из прихоти.
Доктор Манн не испытывал энтузиазма по поводу выписки Артуро Тосканини Джонса.
— Нет, не выпустил бы, — сказал я. — Будь я начальником, я бы увеличил норму питания на двести процентов и ставил бы на заключенных эксперименты, которые за год продвинули бы психиатрию на сто лет вперед по сравнению с Фрейдом.
— Ты говоришь о заключенных-евреях? — спросил Джейк.
— Чертовски верно. Евреи — лучшие субъекты для психологических экспериментов. — Я замолчал секунды на полторы, но когда Джейк открыл рот, продолжил: — Потому что они такие умные, чувствительные и гибкие.
Джейк замешкался. Как-то получилось, что расовый стереотип, который я создал этими тремя прилагательными, оставил его без цели для обстрела.
— Что ты имеешь в виду под «гибкими»? — спросил он.
— Их ум открыт, восприимчив к новому, способен изменяться.
— Какие бы эксперименты ты стал проводить, Люк? — спросил доктор Манн, не сводя глаз с толстого официанта, который проколыхал мимо нас блюдо с лобстерами.
— Я бы не трогал заключенных физически. Никаких операций на мозге, стерилизаций и тому подобного. А сделал бы вот что: превратил бы всех аскетов в гедонистов; всех эпикурейцев во флагеллантов; нимфоманок в монахинь; гомосексуалистов в гетеросексуалов и наоборот. Заставил бы всех есть некошерную пищу и отказаться от своей религии, сменить профессию, стиль одежды, уход за собой, походку и так далее, и научил бы всех быть неумными, нечувствительными и негибкими. Доказал бы, что человека можно изменить.
Доктор Феллони выглядела немного напуганной и закивала весьма энергично.
— И мы собираемся сделать это в Государственной больнице Квинсборо?
— Когда я стану директором, — ответил я.
— Не уверена, что это было бы этично, — сказала она.
— А как ты все это собираешься сделать? — спросил доктор Манн.
— Дролевая терапия.
— Дролевая терапия? — спросил Джейк.
— Ну да. Хонкер, Ронсон и Глуп, «Эй-пи-би джорнал», страницы с шестнадцатой по двадцать третью, аннотированная библиография. Это сокращение от драмо-ролевой терапии.
— Официант, меню десертов, пожалуйста, — сказал доктор Манн и, похоже, потерял интерес к теме.
— То же, что у Морено? — спросил Джейк.
— Нет. Пациенты Морено разыгрывают свои фантазии в инсценированных пьесках. Дролевая терапия состоит в том, что пациентов заставляют проживать их подавленные скрытые желания.
— Что такое «Эй-пи-би джорнал»? — спросил Джейк.
— Джейк, я согласен со всем, что ты говоришь, — сказал я умоляюще. — Не провоцируй меня. Вся тонкая ткань, на которой держится наш спор, порвется и обрушит все это на нас.
— Не я предлагал экспериментировать на пациентах.
— Тогда чем ты занимаешься на типичном сеансе?
— Лечу.
Доктор Манн расхохотался. Это мог бы быть долгий рокочущий хохот, но доктор поперхнулся едой, и все закончилось приступом кашля.
— Но, Джейк, — сказал я, — я думал, у нас была идея понемногу наращивать возможности и увеличивать прием в психиатрические больницы на один процент в год, пока вся нация не вылечится.
Молчание.
— Тебе придется быть первым, Люк, — сказал Джейк тихо.
— Позвольте мне начать сейчас, сегодня. Мне нужна помощь. Мне нужна пища.
— Ты имеешь в виду анализ?
— Да. Мы все знаем, что он мне крайне необходим.
— Доктор Манн был твоим аналитиком.
— Я потерял в него веру. Он не умеет вести себя за столом. Он переводит еду.
— Тебе это и раньше было известно.
— Но раньше я не знал, как важна пища.
Молчание. Потом доктор Феллони:
— Я рада, что ты упомянул о манерах Тима за столом, Люк, потому что с некоторого времени…
— Как насчет этого, Тим, — спросил Джейк. — Могу я взять Люка?
— Конечно. Я работаю только с невротиками.
Это двусмысленное замечание (я был шизофреником — или психически здоровым?), по сути, закончило разговор. Несколькими минутами позже я вышел из-за стола на подкашивающихся ногах с договоренностью начать анализ с доктором Джейкобом Экштейном в пятницу в нашем общем офисе.
Джейк уходил, как человек, которому на серебряном блюде преподнесли свидетельство его божественного происхождения, — приближался его величайший триумф. И, согласно Фромму58, он был прав. Что касается меня, то когда я через восемнадцать часов наконец поел, это убило мой аппетит к терапии, однако, как выяснилось, мысль вернуться к анализу с Джейком была гениальной. Никогда не оспаривай Путь Жребия. Даже когда умираешь с голоду.
58 Эрих Фромм — социопсихолог, философ, психоаналитик, представитель Франкфуртской школы, один из основателей неофрейдизма и фрейдомарксизма.