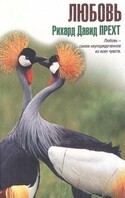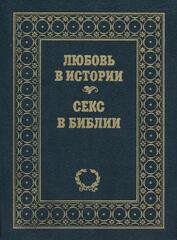ЛЮБОВЬ
Глава 7. Сложная идея. Почему любовь — не эмоция?
О любви и столах
Наш язык — очень странная вещь. Он не особенно логичен и не особенно хорошо упорядочен. Но тем не менее каждый философ, пытавшийся внести больший порядок в язык, чтобы приблизиться к истине, терпел неудачу. Причина этих неудач на поверхности: по своему происхождению язык — не средство познания, а средство достижения взаимопонимания.
Возьмем для примера предложение: «Статуя сотворена из бронзы и честолюбия». Сточки зрения грамматики оно безупречно, но по содержанию довольно курьезно. Человеком, положившим жизнь на то, чтобы разобраться с такими курьезами, стал англичанин Гилберт Райл (1900–1976). На примере своего кумира Людвига Витгенштейна оксфордский студент усвоил, что невозможен «идеальный язык», полностью свободный от двусмысленностей и неувязок. Вместо того чтобы создавать утопический безошибочный язык, Райл попытался отыскать умные правила обращения с тем реальным языком, который находится в нашем распоряжении.
За свою жизнь Райл написал одну по-настоящему значимую книгу: «The Concept of Mind» («Понятие сознания»). В 1949 году, когда была опубликована эта работа, она произвела настоящую сенсацию. Воодушевленно, на множестве примеров Райл показал, что человеческое сознание не располагает собственным, независимым существованием, но целиком и полностью зависит от биологического строения организма и от головного мозга. Естественно, в этих утверждениях не было ничего нового. Так видели положение вещей еще Аристотель, материалисты Просвещения, многие философы XIX века и не в последнюю очередь Уильям Джеймс. Революционным в книге было то, что с этих позиций выступил философ языка, представитель совершенно иной научной традиции, а именно — традиции, старавшейся понять мир логически, а не биологически.
Так как научные исследования мозга в 1940-е — 1950-е годы двадцатого века ограничивались регистрацией простейших электрических потенциалов, Райл возлагал свои надежды на исследование поведения. При этом Райл быстро понял, что процессы, происходящие в мозге — это не то же самое, что понятия, которыми люди описывают состояния своего сознания, или духа. Слово «дух» существует уже больше двух тысяч лет. Оно было придумано, очевидно, не для того, чтобы один к одному описать состояние головного мозга. Та же проблема касается таких слов, как душа, самосознание, внимание и так далее. Все эти слова не подходят к электрофизиологическим процессам в мозге, как ключ к замку. Это почтовые кареты в аэропорту.
Райл без устали выискивал в языке неподходящие слова, относящиеся к категориальным ошибкам, как называл это он сам. При попытке упорядочить словоупотребление из всех щелей начинает вылезать бессмыслица. Например, мы говорим, что на поле стадиона выбежала футбольная команда, но в действительности выбежала не команда, а выбежали игроки. Для Райла это классическая категориальная ошибка, ибо команды не могут бегать, это совершенно иная категория, нежели игроки. То же самое, по мнению философа, происходит от неверного употребления понятий «состояние головного мозга» и «духа». Одно дело — игроки, другое дело — команда. Искать дух в мозге, это все равно что искать на футбольном поле, помимо игроков, некую команду.
Для любви отсюда вытекают два важных следствия. Первое: в головном мозге не существует никакой «любви». В нем протекают только биохимические процессы. Во-вторых, мы должны избегать обозначения наших эмоциональных и духовных переживаний таким существительным, как «любовь». Такое словоупотребление, по Райлу, является недопустимым, ибо оно приводит к неверному допущению о том, что «любовь» — это такой же вещественный, реальный предмет, как, например, стол.
Что можно вывести из двух этих ключевых суждений? Райл, несомненно, очень близок к истине. Мы уже подробно говорили о выводах относительно «романтической любви», сделанных на основании запутанной картины биохимической активности мезолимбической системы промежуточного мозга. Окситоцин тоже не является «гормоном любви». Тот, кто так считает, преуменьшает сложность богато окрашенной множеством переливающихся оттенков любви. То, что мы понимаем под любовью, несравненно больше, нежели любое биохимическое объяснение.
Но как быть со вторым следствием? Имеем ли мы право говорить о «любви» и тем более писать о ней книги (чего сам Райл не сделал бы никогда)? Мне кажется, что все обстоит как раз наоборот. Если бы любовь была четко и однозначно очерченным предметом, как, например, карандаш или дерево, то были бы излишними всякие наблюдения и размышления. Но «любовь», как сказал бы сам Райл, это существительное, которое, как и многие другие существительные, методами обиходного языка классифицирует явления окружающей действительности, образуя недоступные вразумительному толкованию понятия. То, что любовь не соответствует никакой осязаемой вещи и никакому определенному состоянию мозга, не является основанием вовсе о ней не говорить. Напротив: именно поэтому любовь остро нуждается в объяснении, пусть даже и не на потребу доказуемой естественнонаучной истины.
Рассуждения о любви создают — в лучшем случае — понятность: человек чувствует, что имеет в виду то же самое, что и другие, он понимает сам себя, а это уже немало. Противоположная позиция, осуждающая словоупотребление, повторяет ересь Витгенштейна, полагавшего, что язык — это орудие истины, а не инструмент социального общения. Доля участия психической неустойчивости, использования подручных материалов и отсеивания в выборе слов больше и важнее, чем хотелось бы Райлу с его подчеркнуто антипсихологической позицией. Пусть даже любовь — это не предмет реального мира: любящие все равно видят в ней фильм, который они сами творят.
Для того чтобы понять любовь, надо понимать не только эмоции, но и целый мир представлений, управляемый установленными и неустановленными законами. Эмоции — например, голод — существуют сами по себе. Мы точно знаем, что именно мы ощущаем. Если нам холодно, то мы это отчетливо понимаем. То же самое касается усталости. Напротив, чувства не существуют «сами по себе», нам приходится их интерпретировать. Точно так же и «любовь» есть очерченное чувство, интерпретация наименования «любовь». Нам не всегда легко сказать, что с нами происходит, когда мы испытываем чувство. Многие чувства сопровождаются таким смутными представлениями, что мы сами не знаем, как их обозначить. Может случиться и такое, что мы и сами долгое время не можем понять, любим ли мы человека или нет. Мы внимательно прислушиваемся к себе и спрашиваем, полностью ли наше чувство соответствует тому, что мы представляем себе как любовь.
Такие чувства, как любовь, придают жизни цвет, но какой именно цвет, зависит отчасти от нас, мы сами — не всегда свободно, и иногда вынужденно — его выбираем. Уильям Джеймс учит нас, что мы обладаем своими чувствами, мы их толкуем. От Гилберта Райла мы узнаем, что за употребляемыми нами существительными стоят не факты, а наши о них представления. Отсюда мы выводим, что эмоциональная составляющая любви сильно преувеличена. Совершенно очевидно, что это свойство самой любви — переоценивать эмоциональную составляющую. Иллюзия всепоглощающей эмоции есть часть любви, хотя в действительности мы не так сильно преданы любви, как охотно говорим.
Если все же верно, что любовь — не просто эмоция, а нечто, создаваемое нами самими, то как выглядит руководство этим созиданием, по какому плану оно ведется? По каким правилам играет любовь в наших головах? Какие механизмы она в нас запускает и почему? Что мы творим с собой, когда любим?
На этот вопрос можно ответить исходя из двух точек зрения: с точки зрения психологии и с точки зрения социологии. Любовь, как правило, разыгрывается не на необитаемом острове, она есть явление как личностное, так и общественное.
Мы начнем с личностного аспекта.