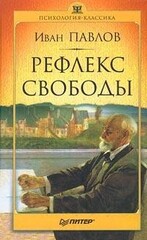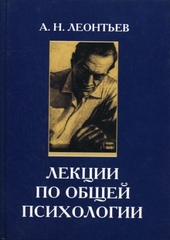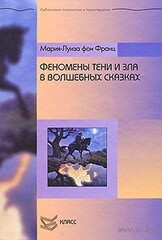Культура народа и культура личности. Шесть лекций
О свободе и личности
Я хочу побеседовать с вами о «свободе и личности», рассматривая их не как две, а как одну идею. Понятие «свободы» одно заключало бы в себе слишком много значений; соединение с «личностью» направляет мысль на более определенный путь. Свобода в смысле личности, свобода личности, личность свободы — таково было бы более точное обозначение темы.
Нужно признать, что обозначенный этими словами идеал жизни действительно нуждается в оправдании в духовной атмосфере и времени, которые не только не благоприятны для культивирования личной жизни, личной свободы, но, по-видимому, совершенно оспаривают у ней право на жизнь и возможность существования. В самом деле, едва ли может быть сомнение относительно того, что в современной жизни и даже в современной науке почти все уже противится стремлению к утверждению и свободному развитию личности.
Мы видим себя в современной жизни связанными со всех сторон твердо установленными жизнепорядками, которые мало считаются с единичной личностью и с неумолимой деловитостью подчиняют жизнь и поведение каждого отдельного лица без различия одной и той же принудительной власти общих правил. Конечно, ни одни из этих порядков — порядков права и нравственности на различных ступенях — не представляют собой чего-либо абсолютно неразумного. Ни одно из них не вступило бы в жизнь, если бы оно не было в том или ином смысле, в каких-либо определенных границах целесообразным; ни одно из них не удержалось бы на своем месте, если бы оно в достаточной степени не соответствовало целям известной части людей. Эти порядки, конечно, не неизменны: они проходят через постоянные перемены, все время приспособляясь к жизненным потребностям, как бы несовершенно и недостаточно это приспособление ни было. Но если бы даже оно было гораздо более тонким, тесным и более подвижным, чем это было до сих пор, в природе этих порядков как общих заложено то, что они в действительности могут соответствовать только фиктивному среднему имеющихся жизненных интересов, которые расходятся в тысячах направлений и вступают друг с другом в противоречие; между тем их целое часто идет вразрез с фактическими жизненными интересами отдельного лица, т. е. это целое необходимо приобретает для него характер чего-то принудительного, связывает его в бесчисленных отношениях и тем более, чем более индивидуально дифференцированную форму принимает его внутренний мир, чем менее, с другой стороны, он может отказаться от согласования своего внешнего поведения, своей жизни в совместной сфере со своими внутренними убеждениями. Поэтому социальный порядок, как таковой — каждый, даже относительно лучший или наименее несовершенный именно потому, что он обезоруживает сопротивление еще более, чем явно извращенный, вызывающий на противоречие уже самим своим существованием, – каждый социальный порядок действует необходимо в сторону нивелировки человека по меньшей мере в его внешнем поведении, оттеснения его индивидуальности, поскольку индивид еще в состоянии удержать ее до некоторой степени, по крайней мере внутри, а это значит, что он ведет индивида к противоречию между его внутренним убеждением и внешним поведением, вызывает его прямо-таки на ложь и до некоторой степени воспитывает его в этом направлении.
Но этим мы только слегка коснулись более глубоких причин человеческой несвободы. Существующие положения права и нравов являются все время только выражением и притом очень неточным выражением глубже лежащих обстоятельств; они сами представляют собой не независимо неизменный, а очень зависимый фактор человеческой жизни; они обладают принудительной силой только потому, что сами стоят под властью еще более принудительной силы. Эта принудительная сила лежит в них не изначально, а они являются только орудием на службе у сил, которые облачаются в одеяние права и добрых нравов только для того, чтобы под этой обманчивой внешностью тем увереннее и неуловимее пользоваться своей тайной властью. Эти силы, по-видимому, бывают главным образом двух родов: во-первых, принудительная сила внешней житейской нужды и вытекающие из нее хозяйственные конъюнктуры; с другой стороны — духовные принудительные силы.
Без сомнения, теория, утверждающая, что экономические условия человеческой жизни безусловно господствуют над всем человеческим и определяют его, до такой степени одностороння и насильственна, как только вообще научная теория может быть одностороння и насильственна. Но то, что в ней остается истинным, представляет собой колоссально много и обладает почти неизмеримым значением именно в нашем вопросе. Сохранение жизни, как бы то ни было, есть дело первой необходимости, предварительное неизбежное условие для всего остального. Поэтому человек находится прежде всего под давлением этого благороднейшего принудительного фактора и только на ступени высшего героического возвышения над самим собой, т. е. лишь изредка, в исключительном положении, совершенно освобождается от него. Дифференцированная же человеческая жизнь, жизнь, которая не направлена, как у животного или первобытного человека, на непосредственно чувственно данное настоящее и потому не ставится каждое мгновение без раздумья на карту, а устраивается с расчетом на продолжительное существование и связывает, с помощью памяти и предвидения, давно прошедшее и предстоящее в далеком будущем с переживанием данного момента, – такая жизнь требует для своего сохранения и повышения соответственно дифференцированного прозорливого взвешивания хозяйственных отношений. Выработка жизненных условий необходимо становится в силу этого все шире и сложнее. Поэтому мы в настоящее время видим, что как раз народы, больше всех участвующие в развитии условий человеческого существования по направлению к более высоким, т. е. к более дифференцированным, формам, охвачены настоящим бешенством работы — работы, направленной, несомненно, не исключительно, но в преобладающей мере на создание все с большим трудом дающихся условий и предпосылок столь усложнившейся жизни; но большинство работающих не доходит до действительного пользования этими благами по той простой причине, что застревают в этой работе над добыванием средств к жизни. Средство все больше и больше становится единственной и исключительной целью; создание возможностей к жизни уничтожает саму жизнь, более того — даже ее возможность (в более высоком смысле). И преобладавшая до сих пор тенденция развития едва ли ведет нас в направлении постепенного изменения этого отношения; наоборот, мы видим, что с увеличением средств к жизни жизнь сама для колоссального большинства людей становится все более трудной и потому опустошенной и обеднелой. Потребности вырастают до неимоверных размеров, а их удовлетворение в соответствующей мере для громадного большинства невозможно. А так как это развитие по его природе совершенно не зависит от воли отдельных индивидов, наоборот, более или менее неумолимо втискивает каждого — во всяком случае, каждого, кто не стоит на социальной лестнице очень высоко, – в свой механизм и, в общем, приковывает его на всю жизнь к его строго ограниченной работе, вознаграждение же за эту работу выкраивается всегда односторонне в интересах этой системы, т. е. все время так, чтобы система эта, во всяком случае, сохранилась, то отсюда необходимо вытекает постоянное, все более крепнущее принуждение для всех, так сказать, без исключения. Ибо даже те, кто по своим выдающимся способностям или только в силу своего благоприятного положения имеет самое сильное влияние на ход всей машины, кто поэтому представляется угнетателем внизу стоящим и повинующимся, стиснув зубы, его приказаниям, как раз они в действительности стоят под давлением не менее принудительной силы: они принуждают, только подвергаясь сами принуждению; они давят лишь потому, что сами подвергаются крайне суровому давлению: давлению необходимости сохранять весь механизм и проводить его часто как бы против всякого доброго чувства. Вы видите, скоро они не будут знать ничего больше, кроме этой большой машины; они, право, не господа ее; я думаю, они в очень редких случаях воображают что-либо подобное. Во всяком случае, этого нет в действительности, и они такие же рабы, как и другие, если не больше. Великолепную, вечно истинную характеристику в государстве Платона тирана — как самого жалкого, самого зависимого, более всех терпящего ущерб в отношении истинно человеческого — можно было бы черта за чертой перенести на современных промышленных тиранов, на весь господствующий, мнимо господствующий, экономический класс. Если же дело еще и не дошло до такого окончания, то оно, во всяком случае, не далеко от этой стадии, и мы, по-видимому, делаем все, что в наших силах, чтобы довести дело возможно скорее до такого конца.
Где в таких условиях убежище для личной жизни, личной свободы? Вещь, в самом опасном смысле этого слова, материя, пошлая житейская нужда, по-видимому, гнетет всех — как высоко стоящих на социальных подмостках, так и низших.
Правда, на узкой средней линии еще может удержаться некоторая доля личной свободы. Высокоразвитая экономическая система, как бы там ни было, требует много интеллигентности, поэтому представители этой системы не могут не заботиться о культивировании ее. А так как действительно интеллигентные силы поглощают не так уж много внешних средств к жизни, то они могут сохранять их без особых чувствительных жертв и, в общем, делают это. Они даже не претендуют за это на слишком большие услуги с их стороны. Задачи, которые ставит интеллигентным силам эта система — как научные, технические, художественные, имеют для интеллигентного работника и самостоятельный интерес, не зависящий как таковой исключительно от целей приобретения, которые, может быть, все-таки кроются позади них. Поэтому, в общем, он охотно берется за выпавшую на его долю задачу, не чувствуя себя при этом рабом. Он с улыбкой смотрит, как внешние плоды его духовной работы получает не он, а тот, кто задал ему эту работу. Он хорошо знает, что действительная настоящая выгода достается не работодателю, а системе, той самой системе, которая, может быть, тяжелым давлением ложится на плечи всех других, но его, работника на поле интеллигентности, она давит, собственно, меньше всех.
Таким образом, и на ступенях общего развития регулярно встречается известная средняя, стадия, на которой в относительно широком объеме процветают личная свобода и личная жизнь. Люди совершают очевидную ошибку, мысля состояние райской свободы в первобытном времени человеческого рода, по ту сторону всяких социальных порядков: народности, ближе всего стоящие в наше время к примитивным формам социальной жизни, ясно доказывают противоположное. Вообще, в до крайности мало дифференцированной жизни примитивных народов едва ли может быть речь о личности и, значит, об истинной свободе, о свободе личности; наоборот, именно там отдельный индивид является исключительно только звеном в цепи целого: он живет и ощущает только в нем, не знает никакого желания, не имеет никакого понятия о том, что все вообще могло бы быть иначе. Правда, он не чувствует себя под давящим его принуждением, но не потому, что он свободен, а потому, что у него еще совсем не родилась идея возможной свободы. Только прогрессирующее дифференцирование работы, сил и вместе с тем мыслей и ощущений пробуждает эту идею из дремоты. Борьба за повышенную культуру, освобожденную от принудительности настоящего времени и захватывающую все более далекие круги интересов, порождает или высвобождает все новую душевную энергию, колоссальная деятельность которой создает великий окрыленный ритм свободы, как мы чувствуем его в периоде короткого расцвета греческой жизни или в культуре Возрождения. Конечно, каждый из народов, творивших для человечества, пережил такое время. Так, наш народ прошел через него в свою поистине великую эпоху, – я имею в виду время Канта, Гете и Гумбольдта, – экономически, правда, еще народ голодающих, но уже медленно снова оживающий от ужасного падения, вызванного тридцатилетней войной, все еще порабощенный политически, но уже чувствующий приближение свежей струи свободы. Наша нация пережила тогда тот счастливый период, когда она испытала могучий подъем новых, еще неистраченных творческих сил, сопровождавшийся высоким чувством личности, когда творческий дух еще не успел стать рабом своего собственного творения, когда простое средство еще не поглотило цели.
Есть ли еще необходимость сравнивать наше время с той эпохой? Некоторые из незабвенных памятников личной жизни того времени стали известны только недавно. Я имею в виду здесь особенно переписку несравненной пары Вильгельма и Каролины фон Гумбольдт. Где в наше время есть хотя бы только возможность такой личной жизни на высотах человечества, какая досталась им обоим? Мы напрасно стали бы стремиться назад к тому времени: развития, протекавшего той порой своим чередом, нельзя повернуть обратно. Мы богаты и могучи, мы возросли в числе до устрашающих размеров; высота нашей технической культуры, превышающая все бывшее до сих пор энергия нашей экономической работы подняла нас в головокружительном полете на одно из самых высоких мест в конкуренции наций, но свободным народом мы, нужно правду сказать, не стали. Могут сказать: мы не были им и сто лет тому назад. Но все-таки в нашем народе и в благороднейших из вожаков его тогда жила сама идея, и эта идея — она была для него реальностью, гордым, безусловно надежным ручательством за то, что свобода будет скоро завоевана. «Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei und würd er in Ketten geboren» (человек создан свободным, он свободен, хотя бы он родился в цепях) – так пел, так чувствовал немец того времени, прозябавший в цепях Наполеона: он пел эту песнь именно наперекор этим цепям, по своему глубочайшему убеждению, вслед за своим Шиллером. И он был прав в этом своем чувстве: в нем была воля к свободе, и эта воля должна в конце концов необходимо победить, отчаиваться в этом — это значит отчаиваться в человечестве. Тогда идея еще доказывала наличность силы («in den Lüften frei» — как поет тот же упомянутый нами поэт), а именно: в высоте чистой мысли и чистой воли победить вечного врага, дух несвободы. Этот великий идеализм веры в то, «was kein Ohr vernahm, was die Augen nicht sahen» (чего не слышит ухо, чего не видят глаза), – куда он девался в наше время? Где чувствуем мы в нашей общественной жизни, где даже в нашей поэзии и литературе, музыке и пластическом искусстве мощное влияние его победоносной силы? В единичных личностях он несомненно жив, но разве тогда одна сентиментальная мечта или все-таки правда, что доля его жила в немом пашей нации и увлекала ее, с радостью готовую на жертву, на благородное, воодушевленное дело, более того, на моменты действительно объединяла всех, начиная с высших и кончая низшими, в одном великом чувстве? Вспомним хотя бы о том незабвенном моменте, когда народ, пройдя через тяжелую удушливую атмосферу чужеземного господства, поднялся как один человек и все дали друг другу клятву: «Мы победим или умрем здесь сладкой смертью свободных!» И действительно, это была борьба за свободу; не только борьба за свободу, но борьба свободных против рабства. Я не спрашиваю, могло ли бы наше время породить такую силу, как Гете или Бетховен, я спрашиваю: способно ли оно на такой национальный подъем, какой проявил наш народ тогда в атмосфере глубочайшего унижения? А народная война без такого внутреннего подъема в образе мыслей была бы ничем иным, как отвратительным убийством, уже жестокой пробой власти материи над духом, какую будет обозначать удивительная техника нового времени в том случае, если не окажется налицо духа, который докажет существование энергии, способной принудить эти колоссальные материальные силы к действительной службе ему, к службе высшим духовным задачам человеческого рода. Чувствуешь соблазн сказать: это поколение потому не вправе пережить войну, что то единственное, что может освятить ее, в наше время не существует. Можно ли выдать какому-нибудь времени или нации худший аттестат, чем этот? И все-таки можно ли нашему времени, нашей нации, как она проявляет себя в наше время, выдать лучший аттестат? У меня не хватило бы мужества на это. Однако кого же винить? Добровольно ведь никто не отказывается от внутренней свободы. Тяжелый рок приводит нас к потере ее: рок экономических необходимостей, с которыми духовно справиться не дается человечеству так скоро, как они, к сожалению, одолели его. Эта потеря подкралась как во тьме, поистине нежеланная и незваная никем. Принудительная власть машины навалилась, как гора, на всех нас, и вся духовная жизнь или должна сама служить, или бессильно плестись около, лишенная влияния на целое социальной жизни. Я раньше в одном месте заметил: собственно говоря, есть только два вида убеждений — защитники авторитета и друзья свободы. Первые вполне правы по отношению к фактам: они видят ясно, что принудительная власть экономической машины действительно существует и господствует над всем, они признают факт этой принудительности и склоняются перед ним; они так или иначе примирились с ним и чувствуют себя при этом хорошо, так как их психические и физические силы не растрачиваются более — как у вторых, у еретиков, – на борьбу против неизменной необходимости, и они счастливо нашли путь, в общем, без трений войти в общий ход машины, хотя бы в виде самой ничтожной частицы ее. Однако силам ума и воли также нет необходимости бездействовать: как мы уже заметили, огромная машина может использовать и те и другие на своем месте, заставить их служить себе, и управители ее не преминут вознаградить таких интеллигентных работников, хотя и не по степени продуктивности как таковой, а исключительно по степени пользы для нее, для машины.
Но именно таким путем принуждение становится настоящим духовным и психическим, и этот характер придает ему для духовно и психически дифференцированного человека всю его необычайно горькую остроту. Борьбу с физической нуждой, даже если она тягостна, человек еще охотно берет на себя, пока он может только оставаться в своей душе свободным. Как приходилось бороться с ней именно величайшим людям, и тем не менее они не дали ей сокрушить себя! Вспомните о геройской жизни Кеплера, который должен был в качестве императорского и государственного математика добывать насущный кусок хлеба составлением календарей и определением судьбы по гороскопу или был вынужден, постоянно обманываемый, мириться с тем, что сильные мира сего давали ему его не без унижений, как нищему; и он переносил все это, чувствуя свое превосходство над ними, с юмором, чтобы не лишить себя святой радости воздавать хвалу Богу своим великолепным трудом исследователя! Таким образом, и он был свободным. Но именно духовно все работает против этой свободы и стремится, хотя скорее инстинктивно, чем с сознанием, задушить ее. Принудительная сила любит одеваться именно в высшие формы духовного, чтобы тем вернее покорить дух. Ибо «каков человек, таков его Бог»: порабощен человек, тогда он создает себе своим воображением надмировую господствующую власть, которая находит удовольствие в том, чтобы держать все, самый дух человека, под гнетом рабства. Он подымается тогда до предчувствия бесконечного только для того, чтобы ощутить его над собой как безусловно подавляющую власть и вымолить у его милости рабскую жизнь и для своего духа и воли. А кто посмеет тронуть эту цепь, тот становится в его глазах хулителем, отщепенцем, у которого, должно быть, «Бог это его утроба», потому что Бог должен быть у него необходимо, т. е. он непременно продал себя кому-нибудь или чему-нибудь в рабство; иного ничего нет, не может, не должно быть. Такая ненависть к свободе живет еще во многих, – об этом недавние переживания напомнили всем тем, кто с такой радостью забыл бы о ее существовании, – и является в этом мире силой, которая давит более или менее на всю нашу духовную и нравственную жизнь, на наше воспитание и стремится укрепиться навеки прежде всего с помощью последнего.
А как обстоит вообще дело с воспитанием современного человека? Есть ли оно то, чем оно должно быть — воспитанием к свободе? Прежде всего дом, несомненно, мог бы быть убежищем свободы: при благоприятных условиях, по крайней мере, играющий ребенок еще свободен, свободнее, чем большая часть нас, взрослых. Но затем его принимает школа в свои слишком твердые руки. Вне всякого сомнения, она должна была бы, она хотела бы, конечно, представлять собой место культивирования личной жизни: многие важные условия для этого там выполнены или могли бы быть выполнены при достаточно доброй воле. В каких человеческих отношениях должна скорее всего парить свобода, как не в отношениях учащего и учащегося? Но я не вправе начинать жалобы, я меньше всего хотел бы впадать в тон жалобы. Ведь ясно, как солнце: школа, все современное воспитание молодежи само не свободно. Как же оно может воспитывать в свободе и к свободе? Испытывая само тысячекратное давление на себе, оно с механической необходимостью передает его дальше. Поэтому надо не бранить его, а, наоборот, с тем большей благодарностью признать истинный героизм, в общем, немалого числа тружеников, которые ухитряются в современной школе сохранить еще и развить некоторую долю духа свободы.
Для избранных за средней школой идет высшая, – для скольких людей она является единственным оазисом в пустыне жизни! Иной человек, довольно-таки отчаявшийся в свободе, даже ожесточившийся по поводу нее, сохраняет еще эту единственную набожную веру в «академическую свободу». Она странным образом встречает к себе не только далеко простирающееся снисходительное отношение, но и подчеркнутое покровительство даже со стороны тех, у кого в иных случаях, по-видимому, свобода уж не так-то сильно лежит на сердце, – может быть, потому, что они наблюдали, как хороший глоток из кубка этой свободы делает невосприимчивым к более серьезному стремлению к свободе. Чем объясняется это явление? Еще раз повторяю: я никого не обвиняю, я только стараюсь понять. Частью это объясняется простым действием контраста: в то время как во всем остальном вы видите себя заботливо связанными, тут вдруг вы чувствуете, что вас выпустили. Многие, очень многие становятся жертвой этого опасного перехода к внезапной внешней свободе, к которой они внутренне были неподготовлены. Конечно, самым обыкновенным и понятным результатом является то, что всю захваченную с собой внутреннюю несвободу переносят в эту мнимую и так называемую свободную жизнь и сами добровольно куют себе оковы, без которых они уже почти не умеют жить. Я не хочу в такой общей форме осуждать институт университетских корпораций. Они несомненно стремились одно время быть (в дни старых буршей) школой свободы, сообществом, построенным на собственной ответственности его членов, и до известной степени действительно имели такое значение. При благоприятных условиях они, конечно, окажутся плодотворными даже и в наше время. Я никогда не рискнул бы высказать о них общее суждение. Но я ясно вижу, что те, кто вкусил так называемую академическую свободу в самых полных размерах, обыкновенно не являются людьми, которые самым решительным и чистым образом вступаются в дальнейшей жизни за дело свободы, а о них можно сказать то, что они поют сами: «Sie zogen mit gesenkten Blick in das Philisterland zurück» (они отправились, опустивши очи, назад, в страну филистеров). Да и где нашли бы они затем сферу свободной деятельности? Или они должны приспособиться к господствующей системе, и в этом направлении советует, толкает и принуждает идти почти все; или же, если даже они хотят бороться с этой системой, они вынуждены надеть на себя новые оковы, оковы партии (какая бы это партия ни была); стоя одиноко, они не в состоянии ничего сделать, едва ли могут вообще существовать: они были бы безжалостно размолоты жерновами, взявшихся за них с обеих сторон — справа и слева.
Остается домашняя жизнь. Довольно редко бывает так, что там еще сочетаются две души, одинаково чистые и ясные, настроенные на один основной тон свободы, в гармоничном созвучии, которое не может быть нарушено никаким внешним диссонансом. А обыкновенно как раз брак и домашняя жизнь становятся, в свою очередь, только новыми оковами, нести которые тонко чувствующему человеку, может быть, тяжелее, чем все иное, потому что здесь ищет своего удовлетворения самая интимная в жизни личности потребность, потребность сердца, и как часто безуспешно. И как, должно быть, тяжело в жизни, столь полной несвободы, как наша, достичь того, чтобы в этом нежнейшем, наиболее чувствительном отношении на продолжительное время установилась полная взаимная свобода! Поэтому расшатанность брака в кругах, где еще осталось крайне чуткое чувство чистоты и глубины личных отношений двух душ, не является фактом, который мог бы поразить нас. И тут, следовательно, не следует обвинять, да и не надо извинять, а нужно понять и, конечно, чувствовать в этом призыв к серьезному раздумью над тем, куда, собственно, ведет нас наша духовная и душевная культура.
Остается последнее: бегство в объятия природы, пока есть еще природа и дикая погоня за техническими завоеваниями не опустошила ее у нас совершенно; или в объятия искусства, которое тоже, к сожалению, часто довольно дисгармонично взывает, ища здорового воздуха свободы; или, наконец, бегство в лоно религии, – она как гуманная религия, как ее мыслили себе, лелеяли и переживали наши отцы, несомненно не менее нуждалась в свободе и поэтому в наше время испытывает очевидную нужду в ней, но все-таки еще имеет возможность воздвигнуть в самом сокровенном уголке сердца свой алтарь. Тем не менее при всем том люди чувствуют себя в совершенно несвободной обстановке, как изгнанные на чужбину. Любовь к свободе лелеют в себе приблизительно так, как питает любовь к отечеству тот, у кого настоящее отечество отнято чужеземной властью.
Так обстоит дело со свободой в современной жизни. Не понятно ли, что многие говорят и думают: свобода вообще — это не что иное, как прекрасная греза нескольких чуждых миру поэтов и мудрствующих мыслителей? Может быть, в горечи чувства, с какой высказываются эти слова, все еще проскальзывает бессильный внутренний протест, но у большинства в наше время уже нет живой веры в реальность этой идеи; это не подлежит ни малейшему сомнению.
«Истина сделает вас свободными» — гласит великое изречение. Жажда истины — это, собственно, жажда свободы. Где течет источник для удовлетворения этой жажды?
Обратимся к науке как признанной хранительнице истины. Не является ли, в свою очередь, как раз ее ответ «только насмешкой над вопрошающим»? Некоторым из вас, вероятно, известна книга Карла Иоеля, озаглавленная «Свободная воля». После того как «просветитель» заронил в душу «наивного» человека, верующего в свободу, искру сомнения в свободе воли, автор посылает его в ряде живых бесед по очереди к психологу, юристу, естествоиспытателю, психиатру, историку, богослову, к занимающемуся моральной статистикой; со всех сторон он слышит, как из одних уст, один и тот же ответ: свобода воли — это не что иное, как великая всемирно-историческая ошибка; форум науки осудил ее, покончил с ней; процесс против нее тянется еще с давних пор, и теперь она проиграла его в последней инстанции. Правда, в названной мною книжке за этим следует поворот — как бы вступает в силу опротестование приговора, и процесс должен начаться сызнова. Новый еще больший ряд бесед снова восстановляет, видимо, потерянное дело свободы. Детерминизм не отрицается, а целиком вбирается в индетерминизм: причинность остается ненарушимым законом нашего познания, но она не есть абсолютный закон вещей. Сомнение новейших механиков в исключительном господстве механизма, витализм современных биологов, прагматизм таких гносеологов, как Мах и Авенариус, – все пускается в ход, чтобы обосновать новый метафизический индетерминизм, – и именно метафизический, кульминирующий в теизме, который в качестве последнего, не детерминированного детерминирующего, утверждает божественную мировую волю. Кто скромно отказывается знать что-либо о таких высоких вещах или чувствовать себя в силах стремиться к такому познанию, для кого спасение свободы на зыбкой почве метафизики не есть спасение, кому дорога свобода в этом нашем человеческом мире, тому и эта содержательная и значительная книга не даст настоящего устойчивого утешения. Таким образом, совершив это круговое путешествие по наукам, мы возвращаемся назад, нищие, с пустыми руками, как мы ушли, более того — беднее на одну великую, может быть, последнюю надежду: до этого мы чувствовали нашу несвободу, правда, с болью, но все-таки сильно восставая своим чувством против нее; теперь мы знаем: всякое сопротивление напрасно, неизбежно должно быть напрасным, раз наука, полная в иных случаях споров, вынесла в данном случае столь единодушное и определенное решение против свободы. Мы смотрим, как на дьявольское наваждение, на то, что сама эта наука, которой именно наше чувство свободы не может отказать в правоте (ибо ведь она владычица истины, а только истина одна может сделать нас свободными), обличает в собственной душе нашу веру в свободу во лжи и объявляет ее так-то и так-то объяснимым, потому и извинительным самообманом.
Если, таким образом, дело свободы оказывается, по-видимому, одинаково потерянным и проигранным и в жизни, и в науке, куда могла бы она еще спастись? Конечно, философия достаточно смела, чтобы стать над ними в качестве судьи. Но не есть ли это просто дерзкая претензия, от которой оба, жизнь и наука, уже давным-давно перешли к порядку дня? Или философия сама коренится в жизни и в науке, тогда она едва ли может и пожелает сопротивляться единодушному приговору обеих; или этого нет, тогда она вообще ничтожная вещь, сама только пустая греза, не способная сделать мечту о свободе правдой.
Тем не менее философия не вправе отклонить от себя компетентность в этом великом, величайшем из всех вопросов человечества. Этот вопрос подлежит не компетенции какой-либо отдельной науки, а он может найти ответ в связи со всеми теми вопросами, стоящими на границе человеческого познания и человеческой жизни, исследование которых образует совершенно своеобразную задачу философии.
Как ни единодушно, казалось, говорит опыт жизни, окончательного решения он все-таки не дает; он доказывает только, что свобода, во всяком случае, не с неба упала в виде дара благости нам, но что ее нужно каждый раз снова завоевывать в суровой, опасной борьбе. Мы должны были бы давно знать: «Nur der verdient sich Freiheit und das Leben, der täglich sie erobern muss» (только тот заслуживает свободы и жизни, кто должен ежедневно брать ее борьбой). Сама суровость борьбы, острота ощущения сопротивления, с которым свобода может справиться только тяжелыми усилиями, доказывают, что в нас все-таки еще живет и не поддается умерщвлению кое-что такое, что подымается против всей этой принудительности. Желание (воля) свободы, во всяком случае, есть; эта воля по крайней мере не фантом и не одна мечта, а в сознании этой воли свобода доказывается уже как реальность, каково бы ни было ее положение в мире, ее фактическое влияние на него. А все доказательства науки против свободы, хотя они и выступают в такой многообразной форме, сводятся в конечном счете все-таки к одному принципу: что причинность — основной закон опыта, что всякое суждение о фактах, о каком-нибудь событии во времени, называется ли оно физическим или психическим, подчинено этому основному закону законосообразной связи предыдущего с последующим и иначе, как по этому закону, его нельзя обосновать. Эта предпосылка незыблемо обоснована глубоко захватывающим вопрос исследованием Канта и дальнейшей работой после него и теперь уже не подлежит правомерному сомнению. Но эта предпосылка, однако ж, не помешала Канту и всем исходивших от него мыслителям утверждать идею свободы, более того, эта предпосылка образует как раз одну из существенных посылок, на которых основывается утверждение свободы. Таким образом, свобода далеко не опровергнута этой единственной предпосылкой.
Я не вправе и не хочу затруднять вас теперь подробным изложением гносеологических соображений, да и для наших целей достаточно, собственно говоря, единственного рассуждения, которое, правда, тоже потребовало бы, собственно, скорее целой книги, чем одного вечернего доклада, но которое в его ядре уже настолько проникло в общее сознание более образованных людей, что будет достаточно просто напомнить его, чтобы иметь право затем строить дальнейшие заключения с достаточной уверенностью.
Причинность — это основной закон опыта, а опыт, именно строго понятый опыт науки, никогда не имел и не может иметь значения законченной абсолютной истины — он есть вечно незаконченный и незаканчивающийся процесс. Каждый шаг на этом бесконечном пути есть, правда, движение вперед — за пределы прежних шагов, но точно так же принципиально должно оставаться открытым дальнейшее движение вперед — за пределы каждого достигнутого пункта. Таким образом, выражение опыта никогда не может гласить просто: «так обстоит дело», а только при таких и таких-то предпосылках — предпосылках, которые все сами подлежат постоянно возобновляющейся проверке и исправлению, – такое-то следствие оказывается необходимым; без этих предпосылок такой необходимости не может быть места. Расчет опыта может оказаться самым точным, поскольку факторы остаются те же, но в него вступают все новые и новые факторы, и тут не только не предвидится конца, но можно определенно предвидеть, что тут нет конца, не должно и не может быть установления какого-нибудь конца, а вопросы науки ведут всякий раз с ясной логической необходимостью в бесконечность, в конечном счете, в абсолютно не поддающееся определению. Эта основная структура всего нашего познания того, что есть, было и будет в пространстве и времени, и есть то, что мы также понимаем под словом «опыт». Сам опыт — это бесконечный процесс, в этой бесконечности он, однако же, строго законосообразен, иначе не могло бы быть речи о какой-либо относительной истине, о достоверном прогрессе познания. Закон причинности только одно из фундаментальных выражений законосообразности этого бесконечного процесса опыта: как таковое он обладает нерушимым значением, но именно как выражение законосообразности закон причинности и все, что высказывается на основании его, т. е. вообще все эмпирические суждения, никогда не могут иметь значения абсолютного познания того, что «есть» само по себе и безусловно, а он имеет силу только надежного обоснования гипотетических высказываний о том, что существует или не существует условно, при таких-то и таких-то предпосылках.
А отсюда как раз вытекает неотъемлемое право на то, что мы в отличие от «опыта» называем вместе с Кантом «идеей»; на перспективу в бесконечное,
Представим себе непрерывный, строго законосообразный, но бесконечный ход «опыта» в образе идущей в бесконечность прямой линии в пространстве; тогда, очевидно, не одно и то же, с одной стороны, nepeход от точки к точке в конечном, в силу которого, когда полагаются точка О и точка 1, из них, например, по закону сложения или умножения определяется точка 2 и дальнейшая точка 3 и т. д., без конца; с другой стороны — постоянно тождественное отношение положений этих точек, которое обозначают словом «направление» и которое продолжает существовать в бесконечности (в не данное) с неизменной согласованностью, оставаясь абсолютно определенным независимо от какой бы то ни было определенности точек. Такое определенное высказывание о не данном, такое твердое решение познания об отношении, которое должно существовать дальше, за пределами всего конечного, возможно в данном случае потому, что момент направления обоснован в основах всякой пространственной связи более изначально, фундаментальнее, чем всякое конечное полагание точек. Ибо каждый конечный пункт прямой от первого до последнего, на какой бы мы ни обратили внимание, уже дан в этом заранее определенном, всегда тождественном направлении; это по всему его понятию изначально продолжающее существовать в бесконечности направление лежит уже с самого начала в основе всякого полагания точек, т. е. не может обратно зависеть от этого полагания.
В таком отношении находятся друг к другу в познании идея и опыт. Идея есть, переводя дословно, взгляд, вид в определенную сторону, т. е. направление, которое принимает духовный взор, взгляд познания на свою вечно далекую, в бесконечности лежащую цель; опыт же в сравнении с этим есть процесс конечного полагания точек внутри идущего в том направлении пути. Идея не зависит от опыта и не ограничивается им; наоборот, опыт по самому существу соопределяется идеей. Если бы у нас не было идеи безусловно истинного, то не было бы той обусловленной истины, которая обладает (и притом исключительной) значимостью во внутреннем ходе опыта. Безусловность идеи, таким образом, сама по себе; так последний обусловливающий фактор предшествует и лежит в основе всего обусловленного в опыте, а не приходит потом, как его простая тень или простое или даже произвольное расширение в неопределенное, неизвестное и непознаваемое. Наоборот, она определенна в такой степени, как ничто конечное, эмпирическое никогда определено быть не может, а именно безусловно; таким образом, она предмет вполне достоверного познания, столь реальный, как ничто иное быть не может, так как вся реальность опыта в последней инстанции обосновывается только ею.
Не заключается ли уже весьма реальная «свобода» в том, что таким образом ничто конечное, эмпирическое не может удержать наш взгляд, безусловно связать наше суждение; что мы никогда не бываем безусловно прикованы к тому, что существует и поддается познанию в пространстве и времени, но что мы можем и должны подымать наши духовные взоры всегда выше этого мира, направлять наш духовный слух на то, чего не схватывал ни один (чувственный) слух, чего не видели ни одни (чувственные) очи? Может быть, будут склонны ответить на это: тут заключается только отрицательный, смысл свободы, несвязанность каким-либо принуждением со стороны чисто эмпирических, т. е. обусловленных, необходимостей. Но, в сущности, это уже не есть только нечто отрицательное, потому что, наоборот, связанность обозначает ограничение, бессилие выйти за пределы опыта, т. е. отрицание; напротив, освобождение от оков этих стесняющих границ есть уже, как снятие оков, приобретение свободы в полном положительном ее значении. Пределы опыта предупреждают нас: досюда и ни шагу дальше! Речь свободы, наоборот, гласит: дальше, все дальше — нет остановок, идите вечно вперед!
А это делает мир снова нашим; нет смерти, есть только жизнь. Правда, эта жизнь есть в то же время всегда умирание, но только смертное умирает, бессмертное не умирает. Не странно ли, в сущности, сомнение по поводу того, что не есть ли в конце концов вечное ничто, а смертное все? Не очевидно ли в противоположность этому обратное: только смертный взгляд, неспособный подняться к вечному, ложно переносит сознание своей ограниченности на то, что есть? Это считают даже «критицизмом». Сними повязку с очей твоего духа, подними твой взгляд выше созданной тобой самим границы, будь вечен, и вечное перестанет быть для тебя окруженным мрачным сомнением. «Die Geisterwelt ist nicht verschlossen, dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot. Auf, bade, Schüler, unverdrossen die irdische Brust im Morgenrot!» (Мир духов не сокрыт, твой разум замкнут, твое сердце мертво. Очнись, ученик, купай без колебаний твою земную грудь в утренней заре!)
Этим уже сказано, что свобода, во всяком случае, не только дело познания, но прежде всего дело воли. Она есть дело познания, но особого вида познания, которое само лежит в воле, которое может вершиться только в проявлении воли. Философы называют его «практическим» познанием. Присущ ли ему поэтому характер познания меньше? То, что отличает этот вид познания от чисто теоретического, выяснено уже употребленным раньше сравнением: последнее, опыт в обыкновенном смысле слова, касается терпеливого, остающегося вечно далеким от цели и все-таки вместе с тем никогда не обрывающегося, безустанного движения вперед в конечном; практическое познание, познание идеи направляет покоящийся, взгляд на вечно далекую, бесконечную, но и вместе с тем твердую и пребывающую цель. Разве оно меньшее познание? По достоверности, «по мощи и возрасту», как говорит Платон, т. е. по ценности значимости и первоначальности, оно даже выше всякого эмпирического познания и лежит у его корня. Конечно, оно осталось бы безжизненным и бездейственным, если бы взор духа оставался неподвижно направленным в даль и, обращаясь назад от нее, не усматривал бы «в свете вечного» (sub specie aeterni) самое временное и не измерял бы его ею. Но на самом деле именно это познание становится в эминентном смысле более «практическим», т. е. творчески деятельным, чем простое рассмотрение того, что есть или совершается, никогда не бывает и не могло бы быть. В этом измерении временного вечным рождается впервые великая, энергичная, воля, и, таким образом, она в своем корне вечна и отнюдь не является отпрыском простого опыта, отягченным с самого начала наследием прошлого, как в это охотно верит и описывает наш век, страдающий тяжелой абулией. Ибо воля обозначает направление на нечто, а направление по смыслу самого понятия продолжает существовать в бесконечности. Таким образом, в воле как таковой не может лежать то ограничение пределами конечного, поэтому над ней не может тяготеть проклятие смертности, под которое она, конечно, подпадает в том случае, если сама добровольно подчиняет себя принудительности опыта. Сама по себе не воля подчинена опыту, а, наоборот, он ей: ход опыта от ступени к ступени сам не имел бы никакого смысла и права, никакой поддающейся обоснованию значимости, если бы у него не было его познавательной цели в вечном, которое как цель познает и, познавая, полагает и утверждает не опыт, а воля. И вся работа эмпирического познания есть как работа только осуществление, реализация вечной идеи, которая сама по себе, т. е. как долженствование, по этому самому «есть» не менее, а в несравненно более глубоком, более устойчивом смысле, но только не как объект теории, а воли и ее своеобразного практического познания.
До такой глубины абстрактных рассуждений пришлось пуститься нам, чтобы найти твердый грунт для якоря того неустойчивого суденышка, которое понесет нашу веру в свободу. Но вы с полным правом потребуете, чтобы теперь, когда наше судно укрылось в надежной гавани, снабдили его также крепкими мачтами и парусами и надежным рулем, чтобы оно снова могло мужественно выйти в бурный океан жизни и, верно ориентируясь по вечным звездам вверху, начать свой непрерывный бег и, никогда не уклоняясь, держать тот курс, который ему предписан. Говоря без образов: вы хотите не простой абстрактной, теоретико-познавательной свободы, а жизненно действенной. Это имеется в виду в особенности в другом великом общеупотребительном слове «личность». Одна идея, одна мысль о долженствовании, пусть даже в нем для простой мысли и лежит некоторая доля истинного освобождения, высокого душевного подъема, все-таки, по-видимому, еще не освобождает всего человека. С этой абстрактной точки зрения она представляется еще слишком безличной, еще слишком простой сухой теорией.
Правда, мы уже поставили идею в общую связь с волей, но одним этим она еще не приобретает личного значения, пока воля сама рассматривается при этом только абстрактно обще, более того — собственно, только со стороны познания.
Во всяком случае, остается бесспорным, что только практическое познание обосновывает личность и именно практическое познание. Чистая теория как таковая объективна, безлична; для нее и субъективное обладает только отрицательной ценностью необъективного, следовательно, теоретически лишенного значимости, в лучшем случае — это ценность того, что должно быть объективировано, «явление», которое должно быть истолковано в отношении его «предмета», а когда это сделано, оно утрачивает всякую собственную ценность. Единичное является с теоретической точки зрения всегда только отдельным случаем общего; его познавательная ценность исчерпывается вполне тем, что мы в нем, как и во всем, познаем закон, С чисто теоретической точки зрения и отдельный индивид, совершающий известные поступки, и отдельный поступок не имеют иной цены, кроме статистической. Почему же индивиду присуще с практической точки зрения, т. е. с точки зрения идеи, иное положительное значение?
Идея, как мы сказали, обозначает направление; она ставит задачу. Кому? Она ставит задачу несовершенному стать совершенным, А это несовершенное есть теперь не одно только субъективное в отношении объективного, но стремящаяся к совершенству, направляющая на него волю личность и прежде всего индивид. Он должен стать совершенным или все больше приближаться к совершенству. Таким образом, хотя и несовершенный, но все-таки предназначенный для совершенства, он становится определяющим, сам себя, фактором, приводится в связь с идеей того, в чем он найдет это свое совершенство и приобретет таким путем неотъемлемую положительную ценность. Идея указывает направление, а индивид, определяя самого себя, все свое бытие, жизнь и деятельность в направлении к ней, налагает на свое индивидуальное бытие и деятельность как бы положительный предварительный значок, между тем как без этого значка ценности, т. е. в абстракции чистой теории, он рассматривается не положительно и не отрицательно, а «абсолютно», как нечто в отношении ценности безразличное и безличное.
Таким путем дано обоснование собственной, ценности, индивидуального для практического познания. И индивидуальное вместе с этим перестает уже быть только само по себе стоящим единичным, отдельным нечто — оно представляет в себе также непрерывность, так как целое его индивидуального бытия и деятельности связно формируется от ступени к ступени по известному закону и притом уже по индивидуальному закону. Оно становится, таким образом, особым миром, самим по себе, микрокосмом, – миром, который, конечно, не может остаться обособленным, а должен, в свою очередь, подчиниться со всеми остальными общему высшему закону всего (которое является представителем самой идеи). Но при этом индивидуальное не только не утрачивает своего «я», но только здесь вполне обретает его; ибо оно построяется из массы особых отношений, из которых каждое в отдельности и в их совокупности указывает всегда в то же время на сообщество, – так как оно указывает на идею, которая одна обща всем, – и они ищут законченности в полной основной связи с ней. Она сама со всем, что в ней есть положительного, принадлежит именно к целому, конструированному общим отношением к идее, к сообществу, но к нему принадлежит вся индивидуальность, не та или иная, как-нибудь особенно устроенная, за исключением других сторон. Только в сообществе индивидуальность в состоянии сохранить себя в этой своей положительной ценности, как и, наоборот, сообщество сохраняется только в индивидуальностях. Итак, индивидуальность нельзя понимать с самого начала в смысле, исключающем, сообщество.
Таким образом, мы понимаем, что закона идеи, хотя он сам по себе есть закон сообщества, хочет все-таки индивид по собственному, не извне навязываемому закону; автономно, а не гетерономно — говорят философы. Всякая оторванность индивида от сообщества повела бы к беззаконности, к аномии, а аномия тотчас приняла бы характер гетерономии, так как требование общего закона стоит все-таки нерушимо и его значимость, – хотят его или нет, безразлично, – распространяет свое значение на каждого отдельного индивида. Но и без того ясно, что аномия многих неизбежно должна была бы стать в их взаимных отношениях гетерономией.
Само это рассуждение все еще абстрактно и обще, но оно дает надежную основу для все далее идущей конкретизации его. Ибо индивид, рассматриваемый в отношении к сообществу, и есть конкретный индивид, между тем как всякое изолированное рассмотрение индивида застревает в пустоте абстракции. В социальных отношениях всякого рода, начиная от экономического и правового и кончая высшим и глубочайшим духовным и нравственным сообществом, индивид дифференцируется и вступает вместе с тем в могучий поток развития. Этим уже обозначены главные условия его конкретизации, ибо индивид становится конкретным, определяя себя, во-первых, по особому направлению своей деятельности и, следовательно, по развитию своих задатков, а затем — по высоте и энергии своего развития. Я попытался (в «Социальной педагогике») установить для этой индивидуализации общие линии направления, хотя только в немногих главных линиях. Здесь, конечно, возможен только самый коротенький набросок[52].
Сначала несколько слов о втором, как бы о скале, которой измеряется высота развития, (так как оно более простое и более общее). На своих главных ступенях оно характеризуется достаточно удачно издавна принятым различением трех стадий: чувственной непосредственности, затем рассудочно образной промежуточной стадии, общим признаком которой служит сознание правша, закона, и, наконец, стадии, кульминирующей в высоте человеческого разума. Взятый в таком абстрактном виде этот постепенный ряд легко может показаться переходом от наиболее индивидуального к более общему, потому что чувственное, по-видимому, больше всего присуще индивиду, в то время как стадия разума обозначает подъем к наиболее общему, к стоящему над всем закону идеи. Но чувственность обозначает изолирование, а постепенный подъем на точку зрения закона и в конце концов идеи обозначает в противоположность этому растущее и постоянно все более углубляющееся участие в жизни сообщества. Изолирование же как раз и не дифференцирует, к этому приводит участие в сообществе.
Названным трем ступеням соответствует прежде всего столько же главных направлений совместной, а потому и индивидуальной деятельности, следовательно, и индивидуального развития, так как ведь в своей наиболее сильной и продолжительной деятельности и человеческие силы должны развиваться сильнее всего.
Деятельность, направленную непосредственно на удовлетворение чувственных потребностей, я называю в самом общем смысле хозяйственной. И она действительно, в общем, покрывается тем, что обыкновенно понимают под «хозяйством», только большею частью не соединяя с этим словом ясного понятия. Хозяйственная деятельность, взятая в этом широком смысле, скажем коротко: человеческая, рабочая, жизнь (понятая как работа, направленная непосредственно на вещество, на обработку естественного), дифференцируется во многих направлениях для отдельных не столько индивидов, сколько субъектов, ибо отдельный человек в этом случае имеет значение номера: он еще вполне подчинен той работе, которую он должен выполнить; он еще почти лишен значения личности. Таким образом, фактором, который дифференцирует человека, является работа, когда каждая составная часть работы, по существу, общей многим, в конце концов человечеству, всем поколениям людей, а с ней и вся работа как целое будет, очевидно, выполнена лучше всего в том случае, если она попадет в руки тех, кто по роду и мере своих дарований и сил больше всего подходит к ней; из этого следует далее, что отдельный индивид и приковывается, в общем, к выпавшей на его долю части совместной работы. Но развитие отдельного индивида попадает, таким образом, с самого начала в опасность одностороннего, обособленного направления, и здесь мы тотчас познаем один из главных источников того принуждения, который мы чувствуем как нечто враждебное, даже роковое для индивидуальности, а следовательно, и для личной свободы. Развитию индивидуальности эта сторона действительно не благоприятствует, поскольку может быть использована только узость, граница индивидуальности, односторонность индивида сообразно не индивидуальным, а общим, совершенно безличным целям; поскольку единичное лицо идет только как средство на службу целям, которые лишь отчасти его собственные и вообще прямо его не касаются. Одним словом, дифференцирование еще в существенном подчинено чужим законам, т. е. это еще не есть индивидуализация в собственном смысле; оно дает разве только первую возможность, как бы сырой материал для нее.
Далеко более положительно уже значение индивидуальности во втором направлении, в направлении рассудочного регулирования деятельности, социальную форму которой представляет право и в особенности государственное сообщество. Правда, закон всегда говорит необходимо языком общего. Но именно этим он имеет в виду и действительно достигает ровно в той мере, в какой он выполняет свою идею, достоверного утверждения по крайней мере внешней свободы каждого отдельного лица без ущерба для свободы другого и создает таким путем для развития индивидуальности отдельного лица по меньшей мере сферу, поле деятельности, которого ни в каком случае не дало бы ему само собой простое бесправное впряжение в рабочую жизнь сообщества, в жизнь «хозяйства». Поэтому было бы совершенно неправильно видеть в правовом порядке как таковом (и во всем, что аналогично ему, что, например, подпадает под общий тип нравов) стеснение индивидуальной свободы. Конечно, определенный данный правовой порядок может действовать на индивидуальность стеснительно, даже разрушающе, но только никогда как таковой, сам по себе, а только поскольку он не выполняет своей собственной идеи как правопорядка. Конечно, этот правопорядок сам по себе чисто формального характера: и в своем самом лучшем виде он создает только общую возможность свободного развития индивидуальности, меж тем как самое это развитие он должен предоставить другим силам — он не мог бы создать его своими силами.
Все неисчерпаемое богатство возможностей индивидуального формирования человеческой жизни высвобождает лишь третье и высшее направление человеческой деятельности, слабо обозначаемое только бедным и абстрактным словом — разум или дух, или каким-либо иным, какое бы мы ни выбрали; это третье направление охватывает действительно целое духовного, нравственного, а также художественного, короче говоря, собственно «гуманного» образования.
Попытаемся на этой самой общей основе набросать себе несколько более определенную картину хода развития индивидуальности. Теперь уже ясно без дальнейших пояснений, почему низшая ступень, стадия детства в собственном смысле, еще не может представлять действительной индивидуальности. Правда, может казаться, что именно тут она должна обнаружиться в полной чистоте, но в действительности индивидуальность на этой стадии наиболее ограничена, развита меньше всего. Как ни жива собственная деятельность как раз на самой ранней стадии, тем не менее в это время она находится еще на самой низкой ступени; она на пути самого сильного развития, но еще не развита. Конечно, дифференцированное направление одаренности, талант сказывается уже рано, хотя вначале и в виде едва заметных следов. Он, талант, представляя из себя сам по себе простую потенцию и будучи как таковой общим и неопределенным, актуализируется, определяется и дифференцируется, таким образом, на второй ступени, ступени вполне пробудившейся, все более и более укрепляющейся волевой работы, очень хорошо характеризующейся с этой стороны словом «характер». Талант, собственно, только капитал, которым работает духовно-нравственное развитие, дар, который оно должно пустить в рост. Поэтому он является, правда, основой, действительно первой необходимой основой развития индивидуальности, но сам он не есть еще индивидуальность. Она развивается только с вступлением в дело воли, т. е. с энергией характера. Это слово очень хорошо выражает также как раз то, что полагает индивидуальное различие, что налагает «отпечаток» на отдельное лицо. Во всяком случае, и характер ставится сначала в отношение к конечной, строго определенной задаче и вначале ею ограничивается; это ограничение, очевидно, является существенным условием упомянутой нами определенности отпечатка, который, собственно, обозначает характер. Кроме того, такое необходимое ограничение происходит всегда еще с общей точки зрения; поэтому характер обозначает еще также твердо стоящий общий тип, под который логически подводятся различимые разновидности индивидуальных характеров. Что и это последнее ограничение по меньшей мере познается как таковое, а вместе с тем и преодолевается в определенном смысле, что рискующему подыматься выше человеческому стремлению открывается полная бесконечность задач человечества, а вместе с этим и последний смысл «свободы», что от индивидуального в таланте и характере тянутся руководящие линии, каждая в особом виде, к идее человечества, далеко за пределы всякой поддающейся отграничению задаче, которую может поставить характер таланту, – это есть последняя и высшая ступень, обозначающая вместе с высшим подъемом над индивидуальным ограничением высшую степень настоящей индивидуальности. В своей законченности эта ступень представлена тем, что называют гением, сам по себе по крайней мере взгляд в эту бесконечность не замкнут никому. Поскольку он достижим для всех, мы назвали бы его более скромным именем, например человеческим, разумом, понимая под ним в данном случае не общую, как это принято обыкновенно, а индивидуальную разумность отдельного человека.
Если мы осветим теперь еще, исходя из добытого познания, целое воспитательных факторов, то и здесь получается существенно более благоприятная картина, чем могло представляться вначале, судя по первому виду окружающих нас повсюду и часто подавляющих фактов. Всегда остается справедливым, что воспитание в целом может идти только общим путем. Его задача привести индивида к воссоединению с обществом; таким образом, за объективной и социальной точкой зрения должно оставаться всегда преобладающее значение. Но такой путь воспитания, пока оно по крайней мере понимает само себя, отнюдь не заставляет его направляться против индивидуальности. Воспитание должно быть преимущественно направлено на нее, но не может сделать этого именно потому, что индивидуальность должна и может в конечном счете развивать себя только сама, а не вызываться извне и едва ли даже только находить повод к своему развитию вне себя. Конечно, талант если и не требует, может быть, индивидуального отношения к себе, то мирится с ним. Но талант всегда в то же время односторонность. Что в противоположность этому характер развивается не слишком нежным вниманием к особенностям данного отдельного лица, а скорее сопротивлением, это ясно само по себе и признается всеми. Характер может дать себе только сам индивид. Тем более гений не дает самому себе, он находит только самого себя, и скорее в отклонении от общего, даже в противопоставлении ему, хотя, найдя себя, он будет всегда стремиться к нему, но не для того, чтобы приспособиться к этому общему, а чтобы, поскольку возможно, поднять его до себя и обогатить своими новыми творениями.
Талант может образовывать талант в узкой индивидуальной совместной жизни и совместной работе. Характер воспитывает характер, во всяком случае, поощряющим образцом, соревнованием. Гений же зажигается гением тоже не образцом и подражанием, а простое переживание его существования должно быть достаточным, чтобы он не породил самого себя, а нашел.
Для таланта еще задача обща и лежит только в пределах общего, дифференцируется, исходя из него, а с задачей дифференцируется и работа над ней. Для характера еще задача обща, чтобы каждый выполнил эту работу сам по себе. Для гения и самая задача не обща с другими: так как она бесконечна, то и дифференциация, индивидуализация здесь безгранична.
Непрерывность духовного содержания тем не менее или, скорее, именно потому выше всего на ступени гения. Талант обособляет; характер сводит вместе и устанавливает в стройные ряды; только гений спаивает внутренне. Отсюда более высокой ступени индивидуальности вполне соответствует и более высокая ступень сообщества и обратно. И если верно, что гения, собственно, нельзя воспитывать, то гений в противоположность этому самый могучий воспитатель, но он воспитывает в конце концов лишь тем, что ставит нас в глубочайшую связь вещей.
Я должен отказать себе в удовольствии осветить с достигнутой нами высоты еще понятия истории, идеи человечества. Вы, конечно, уже сами замечаете, что наши понятия теперь должны рассматриваться только в большом масштабе, чтобы подняться на эту последнюю высоту и широту рассмотрения, как и вообще только на этой последней высоте и широте исторического познания развития человечества идеи свободы и личности достигли бы наиболее конкретного выражения, на какое они способны и в каком они нуждаются, раз мы хотим понять их совершенно в полноте «жизни», а не только в голой абстракции. Ведь чем индивидуальность конкретнее, тем больше должна она приближаться к исторической ценности, единственной мерой которой служит развитие человечества. И это становится непосредственно ясным на понятии гения. Ибо в гении творит, работает — таков смысл этого слова — гений человечества.
Но здесь мы не можем совсем обойти последнего пункта. Индивидуальное достигает своей наиболее определенной собственной ценности только в художественном, вообще — в эстетическом, а таким образом, и идея свободы представляется только в ее значении чистейшей индивидуальности. Если определяющим как таковым в области теоретического является общее, то индивидуальное поддается определению только из него как отдельный случай закона: если в практическом общий элемент закона в одинаковой мере ставится в связь с индивидуальным и обратно, то в эстетическом и только в нем, наоборот, индивидуальное обладает совершенно непосредственною значимостью, более того, оно становится здесь почти определяющим фактором. Общее не может иметь здесь никакого значения, кроме того только, что оно входит и растворяется в индивидуальном. Здесь нет больше совсем места вопросу о «бытии» в смысле опыта: все эстетическое, рассматриваемое с точки зрения опыта, недействительно, только сыграно. Нет речи и о «долженствовании»: его нельзя приказать и оно не повелевает. Вообще в нем не спрашивается ни о чем, но что есть, то должно быть принято просто, как будто оно должно быть, а то, что должно быть, как будто есть. Поэтому-то здесь нет «закона» в смысле определяющего общего, нет вообще ни связывающего правила, ни повелительной нормы. У каждого индивидуального произведения искусства свой закон, своя, необходимость, имеющая силу только для него. Это уже не просто «индивидуальность» (которая все еще указывает на общее), а индивидуитет, недопустимость разложения на «признаки», которые были бы ему общи с другим. Произведение искусства само по себе совершенно лишено общего ему с другим, характера, оно стоит по ту сторону всех повседневных ценностей, поэтому оно несравнимо, неподражаемо; всякое намерение подражания осуждается в области художественного в самом корне. Поэтому даже точка зрения развития, предполагающая всегда известное долженствование, твердое направление к цели как норму, неприменима к искусству — на его наибольшей высоте, по крайней мере. Чисто художественное никогда не встречается с нуждой искать своей законченности по ту сторону самого себя, в отношении к дальнейшему, в конце концов бесконечному прогрессу: оно должно быть закончено в себе, или же оно с художественной точки зрения не вправе претендовать по крайней мере на высшее значение (а только на техническое). У настоящего искусства (да простит мне это Вагнер) нет будущего, как нет в нем прошлого, а оно живет как боги в вечном настоящем. Что имеет будущее и прошедшее, то этим самым доказывает уже, что оно не совсем искусство.
И именно в этом искусство ближе всего подходит к идее, а вместе с ней и к высшей свободе. Слово «идея» возникло, собственно, из эстетического направления сознания, ибо оно значит «смотри», наглядное представление, взгляд на нечто, следовательно, изображение в индивидуальном, несмотря на то, что ее содержание есть нечто в высшей степени общее, не только закон, но закон законов: метод. Отсюда не только высшее понятие образования эстетического характера, но и свобода как идея завершается и очищается вполне только в эстетическом. Ибо в нем одном она не только вечная задача, но и изображена так, как она может представляться нам «конечным существам с бесконечным духом» (так однажды сказал Бетховен).
* * *
Бросив общий взгляд назад на все сказанное, мы можем сказать: идея свободы, в ней идея личности и (мы вправе теперь прибавить) идея индивидуальности нам даны достоверно и полны в то же время таким чрезвычайно богатым содержанием, что его невозможно даже приблизительно исчерпать в таком беглом общем обзоре, какой был только возможен здесь. Узреть эту идею, привести ее в себе в ясность значит уже уловить ее с горячей любовью, почувствовать тоску по ней и посвятить себя ей всей душой. Эта свобода не лишена закона и не несоциального характера. Она не только мирится с сообществом, но безусловно требует его. Действительно свободный человек совершенно не может дышать в атмосфере несвободы — он должен необходимо желать для другого, для всякого другого свободы, которой он хочет для себя.
Позвольте мне этим напоминанием и закончить: не будем по недоразумению смотреть на культуру личности как на удаление от сообщества, как на освобождение от тяжелого и сурового долга социальной работы, а также политической борьбы. Мы гнались бы за фантомом, если бы мы стали для самих себя добиваться свободы и личности, а вокруг нас стали бы мириться с затхлой атмосферой несвободы, с этим грубым насилием, вершимым вещью, мертвым механизмом над личностью. Следует остерегаться: несвобода заражает; нет большего тирана, чем тот, кого самого давят цепи. Свободному человеку невозможно на продолжительное время жить среди сплошной несвободы. Тесное личное сплочение имеет, несомненно, свое высокое и священное право, в особенности для молодежи, а народное сознание, совместная борьба за общие блага является высшим долгом. И все те великие люди, которые не только абстрактно учено или вдохновенно прославляли идеал свободы, но и показали его нам своей жизнью, – Кант, Шиллер, Гете, Гумбольдт и многие другие, – они проповедовали не субъективизм: они самым серьезным образом стремились придать своей индивидуальности высшую объективную и тем самым общественную и человеческую ценность. Даже для Фауста, и для того последнее слово мудрости: «… auf freiem Grund mit freiem Volke stehn!» (стоять на свободной почве со свободным народом).
Останемся верными этому образу мыслей; тогда мы докажем дух свободы личности в смысле наших великих людей, в духе наиболее проникнутых немецким духом немцев, – для которых, по Фихте,
и в духе самых человечных людей.
Перевод М. М. Рубинштейна