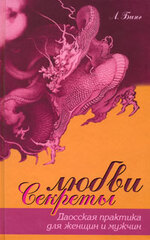Культура народа и культура личности. Шесть лекций
Работа над образованием взрослых в нравственном, эстетическом и религиозном отношении
Работа над образованием взрослых из народа была бы совершенно не в духе Песталоцци, если бы она ограничилась образованием рассудка. Одним из важнейших требований швейцарского педагога была точная согласованность и гармоническая связанность образования «головы, сердца и руки», т. е. интеллектуальных, нравственных и рабочих сил. Уродливо было бы не только пренебрежение нравственным воспитанием в сравнении с интеллектуальным и техническим, но также если бы они шли рядом, не касаясь друг друга. Только при помощи этой здоровой гармонии всех душевных сил образование может действительно проникнуть в жизнь. Под «жизнью» понимается, собственно, не что иное, как это единство, это неразрывное, гармоническое действие душевных сил, в котором все они поддерживают или по крайней мере не препятствуют друг другу. На самом деле каждое одностороннее изолированное развитие одной из них может действовать только разрушающе на все человеческое существо, так что в действительности оно не достигнет своей полной «жизни». Ибо человек не составлен как бы из нескольких таких лиц; он есть одновременно думающее, проявляющее волю и созидающее существо; в его здоровом внутреннем устройстве каждая из этих сил помогает другим и сама нуждается в их помощи; без них она вообще не могла бы существовать. Тем не менее по своему роду они различны, как различно и их образование. Также относятся названные силы к силе эстетического творчества и в заключение к не менее глубоко скрытой силе внутренней человеческой жизни, в которой коренится религия. При этом мы сначала не предрешаем вопрос, представляет ли собой эта сила нечто совершенно иное или она как-нибудь содержится в других, да и вообще что она из себя представляет.
Но в конечном счете всякое образование должно исходить, по Песталоцци, из одной единственной элементарной силы — силы работы, творческого деяния. Это для него почва, на которой соединяются силы рассудка и воли, а также художественное влечение и действительно живая религия, и вступают именно в то требуемое гармоническое взаимоотношение. И это представляется мне совершенно верным. Уже вчерашняя наша беседа привела нас к тому, что из этого пункта должно исходить действительно все. Из непосредственной работы, что бы это ни было — промышленность ли, ремесло или сельское хозяйство и т. д., – вырастают оба могучих ствола знания, которые потом расходятся в большое количество ветвей и разветвлений: здесь имеется непосредственный переход к естественным и социальным наукам, а отсюда потом открываются пути во все стороны научного образования. Если мы сказали, что человек должен стоять в центре, то человек не абстрактное, а конкретное существо — определенный человек в своих определенных условиях жизни, особенность которых определяется главным образом его работой, его жизненной работой, И если это должно быть и будет отправной точкой, то указанный только что путь для дальнейшей работы диктуется необходимо самим существом дела.
Особенно к нравственной, стороне образования, которую рассмотрим прежде всего, мы подходим именно с этой стороны. Ведь в каждой человеческой работе работает не один человек: всякая человеческая работа носит в существенных чертах общественный характер; работа отдельных личностей входит в организм рабочего целого, в мир работы, в котором соединяются многие рабочие, – значит, они должны понимать друг друга. Исследуя материю работы (то, что работается), приходят к естественным наукам как к ее основе; исследуя форму общей работы, приходят к социальной, основе. А последняя не есть уже просто дело рассудка, а также и воли:, разные воли должны прийти к соглашению — простого понимания оказывается недостаточно. Таким образом, необходимо приходят к законам, по которым воля одного ищет соглашения с волей другого. А законы эти в широком смысле называются нравственными, Рабочий — это человек с волей, работодатель — с не меньшей, и так — все, кто принимает участие в общей работе, какое бы место он не занимал в ней. Между всеми ими отношения не только как между частями одной машины, но и человеческие отношения, прежде всего — правового порядка (они заключают между собой договоры); но сверх этого между ними существуют еще такие «нравственные» отношения, которые не растворяются в правовых. Мораль может требовать иногда отказа от права или исполнения по отношению к другому лицу такого требования, которое не является требованием права. Таким образом, прямой путь от тесно связанных друг с другом технологии и политической экономии ведет к изучению устройства социального тела, социальной жизни вообще, значит, к государствоведению, правоведению, далее к истории права и государства и под конец к философии права и государства. А во всем этом уже всюду заключены основные этические понятия, так что подготовленная всем этим могла бы уже быть дана в основных чертах и собственная этика как последнее учение о законах определения воли, как собственная логика воли.
Таким образом, в сторону нравственного мы были бы уже у цели, если бы нравственность была в первой линии или же исключительно делом учения. Но давно уже признано и при малейшем раздумье становится ясным, что она, наоборот, является прежде всего делом упражнения, деятельности, которое, конечно, предполагает ясное понимание, но для которого часто недостаточно и самого лучшего разумения. Учение, обращающееся только к этой стороне человека, может скорее достигнуть чего-нибудь только тогда, когда уже раньше была заложена основа нравственной жизни, на которую затем может рассчитывать учение, стремясь к тому, чтобы уже имеющееся в жизни и известное в глубине души выразить в понятиях и, таким образом, выяснить его дальше, очистить и укрепить.
Истинно надежную основу нравственного познания и нравственной воли может, значит, положить только упражнение в нравственном деянии, в нравственно обоснованном сообществе. И при этом здесь различаются две ступени: во-первых, сообщество между собою работающих в общем деле, на которое указывает им уже общность их интересов и их положения. Эта солидарность сначала может не только казаться эгоистичной, но даже и быть такой в действительности, и все-таки это солидарность, т. е. в ней живет и действует отдельная личность не только сама для себя, но и в интересах ближайшего к себе сообщества. Этого не следует недооценивать или, еще того хуже, порицать. В самом тесном и самом близком союзе отдельная личность учится хотеть не для себя одной — она учится чувствовать и признавать, что один стоит за всех и все за одного. Сначала развивается то, что Руссо назвал общей волей, общее «я» (Moi commun), которое, твердо обоснованное один раз, уже представляет из себя нечто несравненно большее, более богатое и глубокое, чем бедное, изолированное «я» отдельной личности. И семья, нравственную силу которой Песталоцци по справедливости ставит так высоко, есть, если угодно, эгоистический союз; тем не менее она является именно как ближайшее расширение индивидуальных пределов, безусловно необходимой, первой школой нравственного хотения, т. е. такого хотения, которое не хочет для себя ничего такого, чего бы оно не хотело для других. И, согласно изображению Песталоцци, она добивается этого именно как рабочее сообщество. Если сообщество работающих простирает свои интересы не только во вне — на материальную, экономическую и правовую стороны, а одновременно с этим и на достойное человека существование, на дисциплину и порядок в собственном круге, на разумную заботу о теле и здоровье, на улучшение и внутреннее обогащение общей жизни, особенно же на хорошее попечение о детях и на воспитание, – то это будет уже в высшей степени действительная школа нравственного хотения в своей области, как бы мала она ни была, тем более что в тесно ограниченном круге эта цель достигается вернее всего. Итак, надо только всякими способами поощрять и поддерживать такие сообщества, – но именно во все эти стороны, – и помогать им особенно в том, чтобы они могли развиться во всех только что названных отношениях, потому что они имеют ценность сами по себе совершенно независимо от особенной, например классово-эгоистической, цели сообщества.
Но для этого понадобятся теперь, во-вторых, помощь и работа других лиц; и именно с ее помощью такое сообщество возвышается, вероятно, до некоторой степени над узостью эгоистических классовых интересов, противодействуя в то же время имеющемуся в такой же мере классовому эгоизму другой части. Истинное сообщество может вырасти только на основе общей работы, в которой воля и цель для работающих вместе есть совершенно одно и то же, а не только отчасти одно и то же, отчасти же противоположное. Создать такое сообщество можно путем того, чего мы усиленно добиваемся, – участия людей, стоящих вне борьбы хозяйственных классов или религиозных партий, во всяком случае, ученых, стоящих в своей работе вне борьбы, – участия их во всех таких направленных на повышение уровня рабочих классов стремлениях, которые сами по себе не зависят от классового интереса или от ограниченного чем-либо более тесного отношения к сообществу и не направлены исключительно или главным образом на эту цель, а ставят себе задачу создать людям возможность человеческого существования.
Такого образа мыслей держались особенно Рескин, Тойнби и их единомышленники. Для нас представляет интерес, как они начали свое дело. Английские университеты, – более того, сначала небольшая группа руководящих ученых, – поощряли молодых людей из круга уже удостоенных ученой степени (т. е. таких, которые уже, в сущности, окончили университеты и достигли известной степени, значит, выдержали уже экзамен и потому были не слишком заняты изучением своей специальности) перед вступлением в свою специальность на некоторое время посвятить свои силы широко организованной работе, посвященной заботе о здоровых жилищах для рабочих, о физическом развитии и здоровье рабочих кругов вообще, культивированию игр, искусств, более благородных занятий, наконец, главным образом развитию свободного образования. Все это было достигнуто в объеме, достойном внимания; установился хороший обычай: кто из молодых, окончивших университет, мужчин и женщин был по своему положению и своим способностям в состоянии, тот посвящал себя этому делу на более долгое или более короткое время. Так было особенно в восточном Лондоне, где условия были хуже, чем везде, где, следовательно, помощь была наиболее необходима. Там открылся «народный дворец», вечерние курсы которого посещали свыше 5000 слушателей, главным образом взрослые рабочие. Подобно ему был устроен не такой великолепный, но носивший более интимный характер Тойнби-Голл, названный так в память рано умершего ученого. Там живут вместе те, кто посвящает себя этой задаче (не только студенты), как в английском «колледже», чтобы на некоторое время вполне отдаться этим стремлениям. В лекциях и других курсах принимают участие (как было сказано уже раньше) первые люди нации. У нас нечто подобное ставит себе целью главным образом Гамбургский народный дом. Громаднейшее значение имеет то, что научные курсы не стоят здесь изолированно, так как работа над образованием народа входит действительно в целое попечение о развитии, играх разного рода, благородных занятиях рабочих, что все вместе: здоровый отдых и телесные развлечения, а также и более узкая социальная работа хозяйственной и правовой помощи, защита и забота о семейной, домашней жизни и семейном воспитании — все это ставится на одну почву и притом на такую, на которой члены народных классов, стоявшие вообще друг к другу скорее во враждебном отношении или по крайней мере чуждо и безучастно, вступали в непосредственное личное общение и в общую работу и созидание, не нарушаемые пристрастным отношением и предвзятостью, вызываемой классовыми противоречиями. Я считаю это более важным, чем все направленные на рассудок курсы или простые вечера для народного развлечения и вообще все то, что имеется теперь в области отдельных предприятий такого рода.
Конечно, осуществление такой цели в настоящее время очень затрудняется существующими теперь глубокими экономическими, политическими и религиозными противоречиями. Но эти препятствия оказались преодолимыми всюду, где вовремя серьезно повели работу. Должно быть только несомненным и доказанным не просто на словах, но и на деле, что труженики в этой области руководятся не односторонним классовым интересом, а простым человеческим интересом к человеку. Нужно проникнуться убеждением, что это дело и более великое, и более вечное, чем все то, по поводу чего враждуют партии. Это, конечно, едва ли возможно для того, кто с головой погрузился в партийные интересы и считает свою точку зрения хорошей и в порядке вещей, а может быть, и самой высшей в мире; возможно же это для того, кто держится убеждения, что никакая партия сама по себе не обладает таким правом, которое имело бы большее значение, чем право человека. Как решится неизбежная борьба экономических классов и политических партий, этого вопроса мы здесь касаться не будем. И как бы она ни разрешилась, кто бы ни оказался прав и ни удержал этого права, мы имеем дело с людьми, которым можно помочь по-человечески и только при помощи человечности, а не иначе, которые вместе с нами имеют равное право, как люди, развить человеческие стороны своей личности полно, чисто, здорово и успешно, и мы должны, следовательно, по-человечески быть им полезны, насколько это только возможно. Чтобы проникнуться этим убеждением Песталоцци, не надо быть ни великаном по рассудку, ни ангелом по душе, а только умом и сердцем прямым и нормально развитым человеком, а такие люди есть, слава Богу, во всех классах народа.
Конечно, здесь прежде всего приходится считаться еще с некоторым сопротивлением самих рабочих классов. Но, повторяю, каждая серьезная попытка, предпринятая без предвзятости и с здоровым тактом, находила до сих пор это препятствие преодолимым. На почве, может быть, неправильно понятого марксизма глубоко укоренилось представление, которое и теперь еще не редко: что будто бы экономическое развитие само по себе, сообразно своему собственному закону, который представляли себе неизменным законом природы, совершит переворот, который одним ударом создаст для рабочих классов достойное человека существование и навсегда похоронит и уничтожит классовые различия. Эта догма, думается мне, уже потеряла даже в среде рабочих классов значительную часть своей притягательной силы, может быть и нет, – об этом судить трудно. Но это все равно: данный вопрос не нуждается в подобных спорах. Пусть будет даже так (скажем мы рабочим), но ведь они все-таки должны согласиться, что этот ожидаемый переворот не совершится в близком будущем, а нельзя же весь этот невероятно громадный класс людей в настоящее время просто предоставить своей судьбе, когда никто не может сказать, сколько времени будут господствовать современные условия жизни. И, наконец, люди уяснили себе все-таки, что преобразование человеческих отношений до такой глубины, как это себе представляют, ни в каком близком или отдаленном будущем невозможно иначе, как при помощи человеческих сил понимания и воли; что они не изменятся коренным образом, если не будет в наличности великих, серьезных и глубоко образованных сил познания и воли, притом в лице не отдельных немногих лиц, а многих, по возможности — всех. Правы те, кто утверждает, что должно произойти очень глубокое, доходящее до корней человеческого существования, радикальное в этом отношении превращение человеческих отношений, чтобы оно могло совершить великое дело преобразования, положить конец этой необычайно тягостной действительной войне, оказывающей пагубное влияние на физическую, интеллектуальную и моральную сторону, а также внутренней войне общественных классов друг против друга, ввести и удержать на продолжительное время царство истинного человечества, чистой обоюдной человечности. Мы действительно не должны утрачивать этой благодарной надежды, этого вечно истинного требования социализма. Я сам не хотел бы жить без нее. Но необходимо наконец освободиться от странного заблуждения, что нечто подобное может произойти механическим путем; что это может совершиться по законам, которые не зависят от познания и воли самих людей, с помощью которых и в среде которых должен совершиться этот переворот. Для этого, для каждого малейшего шага вперед по направлению к этой идеальной цели нужен в качестве первого необходимого условия могучий подъем человеческого разумения и силы воли. По самой сущности дела нельзя обойтись без того, чтобы все время не обращаться к ним: ведь люди говорят, агитируют, хотят убедить и достаточно громко и сильно апеллируют к воле, судят и осуждают, короче говоря, поступают совсем не так, чтобы можно было поверить, что познание и воля не являются решающими силами, от которых только и можно ожидать какого-нибудь улучшения социальных условий. Таким образом, нужно признать, что культивирование этих сил должно быть не случайным делом, которое вершится между прочим, а в нем необходимо видеть в конечном счете первый и решающий фактор.
Правда, экономические законы имеют в себе некоторую долю механизма, а именно: как механически неправильная постройка должна неизбежно рушиться независимо от всякого понимания и желания кого бы то ни было — архитектора, собственника или жильца, так и неправильно построенная хозяйственная система непременно развалится, независимо от понимания и воли всех принимающих в ней участие, активное или пассивное, положительное или отрицательное. Но на развалинах никогда не воздвигнется более прочная постройка иначе, как по лучшему плану и из более испытанного материала, путем планомерной, согласованной в своих частях работы, а это значит, что в ней действительное место должно быть отведено пониманию и воле тех, кто заинтересован в этом деле, способен к нему и имеет возможность посвятить ему свои силы. А такими людьми в данном случае являются не больше не меньше как все.
Но именно потому можно ожидать, что особенно сами рабочие классы будут проявлять к задаче образования рассудка и воли постоянно возрастающий интерес и будут даже ставить эту задачу все более и более в центр своих стремлений. Пусть даже это совершится вначале только с тою целью, чтобы получше вооружиться для великой борьбы одного класса против другого, в наступление которой верят, пусть такое же намерение одинаково существует в обратном смысле и на другой стороне, но там и тут стали бы серьезно заниматься образованием рассудка и воли и выбирать для этого такие пути, которые только и могут вести к цели, а тогда образование по своим собственным законам необходимо привело бы в заключение к благотворному концу. И если бы у всех классов народа нашлась бы в достаточной мере одинаковая воля к достижению этой цели, то и переход к более здоровому общему строю социального тела, в чем бы особенном он ни состоял, совершился бы, по всей вероятности, без судорожных подергиваний, приводящих социальный организм на границу смерти, а протек бы здоровым, человеческим путем.
Но в конечном счете ожидание будущего, Бог весть сколь далекого, вообще не должно было бы иметь влияния на решение данного вопроса; здесь дело идет прежде всего и при всяких обстоятельствах о теперешнем и ближайшем поколении. Если позаботиться о них, то они позаботятся о следующих поколениях и так далее. Достаточно, что у каждого дня человечества есть собственное горе. У нас остается надежда на лучшие, более прекрасные дни, и она должна остаться, но эта надежда ценна только в том случае, если она дает нам силы заботиться о сегодняшнем и завтрашнем дне, и, наоборот, она станет позором для себя самой и для нас, если будет отдалять нас от наших ближайших настоятельных обязанностей и заставит нас забыть их. И здесь справедливо то положение, что вся сила жизни лежит в заботе о ближних и творческой деятельности для будущего. Блуждание в высях плохо действует на человека и отнимает у него лучшую энергию. Это настолько ясно и просто само по себе, что можно, конечно, рассчитывать на то, что эта здоровая самозабота о сегодняшнем и завтрашнем дне найдет все больше и больше места и в наших рабочих классах. Здесь, между прочим, есть возможность понять ее и до известного пункта извинить. У кого нет надежды на сегодня и на завтра, тот, понятно, держится в мыслях за будущее, которое, может быть, никогда не придет. Таким образом, становится понятным, что, пока положение промышленных рабочих было действительно состоянием ужаснейшего бедствия, чего слава Богу мы уже больше не знаем, была дана почва для всего того настроения мирового страшного суда, в котором первый период социалистического движения обнаруживает такое поразительное сходство с настроением первого христианства. Но с тех пор, как бы там ни было, наступило известное улучшение положения широких слоев работающих классов или к нему по крайней мере прокладывается дорога. Это служит доказательством того, что улучшение положения рабочих само по себе возможно и без катастрофы. Уже само социалистическое движение вызвало энергичную самопомощь, которая уже давно не ограничивается только необходимой политической борьбой, а ставит себе целью поднятие жизненных средств рабочих классов и для этой цели, естественно, заботится в первую очередь об их экономическом обеспечении и самостоятельности. Здесь открывается почва для общей деятельности, о которой мы говорили раньше, здесь она хорошо привилась, хотя пока на этой почве работают вяло; я думаю, что у этого дела великое и притом близкое и верное будущее. Оно не пошло так скоро, как считали себя вправе надеяться в начале 90-х годов, при первом энергичном введении нашего социального законодательства и одновременной энергичной, независимой «социальной практики». В один прием его невозможно было сделать. Снова наступила тяжелая борьба, и, может быть, опять предстоит еще более тяжелая борьба. Но последствия этого первого шага будут продолжать действовать дальше и выдержат неизбежные кризисы. Более того, каждый новый кризис подвинет нас на новый шаг вперед, так как чем сильнее столкнутся друг с другом противоположные силы, тем более верным и общим достоянием станет сознание невыносимости и внутренней несостоятельности таких раздоров в нации и поведет к выработке мер, которые в состоянии лучше упрочить социальный мир. Так было до сих пор, так будет и дальше. Отчаиваться можно было бы лишь в том случае, если бы, например, наблюдалось повсюду ослабение народных сил. Но каждый день приносит доказательства, что этого ослабения нет ни с какой стороны, и ожесточенность борьбы особенно подтверждает этот факт. Она, может быть, влечет за собой в настоящий момент тяжелые потрясения, но после всей этой горячей борьбы должны будут признать, что, вместо того чтобы раздирать друг друга на куски, можно было бы лучше применить свои силы к проведению таких положительных мер, которые сделали бы возможной на продолжительное время плодотворную совместную жизнь.
Возвращаясь теперь с таким образом мыслей к задаче по-человечески устроить жизнь рабочего народа, чтобы таким путем создать единственно верную основу для здоровой культуры не только духа, но и воли, мы не должны упускать из виду еще одно великое общее дело, которое только мимоходом было затронуто в этих лекциях, – эстетическую культуру. Я пользуюсь этим, может быть, без нужды ученым термином, потому что он стал уже сборным именем для широкой области стремлений к народной культуре, для которой вообще нет достаточно общего названия. Ибо название «художественное» образование или «образование на почве знакомства с искусством» было бы недостаточно широко. Здесь дело идет не просто об искусстве в собственном смысле, но о полном освобождении сил для благородного устройства жизни соответственно той своеобразной человеческой потребности, для которой пока имеется только название «эстетической», хотя оно в достаточной степени обозначает только одну сторону дела.
Я говорю «освобождение». В самом деле, если человеку улыбается где-нибудь свобода, то только здесь. Здесь впервые замолкает мучение, связанное с работой, ее заботами, замолкает вечный, никогда не дающий покоя вопрос познания, смолкает даже высокое, но в одинаковой степени серьезное и тяжелое требование долга. Наступает известное отдохновение от всех этих тягот, и все-таки это не бездействие, а в высшей степени живая, приносящая счастье душевная деятельность, высвобождающая самые глубокие внутренние силы, – подобно тому, как в высшей степени деятельна, но свободно деятельна и счастлива в этой свободе игра ребенка. Для этого необходим, во всяком случае, досуг, по крайней мере освобождение от такого давления работы, которое не дает передохнуть ни одной из внутренних душевных сил. Даже при совершенно механической работе и именно при ней, если только она не вполне поглощает все силы, можно напевать песенку или вообще следовать ходу своих мыслей, мечтать о чем-нибудь прекрасном, рисовать или писать картины в уме или вспоминать прелестную картину, красивый ландшафт, хорошее стихотворение или какую-нибудь историю или пьесу; можно наслаждаться каждым живописным впечатлением, которое представляет глазу окружающее, понять переживания, имеющие в себе нечто поэтическое, если только уже разбужены понимание и влечение в этом направлении. Не беда, что моменты для этой осчастливливающей внутренней игры сравнительно коротки, лишь бы только они использовались тем более полно и интенсивно. Ибо чудодейственная сила душевного возрождения и воскресения, заключающаяся в этих переживаниях, продолжает действовать и не позволяет так легко умертвить себя.
Но сами по себе такие переживания, конечно, не наступают: слишком много факторов в нашей жизни, особенно в больших и промышленных городах, противодействуют этой игре, чтобы можно было надеяться на то, что она вырастет сама собой и утвердится, несмотря на эти препятствующие противоположные впечатления. Они встречаются только самое большее у немногих, кто получил от природы большие дарования и влечения в этом направлении, а таких в непресыщенных низших слоях народа, вероятно, больше, чем мы думаем. Часто указывали уже на то, как много величайших художников выросло в очень незавидных условиях. Может быть, много талантов и теперь еще погибает под давлением житейской нужды, в конце концов одерживающей верх. Но если смотреть на рабочие классы как на целое, то дело идет скорее о тех, у кого эстетическое чувство вначале слабо и даже должно быть еще только пробуждено и вскормлено. Человек, у которого пробужден уже интерес к искусству, нуждается еще во многом другом, прежде же всего в экономической помощи; в области же эстетического он лучше всего поможет себе сам, надо только не проявлять слишком большого желания помочь ему. Но мы спрашиваем теперь о помощи тем, в ком еще молчит эстетическая потребность сама по себе, а потому и способность эстетического понимания и проявления находится как бы в дремоте. Быть может, кто-нибудь подумает: зачем же пробуждать потребность, которая сама по себе совершенно не чувствуется? Ведь у нас, право, достаточно дела, с тем чтобы удовлетворять материальные, интеллектуальные и моральные потребности, которые чувствуются сильно тяжело и притом всеми. Но для всего эстетического является особенно характерным, замечательным то, что здесь уже сама потребность, поскольку она только истинна сама по себе, возвышает и облагораживает человека; что здесь уже в самом желании заключается блаженство, ибо оно уже бессознательно заставляет проявлять деятельность в том направлении, чтобы создать то, в чем чувствуется потребность, подобно тому, как счастливо влюбленный создает в своей фантазии все те наслаждения, о которых он мечтает. Это уже эстетическая игра или нечто очень близкое к ней, как и любовная песня является самой сильной артерией народного искусства, и вообще всякое эстетическое настроение близко родственно половой любви. Кроме детей и влюбленных, нельзя найти более счастливых людей, чем те, кто живет эстетическими образами или хотя бы только эстетическим пониманием природы и жизни (не только одного искусства) или по крайней мере посвящает этому лучшую часть своей жизни. У таких людей возможна скорее противоположная опасность: что они в чаду этого наслаждения забудут и пренебрегут другими более серьезными задачами. Но, во-первых, такая опасность, конечно, меньше всего угрожает рабочим классам, так как необходимость заботы о средствах к жизни и все связанное с ней достаточно серьезно приковывает их к работе, потому что все их положение требует от них достаточно напряженной борьбы для достижения очень реальных целей и не помирится ни с какими мечтаниями или какими-либо эстетическими прожиганиями жизни. Но, между прочим, здоровая эстетическая сила воздействует целебно на силы познания, воли и на рабочую силу. Ведь в конце концов все это в последнем едином основании души соединяется в необходимое единство. Живая художественная фантазия окрыляет и силы познания и создает также могучий подъем воли; в свою очередь, она извлекает из них обоих самую здоровую пищу; именно отсюда и открываются поэтому самые верные пути к развитию эстетического влечения.
Прежде всего — со стороны познания. Правда, мир эстетического совершенно особенный, до некоторой степени недействительный. Но он строится целиком опять-таки из сил действительности. Я говорю намеренно — из сил, а не из материи: именно путем художественного просветления естественно действительное все более и более освобождается от материального. Рисунок, воспроизводя тела, не удерживает ничего материального, кроме контура и действия света; картина прибавляет к этому цвет, т. е. только другую сторону действия света; пластика схватывает почти только форму тела; материя, правда, здесь есть, но она имеет только служебное значение, она не передает естественного тела и является по отношению к нему произвольным. И понимание прекрасного в природе не есть полная, материальная передача, а всегда только сильное сведение на определенные отношения линий, света, тени и цвета, которых в чистом отдельном виде совсем нет в том, что мы действительно видим, а их высвобождение является продуктом собственной фантазии, черпающей только в восприятии внешнего объекта побуждение к свободной работе. Свобода и освобождающая сила эстетической деятельности, если на нее смотреть с отрицательной стороны, заключается именно в том, что мы в ней не зависим от воспринимаемого объекта, а форму, цвет и все, что мы схватываем в образе фантазии, мы черпаем из себя и смотрим скорее в объект, чем из него. Таким образом (говорю я), художественное понимание принципиально отличается от такого восприятия, наблюдения или же косвенного установления при помощи вычисления по общим законам, которое задается целью понять и достоверно установить все то, что есть, сполна и точно так, как оно есть, считаясь с чистой фактической истиной, чтобы добытые факты поставить в ту определенную связь законов бывания, которую мы понимаем в науке под именем «природы». Но у них обоих опять-таки есть своя связь, и в работе научного познания имеются бесчисленные составные части, которые способны вместе с тем пробудить эстетическую деятельность и направить ее на верные пути. Художественная фантазия, в свою очередь, принимает очень большое участие в научном исследовании. Величайшие научные открытия были, может быть, вначале поэтическими творениями и стали потом научными истинами только благодаря крайне терпеливой, кропотливой работе, как это, например, можно хорошо видеть на примере Кеплера.
Мы особенно обязаны эстетическим исследованиям Теодора JIunnca тем, что он обратил точное внимание на то, сколько художественных элементов коренится в механических отношениях. Песталоцци, не лишенный и здесь верного предчувствия, но не ушедший, однако, дальше предварительной ступени истинного познания, односторонне видел основу художественного в математическом. Это обстоятельство на долгое время оказало неблагоприятное влияние на преподавание рисования, к занятиям которым очень сильно побуждали Песталоцци и его школа. Нам, более пожилым, еще пришлось страдать от этого: нас заставляли, собственно, сводить орнаменты (рисование орнаментов было тогда почти самым главным в преподавании) на их геометрические основные формы, так что мы действительно не воспринимали прекрасных линий (их самих нам хотели конструировать геометрически), а только геометрические линии. Это, во всяком случае, очень отдаленная предварительная ступень художественного. Песталоцци и его последователи, поскольку хватал их взгляд, полагали совершенно верно, что умение видеть формы — это тоже геометрическая конструкция; геометрия есть не что иное, как развитие форм из их элементов. Всякое действие природы, если его проследить до последних элементов, тоже совершается по пути, который допускает геометрическую конструкцию; все движения тел, особенно же движения света, составляются в конечном счете из прямолинейных путей. Так, в природе мы наблюдаем удивительные геометрические образования не только в форме кристаллов (достаточно вспомнить микроскопическую картину снега), а также и в органических формах, как раковины, рисунок крыла бабочки и др.; сюда принадлежат особенно, ставшие благодаря Геккелю популярными, радиолярии — удивительно правильно устроенные микроскопические первичные животные, населяющие миллиардами моря во всех его глубинах. Во всем этом есть, конечно, сильный стимул для эстетической фантазии. Поэтому действительно живое геометрическое преподавание (правда, оно — сравнительная редкость) было бы попутно вполне пригодным для развития и поощрения также и эстетической фантазии. Но до тех пор, пока схватывание форм будет пониматься геометрически, т. е. в своем обосновании законами пространства, до тех пор здесь не будет еще ничего специфически художественного. И вот на шаг вперед по направлению к нему ведет именно тот механический момент, который отметил Липпс (более подробно впервые в «эстетике пространства»), И в художественном понимании геометрического образа действуют также статика и динамика, равновесие и взаимное влияние движений, а не простое существование фигур. В круге или в эллипсе мы чувствуем равновесие частей, в подымающейся линии, например, церковной башни или горы — стремление кверху, в падающей линии (как подтверждает это не геометрическое, а механическое выражение, как и при поднятии) мы чувствуем опускание как ослабение, упадок силы, в прекрасно возносящейся линии мы чувствуем энергию подъема. Тяжесть массы, легкость движения, механическое управление, например, в пластической форме танца, борьбы и т. д. – все это дальнейшие ясные примеры. Без сомнения, все это в высшей степени важный фактор эстетического впечатления. Тем не менее он содержится не в механическом как таковом, потому что механическое, как одно геометрическое, является только следующею ступенью, опять-таки только одним из составляющих художественную фигуру факторов. Важное посредствующее звено от геометрического и механического к собственно художественному лежит, без сомнения, в биологическом, т. е. опять-таки не в объективном познании законов жизни, а в непосредственном внутреннем сопереживании жизни, которая представляется нам в объекте природы, – все равно, жив он сам или даже мертв; на самом деле это значит: мы сами вкладываем в него своей мыслью, фантазией эту жизнь. Липпс называет это «вчувствованием» — выражение, которое надо понимать в вполне активном и творческом смысле: это мы являемся тем, кто, я сказал бы лучше, не «вчувствует», а вкладывает фантазией в объект свою собственную жизнь, а именно жизнь нашей фантазии, нашей свободной формирующей деятельности. Пассивное чувство тоже, во всяком случае, участвует в этом, но, мне кажется, оно не является первым определяющим моментом, а только спутником, который всегда налицо. Когда дело идет о создании художественного образа, первым и решающим фактором является (активное) внутреннее создавание, которое вытекает, правда, из нашего чувства жизни, а сам образ представляет из себя выражение этого нашего чувства жизни. Я должен чувствовать, например, линию листа, стебля как течение и непосредственное изображение жизни, не только равной моей собственной, но и такой, которую я сам сопереживаю при созерцании такой линии, – более того, вношу ее туда моим воображением из тайников моей жизни, ибо нет никакой нужды в том, чтобы оно было там само по себе, но я вкладываю эту жизнь и в линию мертвого камня, который хотя бы в качестве орнамента изображает форму живого листа и стебля. И, так как жизнь жива, она никогда не позволяет втиснуть себя в неподвижную геометрическую форму или в неизменные механические законы, хотя бы в истинную объективную линию падения, бросания или линию равновесия, а формируется свободно, как этого требует именно наше вживание во внешний образ, – как требуется для него, а не так, как правильно с точки зрения объекта, находящегося вовне.
Все это прежде всего относится к пластическим искусствам. Но не трудно понять, по крайней мере в общем, что и в основе музыкальных форм лежат подобные законы, которые, правда, еще мало исследованы в частностях и вообще с трудом поддаются исследованию. В словесных искусствах опять-таки много музыкального: вся форма песни и вообще стиха — музыкальна. Ритмическое — это, может быть, то однородное, что строже всего проходит через все искусства в целом. Говорят о ритме фигуры; предшествовавшее рассуждение должно было уже дать понять, какой хороший смысл заключается в этих словах. Сама фигура не двигается и не танцует, а наше понимание, более того, наше как бы придуманное вкладывание формы в предмет передвигается и может обратиться в удивительный танец, если мы, например, проследим линии орнамента. Таким образом, ритм лежит в нас, в шагах и во всем ходе или танце нашего зрения; а когда мы действительно танцуем или смотрим на благородный танец, то все дело заключается в том, чтобы наша душа танцевала тоже. Так поэт может видеть хоровод даже в покое созвездий. Готфрид Келлер, например, приветствует великолепие звездного неба, которое «schweigend sich im Aether wiegt» (молча колышется в эфире). Признаюсь вам откровенно, что я еще не видал ни одной колышащейся звезды, но я верю поэту на слово: такой человек, как Готфрид Келлер, не станет говорить небылиц. Чувство же ритма — это динамический, но биологическо-динамический момент, и именно ритм является хорошим подтверждением нашего основного предположения. В нарастании и замирании звука это явствует без дальнейших пояснений, и на этом, вместе с ритмом, основано необычайно сильное действие, которое оказывает музыка на менее музыкальных. А третья главная часть музыки — мелодия — имеет сродство с линией и с игрой линий, а также и гармония — с отношениями согласия и противоречия в этой игре. Таким образом, уже ясно видно, что здесь всюду господствуют в конце концов хотя и не те же самые, но близко родственные, однородные и закономерные основы.
Прошу вас простить мне это маленькое отклонение в область эстетики: благодаря ему нам становится теперь значительно легче ответить на вопрос, каким путем воспитывать к свободе эстетического понимания. Мы видим прежде всего, что почти всякое научное преподавание заключает в себе такие составные части, которые могут, а значит, и должны влиять в сторону эстетического образования. Поэтому при всяком научном народном преподавании следовало бы обращать особенное внимание на эту сторону. При выборе учащих следовало бы следить за тем, чтобы они были способны возбуждать эстетическое чувство, не делая этого, однако, в ущерб научной строгости. Отсюда не вытекает путаница эстетического и научного, если точно сознавать только что подчеркнутое мною различие и прививать его сознанию учащихся по крайней мере в отрицательном смысле (избегать путаницы). Таким образом, преподавание геометрии, физики, а тем более биологии, может быть сделано вполне плодотворным и для эстетического образования.
Но как обстоит дело с так называемыми науками о духе? Да стоит лишь поставить этот вопрос, как уже ответ на него почти готов. Упомянутое нами одухотворение телесного и даже естественного основывается на том, что духовное в нем ищет только средства выражения, высказывания и, к счастью, находит его. Все то, что мы рассмотрели раньше, принадлежит, в сущности, грамматике и языку эстетики: ведь в искусстве слышится обращенная к нам речь, высказывается душа, значит, оно язык. Но как учение об языке не исчерпывает содержания речи, так все то, что было раньше приведено, не исчерпывает содержания искусства. Если бы Бетховен в свои симфонии, Микеланджело в свои произведения искусства, Рембрандт в свои картины и гравюры не смогли бы вложить могучего духовного и нравственного содержания, то простая игра тонов, линий и красок, света и теней не оказывала бы такого глубокого действия и не могла бы очаровывать и захватывать так внутренние глубины души человека и, таким образом, не могла бы образовывать, т. е. возвышать и делать более благородным.
Пока мы говорили только о законах языка эстетического творчества, словесное искусство было наиболее трудным для понимания; в противоположность этому другая, еще более могучая составная часть искусства, которую дня краткости мы называем содержанием, поддается пониманию здесь очень легко, так как в речи духовное нашло себе с самого начала свой своеобразный способ выражения, т. к. она подчинена при этом вполне и непосредственно задаче сообщить дух духу и материи звука и тона. Пренебрегать ею, конечно, нельзя; если бы она была действительно безразлична, то можно было бы не только перевести всякое стихотворение на другой язык, не меняя производимого им впечатления, что, как известно, очень далеко от действительности, так как всякий перевод стихотворения есть в самом лучшем случае свободное поэтическое подражание, следовательно, самостоятельное произведение искусства, обыкновенный же перевод — это уродование стихотворения, которое уничтожает именно поэтический элемент в стихе, т. е. с эстетической точки зрения он ни в каком случае не то же самое; однако стихотворение можно перевести и на язык совершенно иного рода, например, на язык музыки или пластического искусства, но это (в том смысле, в каком можно было бы сказать) было бы еще более отдаленным поэтическим подражанием и еще более глубоким изменением именно художественного элемента в стихотворении. Но тем не менее известный перевод даже из области одного искусства в область другого возможен, это доказывается тем, что содержание само по себе представляет из себя известное нечто; не то чтобы оно могло существовать вне всякой формы, но в своем основном ядре оно является тем же самым содержанием в совершенно различных формах. Это доказывает в то же время, что содержание в значительной степени однородное с содержанием стиха; в более благоприятном случае даже поэтически передаваемое содержание может быть также и в музыке и в пластическом искусстве и должно быть в них, когда удается достигнуть высшего пункта искусства.
Я в данном случае не стану развивать всех этих мыслей дальше; мне остается только сделать отсюда простой вывод, вполне соответствующий тому, к которому привело рассмотрение способов выражения искусства, а именно: как с указанной стороны математика и естественные науки, так со стороны содержания все науки, занимающиеся духовным существом человека, должны в то же время заключать в себе эстетически образовывающие моменты. Очевидно, дело и обстоит так в действительности. Взятая в общем духовная жизнь с научной точки зрения представляет собою историю. Социология, т. е. учение о хозяйстве, праве и воспитании, дает только абстрактную, как бы неподвижную среднюю картину; история показывает нам дух в жизни. Социология относится к истории приблизительно, как математика, физика и химия к биологии; в полном соответствии с этим каждая из этих наук вносит свою долю в эстетическое образование, а именно сообразно основному различию, что хотя вечные законы хозяйства, права и образования обусловливают действительное понимание хода истории человеческого развития, но только в нем впервые действительно изображается жизнь человечества. Поэтому во всем историческом сказывается такой сильный стимул к эстетическому изображению. Историк невольно становится поэтом, живо воспроизводя известные события; при этом, конечно, есть серьезное основание опасаться, что он недостаточно понимает ремесло, невольно и неожиданно выпавшее на его долю. Но, с другой стороны, известно, насколько история всегда оплодотворяла поэзию. Здесь имеется в виду не только и даже не главным образом история давно прошедших времен, а также изображение настоящего времени — оно особенно представляет собой историю. Во-первых, это тоже прошлое, только самое недавнее прошлое; ведь никогда не изображается именно настоящий момент, а всегда время, протекшее до настоящего момента, значит, все-таки прошлое, только более живое для нас, потому что более близкое. Вообще же дело не в том, причисляется ли данная эпоха к прошедшему или настоящему; речь идет скорее о будущем, которое носит в себе прошедшее и настоящее, а в конце концов о вневременно вечном, представляющемся во временном. Итак, если бы нам указали на то, что великое искусство все-таки черпает всегда свой предмет, в особенности все свое настроение и понимание из настоящего, а не из прошедшего, то в этом не было бы никакого противоречия тому, что мы сказали. Речь идет не о моменте времени, было ли это теперь, раньше или позже, а о живом процессе, да даже и не о нем, поскольку он совершается тем или иным определенным образом, а о силах, действующих и развертывающихся в нем. Их же мы можем понять живее всего там, где мы их знаем точнее всего, потому что мы сами живем непосредственно под их влиянием. Таким образом, вполне понятно и нет противоречия нашему прежнему утверждению, что искусство достигает наиболее сильного действия там, где оно наиболее «активно».
Науки о духе являются такой областью науки, где нравственное достигает своей научной формы. То содержание искусства, о котором мы говорим, действительно сплошь, хотя и в самом широком смысле слова, этического характера. Конечно, как в задачу искусства не входит разрешение проблем рассудка, так его задача сама по себе не заключается в нравственном действии, которого могли бы ожидать от него. Вообще, дело идет теперь для нас не о научном или нравственном воздействии искусства, а, наоборот, о пище, которую оно черпает, с одной стороны, из всего содержания науки, а с другой стороны — из нравственных отношений в жизни человечества. Вообще в искусстве нет других элементов, кроме этих двух родов, хотя оно пользуется ими в бесконечной свободе изменения, выбора и соединения; и, как тесно оно ни связано с обоими основными силами понимания и воли, все-таки оно не растворяется в них обоих, а создает из них нечто новое, ставит их вместе с тем в тесные соотношения и соединяет друг с другом. Поэтому и интеллектуальное и этическое образование едва ли могут быть иными: они должны дополнять друг друга и прямо-таки соединяться в эстетическом образовании, иначе не достигается совершенство человеческого существа, человек остается как бы искалеченным, и его разнообразные функции все еще соединены друг с другом только механически, вместо того чтобы органически сплетаться друг с другом и сливаться в конечную гармонию. Поэтому при слове «образование» приходит на мысль больше всего и преимущественно достигаемое вместе с остальным эстетическое совершенствование человеческого существа, тогда как «воспитание» оттеняет больше только нравственное, а тем более «обучение» подчеркивает только интеллектуальную сторону гуманного развития.
Таким образом, мы признаем необходимость и в то же время возможность эстетического образования. Можно сказать: где возможно интеллектуальное и этическое образование, там должно быть также и эстетическое — оно столь же необходимо, как оба других вида образования. А мы именно и стремимся к гармоническому и вместе с тем к полному человеческому образованию для всего народа; завершить же эту гармонию человеческого существа является задачей эстетической культуры. Интеллектуальная и эстетическая культуры являются ее предпосылками, поэтому она никогда не вступит с ними в конфликт, а, наоборот, будет благотворно воздействовать на них, потому что они нужны для нее самой.
Что касается особенностей средств и путей эстетического образования народа, то в этом вопросе я могу теперь быть краток. Какую громадную поддержку может и должно оказать в этом направлении научное преподавание, это видно уже из всего сказанного раньше. Ясно также без дальнейших пояснений, что все то, что ставит своей целью повышение нравственного уровня народной жизни, является одновременно могучим средством для эстетического развития народа. Я хотел бы еще особенно подчеркнуть здесь телесное развитие, которое в игре, танцах и гимнастике содержит сильные эстетические моменты, а тем более прекрасно соединяется с эстетическим развитием в свободном движении на лоне природы. Эстетическое наслаждение природой не существует само по себе, а ему надо научиться. А для эстетически образованного человека является одной из высших радостей и одной из самых благодарных задач — открыть менее образованному доступ к пониманию эстетического. Во время путешествий, преследующих естественнонаучные (геологические, ботанические) или исторические цели (отечествоведение), или изыскание памятников, следовало бы, насколько возможно, обращать в то же время внимание на красоты природы и стараться выработать понимание их; это достижимо тем легче, что все остальные цели великолепно гармонируют с этой задачей. Таким образом, отечествоведение оказывается общей родной почвой для всех видов и направлений человеческого образования; поэтому для него, конечно, смерть, если человек лишается родины. Мне нет нужды напоминать о захватывающих песнях, выражающих тоску по родине; сейчас мне приходят в голову особенно три: von Pyrker (Шуберт), Mörike (Г. Вольф) и Sternau (Брамс). А с прямым телесным развитием связано и все попечение о здоровье. Оно имеет неизмеримо большое значение для эстетического образования. Эстетическое направление настолько естественно для человека, что ему надо почти одно лишь здоровье, чтобы быть восприимчивым к нему; искусство, конечно, не может уживаться с нездоровой обстановкой, с вонючим испорченным воздухом или с отравленным алкоголем телом. Теперь обращают особое внимание на действие художественной обстановки, на эстетически удовлетворяющее устройство домашнего очага. Признают все больше и больше, что для этого не требуются исключительно большие средства, что самое простое помещение, самый простой дом и украшение может оказать эстетическое действие, если одно подходит к другому и все согласуется с характером и жизнью обитателей. Но и здесь также недостаточно приготовить что-нибудь красивое для человека из народа и посадить его в это готовое помещение, как куклу в кукольный дом: если раньше не было ничего сделано для того, чтобы привить ему по крайней мере первые скромные зародыши эстетической культуры, то он очень скоро испортит и запустит все, а кукольный дом и жестоко изуродованная кукла окажется в углу. Итак, нужно возбудить и направить его собственный интерес, его собственную деятельность в этой области, а потом, насколько возможно, скоро и широко предоставить ему самому устраивать свою обстановку. И здесь также в высшей степени важно само собой выросшее сообщество. Народный дом всегда должен представлять собой образец и с этой стороны, по которому затем собственный очаг, где он еще существует до некоторой степени, устроился бы соответственно своему назначению сам собой. Эстетическому устройству помещений для совместного отдыха и образования стал бы помогать каждый сам собой, особенно уже образованный эстетически, а этим самым было бы дано энергичное побуждение малообразованным стать на один уровень с ними или по крайней мере приблизиться к нему. Празднества дают повод к ознакомлению с творениями словесного искусства и музыки, а также к танцам и спектаклям. Мне представляется совершенно несомненным, что нет утопии в том, что сам народ мог бы добрую часть своих эстетических потребностей удовлетворять собственными силами, конечно, при условии компетентного руководства. Таким образом, следует иметь в виду не только такие представления, в которых народ является лишь зрителем и слушателем, но необходимо привлекать его, насколько это возможно, к непосредственному участию. Один оказывается способным хорошо продекламировать стихотворение, выразительно прочесть какую-нибудь историю, другой может почти не хуже профессионального актера играть в более скромных вещах, вроде произведений Ганса Сакса. И я приветствовал бы как большой прогресс, если бы услыхал, что народ сам создает произведения такого рода из своей собственной жизни. Хорошее хоровое пение по крайней мере музыкально-одаренных народностей (я мог бы назвать здесь, например, прирейнскую местность) является вполне достижимой целью, а что дают простые рабочие в отношении скульптуры и живописи, а тем более в области простых по средствам выполнения рисунков, в этом можно убедиться из возникших за последние годы поразительных образцов. Сил вполне достаточно, нужно только уметь отыскать и выявить их. О возможности показать выдающиеся произведения искусства, о посещении музеев и всего остального в этом роде я упомяну только очень коротко, потому что о ценности этого пути существует только одно мнение, и всюду, где только представляется случай, оно уже проводится в жизнь. Особенно Лихтварк признал, что здесь необходимо руководство, чтобы обратить внимание на значительные вещи, и указал также пути к этому. В этом отношении можно было бы идти дальше в той мере, поскольку раньше уже было бы заложено основание в собственной деятельности в области искусства, как бы скромна эта деятельность ни была; но это, конечно, не общее явление и, может быть, никогда не будет общим для всех.
Я должен оставить эту область, хотя масса вопросов и здесь еще далеко не исчерпана. Ибо я не могу оставить в стороне и не затронуть, по крайней мере в заключение, важного вопроса о религиозном образовании.
Религию нельзя сделать. И вообще в громадном большинстве народной массы, большею частью как раз в среде тех, для которых предназначается наша образовательная работа, там ее нет, В этом отношении нельзя уже больше обманывать себя. А ведь не человек тот, во внутреннем образовании которого нет этого последнего завершения, являющегося самым глубоким из всего внутреннего, поэтому и наиболее труднопонимаемым элементом, но в то же время оно в определенном смысле есть дело первой и последней необходимости.
Свободная работа над народным образованием не может и не должна по всему своему понятию, по всем своим целям и в силу господствующих условий и возможностей исходить из того, чтобы оказывать влияние на убеждение народных масс в каком бы то ни было, хотя бы и в самом свободном, а тем более несвободном, религиозном, смысле. И несмотря на это, нельзя проходить совершенно мимо вопросов мировоззрения и делать вид, как будто бы они совсем не существуют. Рабочий, человек из народа, как и вообще всякий принимающий участие в жизни человечества, по меньшей мере знает, что есть что-то такое и что оно из себя представляет, чем оно является для тех, кто заинтересован в нем. Каждый должен знать и чувствовать религиозный вопрос, чувствовать во всей его тяжести. Занять определенную позицию по отношению к нему именно как к вопросу предоставляется вполне каждому самому, но никто не должен освобождаться от обязанности научиться понимать и не только основательно продумать, но и пережить его. Для каждого из нас, к какому бы результату мы ни пришли сами, это размышление несомненно станет непреходящим положительным достоянием и важным моментом нашего воспитания. И я думаю, такой шаг ни с какой стороны не может натолкнуться на серьезное сопротивление, даже со стороны тех, для кого уже самый вопрос является грехом и кому проглотить не спрашивая непогрешимый ответ есть просто дело совести. С ними спорить мы не станем; они находят удовлетворение в том, что мы совершенно не оспариваем у них. Мы обращаемся к голодающим, а не к пресыщенным. Обратимся к честным, искренно ищущим истины, но только не к фривольным скептикам. Фривольные люди — те, конечно, держатся, с другой стороны, того мнения, что вопрос этот вырешен; нельзя, собственно, сказать, что они насытились, потому что они отвыкли, по-видимому, чувствовать голод; но с пресыщенным они имеют то общее, что они не голодают, как и те, хотя и по противоположным причинам. Таким образом, и до них нам нет дела в этом вопросе.
Но для кого религиозное вообще составляет вопрос, того не следует оставлять перед этим вопросом, как перед закрытыми воротами. Какой же ответ можем мы дать ему? Как я уже сказал, никакого, в который у нас хватило бы мужества вложить определенное положительное решение; никакой догмы ни в какой даже самой разжиженной форме, конечно, и никакой отрицательной догмы. Значит, беспристрастное объективное изложение прежде всего: оно все-таки должно быть возможным; ведь несомненно есть же наука о религии, которая ничего не решает догматически, а только спрашивает: что такое религия, в чем состоит религиозная жизнь и в какой связи она состоит со всеми другими сторонами и условиями человеческой жизни? Но такого рода, в конечном счете историческое, трактующее происхождение религии изложение одно является, конечно, только более основательным, более глубоким и более выясненным вопросом, а все еще не ответом; а в конце концов требуется и какой-нибудь ответ. Можно ли дать его, и как, и поскольку может и должен он быть дан?
Мы видим цель своей работы в сообществе. Значит, ответ надо дать ровно в той мере, в какой он существует, – ответ, который может и должен быть признан вообще всеми. Его искали прежде в каком-нибудь минимуме догматического свойства, вроде веры в одного Бога. Но и это положение выражает только проблему. «Кто может назвать его и кто изведать!» Вопрос о божественных атрибутах вводит тотчас же во все сомнения: как абсолютная справедливость и доброта создателя мира совмещается с тяжелыми несправедливостями и ужасным, особенно моральным, злом в мире и т. д.? На все это мы не осмеливаемся дать ответа; мы не осмеливаемся привить кому-нибудь убеждение, что Бог есть или что его нет, или вообще решить что-нибудь положительно или отрицательно в этих вещах. В заключение, мы знаем только одно: «каков человек, таков и его Бог»; и там, где люди распадаются на столько лагерей, враждебно настроенных друг против друга, там вместе с ними делают то же самое и боги; монотеизм в действительности есть только фраза.
А что же все-таки может быть общим всем, общим всем по существу? Только одно: нравственный элемент в религиозном. Но я имею в виду опять-таки не этическую догму только: тут марксисты опять правы, утверждая, что и особые элементы нравственных воззрений и требований тоже зависят от времени, обстоятельств и общественных интересов и способны меняться вместе с ними, как религиозные представления. А есть все-таки последнее единое основание нравственного, которое всегда признается на деле даже у тех, кто спорит против него на словах. Никто серьезно не считает за нечто в себе доброе внешнюю и внутреннюю лживость или трусость и недостатки иного рода — косность, расточение жизненных сил, насилие или обман, а каждый при серьезном размышлении признает их с полной уверенностью несостоятельными, потому что они подрывают всякую возможность сообщества, а вместе с тем и человеческого существования, подобно тому, как из того, что известное строение не может быть внутренно устойчивым, можно узнать, что в нем не выполнены известные основные механические условия. Прежде всего сама цель — возможность и действительность человеческого сообщества вообще — в конечном счете никому не внушает сомнения. Это единство цели человечества есть ядро нравственного, о нем идет речь. А она действительно одна и та же во всем человечестве и содержится во всякой более благородной религии в качестве основного момента ее. Это пункт единства, в котором действительно встречаются все более благородные религии. «Бог это любовь» — что выражает это, как не требование, чтобы было сообщество? Таким образом, пусть религия будет всем, чем она хочет и может быть, мы не противимся этому; но, во всяком случае, она есть также выражение, в последнем основании даже единодушное выражение, этого именно необходимо единодушного стремления к единству воли в самом человеке, а в конце концов и в человечестве. Можно спорить против того, что религия только дело человечества, но никто серьезно не отрицает или не может отрицать, – будет ли это католик или протестант, христианин, еврей или буддист, или кто-либо иной, – что религия вместе с тем дело человечества, что она вместе с тем стремится представлять и всегда представляла идею человечества и притом как единства, как сообщества, говоря простым языком, человеческую любовь или, скажем еще проще, человечность по отношению друг к другу. Пусть другая сторона говорит: для этого нам не надо Бога, это делает само человечество; мы ответим на это: да, человечество, но этот элемент — идея, невидимое, в чем тем не менее мы уверены в своей душе и что подтверждается в глубине нашей внутренней жизни, хотя мы и должны признаться, что то человечество, которое мы знаем по опыту, не выражает этой идеи, а во многих мы не замечаем даже желания к этому. Таким образом, правыми оказываются все-таки те, кто говорит: надо иметь право верить, быть в состоянии верить в то, чего не видишь, и эта вера в невидимое и есть религия.
И здесь я должен еще раз и уже в последний раз сослаться на Песталоцци, чтобы завершить его образ и с этой стороны. Почти ни у кого это чисто человеческое направление религии не высказано так поразительно ясно, так народно наглядно и в то же время непосредственно практически, как у Песталоцци. Из массы прелестных выражений я выберу только два, оба из его романа. В прекрасной главе «Eine Kinderlehr» (в третьей части «Лингарда и Гертруды») говорится: «Бог для людей только через людей Бог людей. Человек знает Бога только, поскольку он знает людей, т. е. знает самого себя, и он почитает Бога только в той мере, в какой он почитает самого себя и в какой он к своим ближним относится, руководясь самыми чистыми и самыми лучшими влечениями, заложенными в нем. Поэтому-то один человек должен подымать другого к религиозному учению не образами и словами, а своим делом. Ибо напрасно ты будешь говорить бедному, что Бог есть, и сиротке, что у него есть Отец Небесный: ни один человек не научит другого познать Бога образами и словами. Но если ты поможешь бедному, чтобы он мог жить как человек, то ты покажешь ему Бога, и если ты воспитаешь сироту, как будто бы у него был отец, то ты научишь его познать Отца Небесного, который указал твоему сердцу на то, что ты должен воспитать его». Этот завет проводится далее на прекрасном непосредственном примере из самой жизни. Таким образом, устами чистосердечного Марейли Песталоцци высказывает прекрасный символ веры: «Ошибка уже сделана, если кто-нибудь в вопросе о том, что хочет или не хочет сказать слово Божие, полагается на объяснения и на то, что об этом говорят другие люди… Добрые люди, вам, должно быть, хорошо известно, что на свете довольно вещей, которые исходят от самого Бога и в которых не может быть сомнения относительно того, какой жизни и дела на свете требует Бог от каждого человека. У меня есть солнце, луна, звезды и цветы в саду, плоды в поле, а затем мое собственное сердце и члены моей семьи. Разве все это не говорит мне больше, чем все люди, о том, каков смысл слова Божия и чего он хочет от меня? Вот вы сами, которые стоите передо мной и я смотрю вам в глаза, – возьмите вы то, чего вы хотите от меня и что я вам должен. А затем вот дети моего брата, о которых я должен позаботиться; разве они не своеобразное слово Божие, обращенное известным образом ко мне и предназначенное именно для меня, а не для кого-либо другого? И все это несомненно от Бога, и я, конечно, не могу ошибиться, стремясь объяснить себе слово Божие ничем иным в мире, как только этим путем». Почти слово в слово сходится с этим то, что Фауст отвечает Гретхен: «Wölbt sich der Himmel nicht da droben… schau ich nicht Auge in Auge dir…» (Разве над нами не расстилается куполом небо… разве мои очи не смотрят в твои…) Таким образом, и тут мы видим Песталоцци и Гете вполне на одной линии, но у Песталоцци опять есть то преимущество совершенно народного, скромного оборота, в котором тем не менее ничто не пропадает от глубины гетевского созерцания.
Для религиозного мира, которого, к сожалению, больше всего недостает Германии, этой в наше время, может быть, действительно самой религиозной стране земли, была бы достигнута неизмеримая польза, а вместе с тем для всех стремлений к внутреннему объединению или хотя бы только сближению получился неоценимый шаг вперед, если бы удалось достичь этого самого по себе все-таки (как надо думать) возможного, более того, само собой понятного соглашения. В религии, конечно, останется вечно истинным ее нравственно человечное ядро, несомненно кроющееся в ней. В этом можно идти вместе, как бы различны и противоположны ни были те мысли, к каким пришли в вопросе о мире и Боге, об этом и том мире и во всех этих в конце концов неразрешимых для нас вопросах. Во всяком случае, все дело в этом ядре, когда подымается речь о совместной жизни и совместной деятельности, о взаимном участии в горе и радости, в созидании и отдыхе, в познании и желаниях. Все остальное каждая религиозная партия может удержать при себе: ведь никто не оспаривает у них этого до тех пор, пока оно не нарушает указанного нами единства нравственной цели, сообщества человека с человеком. А оно делает это не как религия, а только в такой мере и потому, что в религию вмешиваются весьма человеческие вещи и одеваются в пурпурную мантию религии, чтобы заниматься под этой соблазнительной маской в действительности весьма небожественными делами.
Религия — дело жизни и деяния, а не мнения и слов, Песталоцци не перестает повторять это. И вот путь, по которому мы хотим идти, это путь жизни и деяния, и надо надеяться, что он приведет нас к истинной религии.
Человеку нужны часы возвышения — часы, в которые он сознает сообщество в борьбе за настоящую человечность. И наши учителя этики, чем более они видят, что народные массы уходят от традиционных форм и обрядов религии, тем все более и более ощущают необходимость искать замещения их в чем-либо вроде часов мирского назидания. Я не сомневаюсь в том, что нечто подобное возможно. Ведь неоднократно наблюдали и наблюдают, что религиозное искусство продолжает оказывать свое глубокое, часто потрясающее, действие также и на тех, кто — по крайней мере по своему собственному мнению — порвал вообще с буквой традиционной веры. В самом деле, что захватывает нас так в Messe Бетховена или в Passion Баха, что заставляет нас задрожать до глубины души в Мадонне Рафаэля или в Pieta Микеланджело, – безразлично, христиане мы или нет, – и много или мало, или вовсе не считаем мы истинным догматическое содержание того, что в них изображается? Очевидно, это — человечное, глубоко человечное. Все наши великие поэты, музыканты и художники крепко держались за этот человечный элемент религии, и почти еще до сих пор величайшие и наиболее захватывающие художественные произведения исходят из содержания религиозных преданий, но и там, где предпочитают совершенно иную материю, все-таки в целом настроение остается близким религиозному. Поэтому, как религиозный человек находит в них выражение своего настроения, так, наоборот, и тот, кто, по его мнению, освободился от религии, все-таки находит в творениях религиозного искусства свое настроение. Я заключаю: значит, в последнем ядре оно должно быть одним и тем же. Это невыразимое не поддается, вероятно, вообще никакому выражению, кроме символического, а для символа пригодно как то, так и другое. Таким образом, остаются верными слова Гете: «Es sagen’s aller Orten alle Herzen unter dem himmlischen Tag, jedes in seiner Sprache — warum nicht ich in der meinen?» (Это говорят везде все сердца на белом свете, каждый своим языком, – почему не могу этого сказать я своим языком?)
Этим я и объясняю себе, что люди, для которых традиционные формулы религии есть не что иное, как бессодержательные фразы, а религиозные обряды нечто непонятно допотопное, тем не менее обыкновенно энергично возражают, когда им говорят в лицо: у вас нет Бога, нет религии. «У кого есть наука и искусство, у того есть и религия». Меня всегда удивляло, что Гете позабыл в данном случае назвать третье, что, несомненно, в одних науке и искусстве еще и лежит и без чего ни в науке, ни в искусстве нельзя было бы найти ничего религиозного. Я назвал его: человеколюбивое дело. Я скажу более: есть религия работы. Наконец открыли неизмеримое научное и не менее неизмеримое художественное значение работы; но именно в ее художественных изображениях заложено — часто в подавляющей мере — также и то, что я называю религией работы: не только предчувствие, но и уверенность в существовании ее вечного, человеческого и человечного значения, которое потрясает и смиряет нас, которое ведет нас чрез все глубины ада в новое небо, чрез все пропасти вины к ничем уже не нарушаемому блаженству. Итак, религия работы такова: сознание своей вечной цели, той цели, о которой говорится: «Es ist nicht draussen… es ist in dir, du bringst es ewig hervor» (она не вне тебя… она в тебе, ты вечно творишь ее). Ибо то, что мы строим в работе и посредством нее, это в конечном счете не внешний продукт, а человек, это человечество в каждом человеке, «в собственном лице и в лице всякого другого» — говорит Кант; в сравнении с этой целью все внешнее имеет только служебное значение. Я должен заметить, что на меня произвело захватывающее впечатление, когда мы здесь из уст рабочего услышали: женщина работает не только тогда, когда она стирает пеленки для своего ребенка или исполняет какую-либо иную домашнюю работу, – она работает также, когда читает хорошую книжку и делает себя, таким образом, более способной образовывать, воспитывать своих детей; более того, она работает также, когда идет гулять и этим восстанавливает свое тело и сохраняет его здоровым — я думаю — ко благу и здоровью опять-таки своих детей и к удовольствию мужа, ибо это тоже нужно для строения человечества. Песталоцци говорит о внешней и внутренней работе и требует, чтобы внешняя работа была всегда подчинена внутренней. И вот в этом святом смысле поистине всякое образование есть работа, и нас, надеюсь, охотно пожелают принять в высокий орден работающих.
Во всяком случае, мы смотрим на нашу работу над образованием народа как на работу в этом высоком, святом смысле. И если только от наших заседаний у нас останется это сознание: мы трудимся над вечным делом, заключающемся в задаче развить и сохранить человечество в лице каждого человека, – то это неизмеримое приобретение. Если же затем к нам подойдет еще кто-нибудь с «милым выражением на лице» и с искренним сомнением спросит: «А как ты смотришь на религию?» и, может быть, ваше фаустовское признание, как ответ, окажется не совсем достаточным, то мы все-таки скажем себе, вправе утешиться этим: для нас это религия; пусть потом один истолковывает ее по традиционным понятиям, другой — по новым, в конце концов дело совсем не в этих понятиях, а в сути дела мы едины, и нам нет никакой нужды искать единства.
Этим заявлением, которое вы можете рассматривать как философское определение понятия или как личное признание, позвольте мне закончить.