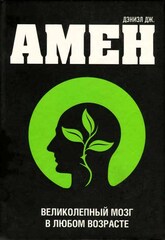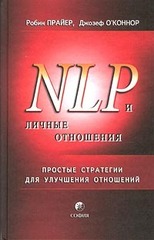Священные ценности воспитания
Но особое тайное наслаждение мы испытываем, когда видим, как окружающие не сознают, что в действительности происходит с ними.
Людям, воспитанным в системе ценностей «черной педагогики» и не знакомым с психоанализом, моя откровенно антипедагогическая позиция, вероятно, внушит страх, причем это чувство будет вполне осознанным. Умом же они ее точно не примут. Они обвинят меня в индифферентном отношении к священным ценностям или, по меньшей мере, в граничащей с наивностью идеализации детей. Дескать, я смотрю на них сквозь розовые очки, не понимая, какими они могут быть несносными. Подобные обвинения меня нисколько не удивят, т.к. я слишком хорошо знаю их подоплеку. Тем не менее, я хотела бы высказаться по поводу моего «индифферентного» подхода к пресловутым ценностям. Настоящий педагог, безусловно, считает, что лгать — это плохо, что нельзя причинять другому человеку боль и незаслуженно обижать его, что нельзя на жестокость родителей отвечать жестокостью. С другой стороны, ребенок, готовый всегда говорить правду, благодарный родителям за их добрые намерения даже в случае самого жестокого с ним обращения, безоговорочно принимающий их представления об окружающем мире, критически относящийся к своим представлениям, и, главное, беспрекословно выполняющий все требования взрослых, считается чуть ли не эталоном поведения. Но для того, чтобы привить ребенку эти коренящиеся как в иудаистско-христианской, так и в других традициях ценности, взрослые иногда вынуждены лгать, искажать факты, прибегать к насилию, унижать ребенка. Однако они не видят в этом ничего плохого, поскольку сами были воспитаны в соответствующем духе и теперь понимают, что для достижения священной цели, т.е. для внушения ребенку отвращения ко лжи, жестокости, злобе и эгоизму, такие средства вполне подходят.
Из всего вышесказанного следует, что в системе воспитания изначально традиционные моральные ценности всегда трактовались как нечто относительное. Определяющими факторами здесь являлись субординация и властные полномочия. По ним судили о поступках человека, о том, что хорошо, а что плохо. Этим же принципом руководствуются и в жизни: сильный всегда может навязать свое мнение окружающим, а победителю в войне рано или поздно прощают самые тяжкие преступления.
Но и анализ психической реальности приводит нас к выводу об относительности моральных принципов. Начнем с того, что человек, не требующий от ребенка соблюдения «абсолютных» норм морали, не может не понимать, что если всегда говорить правду, то при этом обязательно кого-нибудь обидишь, что иногда приходится выражать благодарность, совершенно не ощущая ее, а значит — лгать, делать вид, будто не замечаешь, как жестоко обращаются с тобой родители, и одновременно уважать себя как автономную личность. Стоит только оставить в стороне абстрактную систему ценностей религиозной или философской этики и обратиться к психической реальности, как неизбежно возникают сомнения в абсолютном характере моральных ценностей. Людям, сохранившим в подсознании негативные воспоминания о своем детстве, подобное конкретное мышление совершенно чуждо. У них мое сомнение в абсолютном характере ценностей, на которых зиждется педагогика, из которого легко вывести сомнение в ценности воспитания вообще, почти наверняка вызовет шок или, по крайней мере, неприятие. В свое оправдание могу лишь сказать, что для меня также существуют вечные ценности, среди которых на первом месте — уважение к слабому, а, значит, и к ребенку, и просто уважение к жизни и к ее законам. Без этого уважения было бы невозможно никакое творчество. Добавлю, что, по моему мнению, человечество сможет выжить лишь в том случае, если будет руководствоваться именно этими ценностями. Для фашизма во всех его вариантах характерно, наоборот, пренебрежение жизненными законами, эта идеология убивает или калечит душу. Изучая биографии руководителей «Третьего рейха», я убедилась, что среди них нет ни одного, не прошедшего в детстве суровую школу воспитания. Разве уже одно это обстоятельство не должно заставить нас задуматься?
Люди, которым разрешалось с самого раннего детства адекватно, т.е. вспышками гнева реагировать на сознательно или неосознанно нанесенные им оскорбления, на отказы или обиды, точно также будут вести себя и в зрелом возрасте. Почувствовав гнев, они смогут выразить его в вербальной форме. Вряд ли у них возникнет потребность немедленно схватить обидчика за горло. Такую потребность испытывают только те люди, которые постоянно вынуждены сдерживать себя, боясь «психануть», «сорваться». Но как только они «срываются», их уже ничто не остановит. Большинство из тех, кто боится не совладать с собой, по вполне понятной причине опасается любых естественных реакций, а меньшинство срывает свой гнев на посторонних людях или совершает бессмысленные акты насилия и террора. Человек, воспринимающий гнев как частицу себя самого, никогда не будет применять в отношении других грубую силу. Но, если ему в детстве было запрещено выражать свой гнев, то это чувство вообще ему не знакомо, и со временем у него появится потребность в насилии, ибо он не в состоянии объяснить себе причину возникновения гнева.
Понимая эту зависимость, уже не удивляешься статистическим данным, свидетельствующим, что 60 процентов лиц, совершивших в последние годы в Германии акты террора, выросли в семьях священников. Трагизм данной ситуации заключается в том, что родители, несомненно, желали детям только добра. Они с самого начала хотели, чтобы их дети были добрыми, участливыми, непритязательными, послушными, любезными, благодарными, умели ставить чужие интересы выше собственных, чтобы они были начисто лишены упрямства, своенравия, эгоизма, а главное, отличались благочестием. Они стремились привить им эти свойства любыми средствами, включая применение силы, вымещая таким образом на детях свою неосознанную обиду на своих воспитателей. И если дети из этих семей, став подростками, сами позволяли себе применять грубую силу, то причину этого следует искать в вытесненных в бессознательное переживаниях боли и унижения.
Разве террористы, захватывая в заложники ни в чем не повинных женщин и детей ради достижения некоей великой цели, не делают то, что когда-то проделывали с ними? Ради воспитания ребенка в духе возвышенных религиозных идеалов взрослые приносили в жертву его душу и убивали в нем живое начало, полагая, что совершают доброе дело. Молодые люди, привыкшие в детстве подавлять свои чувства, не испытывают внутреннего протеста, когда им навязываются некие новые идеалы, к слову сказать, часто прямо противоположные тем «высшим» ценностям, которые им прививали раньше. Так, зачастую весьма неглупые и разные по характеру люди без всякого внутреннего протеста становятся рабами тоталитарной идеологии. А почему нет? Ведь когда-то взрослые уже навязывали им свою мораль...
Такова жестокая, трагическая закономерность, нашедшая выражение в пресловутом синдроме навязчивого повторения. Но не следует забывать и о его позитивной функции. Было бы гораздо хуже, если бы воспитательный процесс успешно завершился, окончательно убив душу ребенка, а общественность так ничего об этом и не узнала. Когда террорист во имя своих идеалов убивает беззащитных людей, то мы имеем дело как раз с синдромом навязчивого повторения, навязчивого возвращения в детство. Совершая свои преступления, он, сам того не осознавая, рассказывает обществу — и руководителю своей подпольной организации, и полиции, которая стремится поймать его — о том, как в детстве его сознанием манипулировали взрослые во имя «святых ценностей воспитания». Рассказанная таким образом история — это сигнал бедствия, который может быть правильно воспринят обществом, а может остаться совершенно незамеченным. Но, как любой сигнал бедствия, он — признак жизни, которую еще можно спасти.
Но что произойдет, если от этой жизни не останется и следа? Наиболее характерный пример — биография Адольфа Эйхмана или Рудольфа Гесса. Их воспитывали в строгости, их приучали к послушанию и в результате превратили в людей, без тени сомнения выполнявших любые приказы. Они исполняли их не потому, что были убеждены в их правильности, а просто потому, что это были приказы. Их души не были доступны каким бы то ни было увещеваниям, они походили на здания с наглухо зацементированными окнами. Дынный феномен, в сущности, объясняется довольно просто: их родители последовательно применяли на практике принципы «черной педагогики».
Эйхман во время судебного процесса совершенно спокойно выслушивал показания свидетелей, но зато от густо покраснел, когда ему напомнили, что он забыл встать при появлении в зале судей. Привычка Гесса к беспрекословному послушанию также выдержала испытание временем. Разумеется, отец вовсе не хотел, чтобы его сын стал комендантом Освенцима, напротив, он полагал, что его сыну уготована карьера миссионера и воспитывал маленького Рудольфа в строгом соответствии с догматами католической веры. Но он еще в раннем детстве он приучил сына к мысли, что начальство всегда право и что нужно выполнять любые его требования.
«С годами мой отец становился все более религиозным. У нас дома часто бывали разные представители духовенства. Свободное время отец использовал для того, чтобы ездить со мной по местам паломничества, как на родине, так и в Швейцарии и во Франции. Поэтому мне довелось побывать в Айнзидельне и в Лурде. Он истово молил небеса ниспослать мне благословение и сделать так, чтобы я оказался достойным сана священника. Сам я был глубоко верующим, насколько такое вообще возможно в детские годы, регулярно молился, служил в церкви и очень серьезно относился к своим обязанностям. Родители воспитали меня в духе глубокого уважения к старшим, особенно к людям пожилого возраста вне зависимости от их происхождения. Они убеждали меня в необходимости выполнять любые пожелания или распоряжения взрослых: родителей, учителей, лиц духовного звания, даже прислуги. Ни при каких условиях я не мог отказаться выполнять их указания. Я должен был запомнить, что они всегда правы. Эти принципы воспитания вошли в мою плоть и кровь» (R. Hoss, 1979, S.25).
И если начальство потребовало от Гесса наладить в Освенциме бесперебойное функционирование «машины смерти», разве мог он отказаться выполнить приказ? А когда после ареста Гессу предложили подробно изложить на бумаге историю своей жизни, он не только сделал это правдиво и честно, но и поблагодарил за возможность «скрасить интересным занятием пребывание в тюрьме». Благодаря его воспоминаниям мир узнал о предыстории преступления, совершенно непостижимого для человеческого сознания.
Вначале Гесс рассказывает, что в детстве родители постоянно заставляли его мыться, видимо, пытаясь тем самым избавить ребенка от грязи и нечистоплотности. Тоскуя по ласке и не встречая понимания со стороны родителей, маленький Рудольф отдыхал душой, играя с домашними животными. В его глазах они занимали гораздо более привилегированное положение по сравнению с детьми. Ведь животных родители ни разу не били...
Столь же трепетно относился к «братьям нашим меньшим» Генрих Гиммлер. Он, в частности, говорил: «Как вы можете стрелять из засады по этим невинным и беззащитным созданиям, пасущимся на опушке леса, господин Керстен! Ведь это, уж если быть до конца честным, чистейшей воды убийство... Природа так прекрасна, и любое животное имеет право на жизнь...» (цит. по: J. Fest, 1963, S.169).
А вот еще одно высказывание Гиммлера: «Эсэсовец должен руководствоваться следующим высшим принципом: честными и порядочными мы должны быть только в отношении тех, в чьих жилах течет наша кровь. Только по отношению к ним действуют принципы верности и товарищества. Но меня совершенно не интересует, как обстоят дела у русских или у чехов. Если потребуется, мы силой заберем у них детей и воспитаем их в надлежащем духе, обеспечив нам тем самым приток свежей крови. Живут ли другие народы счастливо или погибают с голоду — я смотрю на их положение со следующей точки зрения: можем ли мы использовать их как рабов на благо нашей культуры или нет. Погибнет ли 10 тыс. русских женщин от истощения при рытье противотанкового рва или нет, меня интересует только с одной точки зрения: будет ли этот ров готов и пригодится ли он для защиты Германии. Мы никогда не будем без необходимости грубыми или жестокими, тут, очевидно, объяснений не потребуется. Мы, немцы, единственные в мире гуманно относимся к животным и вполне можем позволить себе такое же отношение к животным в человеческом облике, но мы не будем заботиться о них, а уж тем более внушать им какие-либо идеалы, это было бы преступлением по отношению к нашим единокровцам» (цит. по: J. Fest, 1963, S.161).
Подобно Гессу, Гиммлер был также воплощением идеалов своего отца — профессионального педагога. И его сын, став одним из первых лиц в «Третьем рейхе», мечтал о том, чтобы воспитывать не только отдельных людей, но и целые народы. Во что пишет Фест в своей книге «Облик Третьего Рейха» («Das Gesicht des dritten reiches», 1963), откуда мы заимствовали приведенные выше цитаты: «Врач Феликс Керстен, с 1939 года регулярно лечивший Гиммлера и пользовавшийся его полным доверием, утверждает, что Гиммлер предпочел бы не истреблять, а воспитывать чужие народы. Оказывается, он мечтал „создать после войны особые, прошедшие соответствующую выучку формирования и наделить их исключительно воспитательными функциями“» (S.163).
Но, в отличие от Рудольфа Гесса, превращенного воспитателем в бездумного исполнителя приказов, Гиммлер, видимо, зачерствел не окончательно. Во всяком случае, Фест достаточно убедительно объясняет совершение Гиммлером самых гнусных преступлений стремлением постоянно демонстрировать себе и окружающему миру свою душевную стойкость. Он считает: «В условиях тоталитарной системы с ее возведенными в абсолют „нравственными“ принципами, жестокость по отношению к слабым и беззащитным жертвам обусловлена жестокостью по отношению к самому себе. „Не щадить ни себя, ни других и не бояться ни своей, ни чужой смерти“ — гласил один из наиболее любимых Гиммлером лозунгов СС. Убивать других — это было нелегко, но это „закаляло“, как считал Гиммлер. По той же причине он особенно гордился тем, что массовые убийства „не отразились на душевном состоянии членов нашего ордена“ и все они по-прежнему „оставались честными и благопорядочными людьми“» (S.167).
Разве эти цитаты не иллюстрируют принципы «черной педагогики», о которых шла речь выше? Я привела только три примера, но ведь бесчисленное множество людей, прошедших в детстве так называемую «суровую школу», избрали аналогичную карьеру. Тотальное подчинение воле воспитателей повлекло за собой готовность взрослого человека полностью подчиниться чужой политической воле. Но плоды такого воспитания дают о себе знать уже в подростковом возрасте. Отсутствие четких и недвусмысленных указаний порождает у подростков душевную пустоту, и потому, едва покинув отчий дом, они тут же принимаются искать новых «пастырей и наставников». Военная служба, где офицер предписывает солдату, что ему нужно делать, кажется таким подросткам лучшим выходом из затруднительного положения. Стоит ли удивляться тому, что многие с ликованием встретили появление на политической сцене Адольфа Гитлера и способствовали его приходу к власти. Ведь он в каком-то смысле заменил им строгого, но заботливого отца. В книге Феста (Das Gesicht des Drift en Reiches, 1963) можно найти свидетельства раболепного, по-детски восторженного и наивного отношения к Гитлеру со стороны его будущих, печально знаменитых соратников. В чем-то эти облеченные огромной властью люди, которым Гитлер представлялся всеведущим, непогрешимым, воистину человекобогом, так и остались детьми. Я позволю себе процитировать несколько высказываний, иначе современное молодое поколение не поймет, как мало внутренней стойкости было у людей, вознамерившихся изменить ход германской и мировой истории.
Так, Герман Геринг придерживался следующей точки зрения:
«Если католик убежден в абсолютной непогрешимости папы во всех вопросах религии и нравственности, то и мы, национал-социалисты, твердо считаем, что фюрер никогда не ошибается при отстаивании национальных интересов нашего народа... Германии необычайно повезло, ибо Гитлер удачно сочетает в себе способность к логическому мышлению, глубинные познания в философии, железную волю и неукротимую энергию» (S.108).
А вот еще одно высказывание Геринга:
«У каждого из нас ровно настолько власти, сколько желает фюрер, это подтвердит каждый, кто хоть немного знает структуру власти в нашем государстве. Только рядом с фюрером чувствуешь себя по-настоящему сильным, способным использовать предоставленные тебе государством полномочия. Однако все склоняется перед его волей, и одного его слова достаточно, чтобы низвергнуть в пропасть любого из нас, какой бы высокий пост он ни занимал. Мы не просто безоговорочно признаем его авторитет, но преклоняемся перед ним...» (S.109).
Перед нами типичный пример восторженного отношения маленького ребенка к строгому отцу, практикующему авторитарный стиль воспитания. Геринг откровенно признавался:
«Я просто оболочка, это Гитлер живет во мне...
Всякий раз, когда я оказываюсь с ним наедине, у меня душа уходит в пятки...
От волнения меня попросту вырвало, и до полуночи кусок в горло не лез. Вернувшись около девяти часов в Каринхалл1, я был вынужден несколько часов просидеть в кресле, чтобы хоть немного успокоиться...» (S.108).
1 Охотничий замок Геринга примерно в 60 км от Берлина, названный так в честь его первой жены — Прим. пер.
Заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс (он носил те же имя и фамилию, что и комендант Освенцима) в своем выступлении 30 июня 1934 г. был совершенно искренен и не испытывал ни малейшего смущения, заявляя:
«Единственный, кто вне всякой критики, это фюрер. А все потому, что каждый чувствует и знает: он всегда был и будет прав. На нашей беззаветной преданности фюреру, на нашем понимании, что в случае сомнений не следует спрашивать: „Почему?“, на нашей готовности выполнить любой его приказ зиждется национал-социализм. Мы верим, что фюрер призван высшими силами изменить судьбу немецкого народа, и никакие сомнения здесь недопустимы» (S.260).
Сегодня, по прошествии 46 лет, мы вряд ли сможем даже представить себе такую степень некритичности у государственного деятеля. В этой связи Й. Фест отмечает: «В своем абсолютно некритическом восприятии личности „верховного вождя“ и преклонении перед его авторитетом Гесс весьма схож со многими высокопоставленными деятелями нацистского государства, которые подобно ему воспитывались в так называемых добропорядочных семьях, где с ними обращались довольно сурово. Есть все основания утверждать, что популярности Гитлера в немалой степени способствовали свойственные эпохе ущербные методы воспитания, идеальным местом для которого считались плац и кадетский корпус. Наиболее типичный „старый боец“2 — это человек, причудливым образом совмещающий в себе агрессивность, низкопоклонничество и внутреннюю несвободу. Этот человек, как верный пес, ждет от хозяина команды, чтобы немедленно выполнить ее. В основе его образа мышления и поведения — опыт первых детских лет. Даже если в подсознании Рудольфа Гесса — бывшего заместителя Гитлера по партии — сохранилось чувство протеста против действий безжалостного отца, вопреки желанию сына и вмешательству учителей заставившего его вместо дальнейшей учебы готовиться унаследовать торговое заведение в Александрии, он все равно искал того, кто был способен заменить ему строгого родителя. Отсюда его слепая вера в фюрера» (S. 260).
2 Почетное звание членов НСДРП, вступивших в нее до 1933 г. — Прим. пер.
Иностранцы, ставшие свидетелями многочисленных выступлений Адольфа Гитлера и видевшие, с каким восторгом немецкая публика приветствовала его появление на экранах, были в полном недоумении. Полной неожиданностью для них стали и результаты выборов в 1933 г. Они не понимали, чем мог так очаровать немцев тщедушный человек, держащий себя нарочито самоуверенно. К тому же многие его аргументы не выдерживали никакой критики. Одним словом, они не воспринимали его как сурового и заботливого отца. С немцами дело обстояло гораздо сложнее.
Отрицательные качества характера своего отца ребенок не может осознать, но в подсознании они, безусловно, откладываются. И часто случается так, что при поиске лица-заместителя, могущего взять на себя функции отца, человек подсознательно ищет именно эти отрицательные свойства. Постороннему это очень трудно понять.
Мы часто спрашиваем себя, как та или иная женщина уживается с таким мужем или тот или иной мужчина с такой женой. Вполне возможно, что совместная жизнь доставляет женщине страшные муки, и она даже теряет радость жизни. Но у нее совершенно искаженные представления о жизни, она искренне считает, что если муж покинет ее, то она этого не переживет. В действительности именно расставание с ним дало бы ей возможность начать жизнь сначала. Но она не осознает этого до тех пор, пока не поймет, что страх быть покинутой порожден отнюдь не ее теперешней ситуацией, что он неизменно присутствует в ее жизни с ранних месяцев или лет, когда она еще полностью зависела от матери или отца. Вытесненные в подсознание переживания определяют ее отношения с мужем.
Приведу конкретный пример. Моя знакомая очень боялась потерять мужа. Отец ее, по профессии музыкант, в детстве старался, как ему казалось, заменить дочери покойную мать. Однако ему часто приходилось уезжать на гастроли, и внезапные расставания вызывали у дочери панический страх. Проанализировав вместе со мной свое тогдашнее состояние, эта женщина смогла трезво оценить характер отца и увидеть многие его недостатки, ранее скрытые под покровом слепой дочерней любви. Отец предстал перед ней в снах совсем другим: жестоким и бесчеловечным. Готовность принять эту горькую истину не только умом, но и сердцем положила начало избавлению моей знакомой от иллюзий и комплексов и постепенному становлению ее как личности.
Я привела данный пример для того, чтобы напомнить о психологических факторах, возможно, определивших результат выборов в рейхстаг в 1933 г. Ошеломительный успех Гитлера объясняется не столько его громкими обещаниями (кто только не раздает обещания накануне выборов!), сколько его манерой обращаться к избирателям. Он вел себя излишне театрально, и его бурная, порой вызывающая у иностранцев смех, но так хорошо знакомая массам жестикуляция оказывала на них магическое воздействие. Именно так обычно реагирует ребенок на обращение к нему нежно любимого, достойного всяческого восхищения, смелого и сильного отца. Содержание его слов не имеет никакого значения. Главное не что, а как он говорит. Чем больше он хвалится, тем больше им восхищаются. (В первую очередь это относится к людям, воспитанным в соответствии с принципами «черной педагогики».) Порой строгий, кажущийся недоступным отец внезапно снисходит до разговора с ребенком. Столь «великое» событие, несомненно, стоит отказа от собственного Я. Ребенку не дано проникнуть в душу отца и увидеть, что этот вроде бы сильный человек на самом деле деспотичен, неискренен и, в сущности, совершенно не уверен в себе. Привыкший с детства подчиняться человек, переживания которого загнаны глубоко в подсознание, не способен извлекать для себя уроки и потому становится легкой добычей политических авантюристов.
Нимб, сотканный вокруг отца из таких приписываемых ему качеств, как мудрость, доброта, смелость, не позволяет ребенку увидеть его в истинном свете, тем более что отец всегда представляется ребенку сильным, могущественным, влиятельным — единственным и неповторимым, Он подобен Адольфу Гитлеру, который крикнул немцам, как своим детям: «Какое счастье, что у вас есть я!»
Если отец подавляет в своих детях способность к критическому анализу, то его отрицательные черты, не осознанные ребенком, остаются, как я уже говорила, в подсознании. Это в значительной мере объясняет тот мистический страх, который нагонял Гитлер на свое окружение. Вот что пишет в своей книге, изданной в 1973 г., Герман Раушинг3:
3 Один из приближенных Гитлера, президент сената Данцига, еще до начала Второй мировой войны разочаровавшийся в нацизме и эмигрировавший в Швейцарию.
«Когда Герхарта Гауптмана представили фюреру, тот пожал ему руку и заглянул в глаза. Как правило, от его взгляда у людей мороз пробегал по коже, а один известный пожилой юрист даже признался мне, что, встретившись глазами с Гитлером, мечтал только об одном: как можно скорее оказаться дома и, уединившись, попытаться избавиться от ощущения полного бессилия. Но вернемся к эпизоду с Гауптманом. Гитлер еще раз пожал ему руку, и все присутствовавшие при их встрече подумали, что сейчас он произнесет слова, которые, наверняка, войдут в историю. Но фюрер в третий раз пожал руку знаменитому драматургу и молча перевел взгляд на стоящего рядом... Гауптман говорил потом своим друзьям, что эта встреча с Гитлером стала главным событием в его жизни...
Многие признавались мне, что Гитлер внушает им страх, что им кажется, будто он вот-вот схватит их за горло, швырнет им в лицо чернильницу или совершит еще какой-нибудь бессмысленный поступок. Это ожидание вызывало у них сильный всплеск эмоций. Да и после встречи они неизменно рассказывали о ней, как о „великом событии“; но мне всегда казалось, что они себя обманывают, что выдают желаемое за действительное. Ибо когда я начинал подробно расспрашивать их, они вдруг признавались, что в фюрере, если внимательно приглядеться, нет ничего особенного. Оказывается, он не сказал ничего толкового. И вид у него довольно непрезентабельный. Вот только ореол действует завораживающе» (Rausching, S.274-275).
Приходится констатировать, что если некто обращается к взрослому человеку властным тоном и ведет себя так, словно он его отец, этот человек часто тут же забывает о своих гражданских правах, легко позволяет манипулировать собой, восторженно приветствует нового «отца», безгранично доверяет ему и, наконец, оказывается полностью в его власти, не замечая, что постепенно попадает в положение раба, т.к. к такому отношению к себе он привык с детства. Если взрослый человек зависит от кого-либо, словно ребенок от родителей, он уже не может быть свободным. Как ребенок не может никуда убежать, так и взрослый не в состоянии избавиться от диктата тоталитарного государства. Отдушину он находит в воспитании своих детей. Полностью зависимые от власти граждане «Третьего рейха» компенсировали отсутствие свободы тем, что давали почувствовать собственным сыновьям и дочерям их полную беззащитность. Эти люди никак не могли воспитать своих детей свободными людьми.
Теперь взрослым открылись новые перспективы. Многие из них распознали сущность традиционной педагогической концепции и поняли, какие опасности она в себе таит. Они энергично и самоотверженно ищут новые жизненные пути для себя и своих детей. Некоторые из них, главным образом писатели, обрели себя, испытав свойственное детям ощущение причастности к истине, которое напрочь отсутствовало у их отцов и дедов. В этой связи очень интересны размышления Бригитты Швайгер: «Я слышу, что отец зовет меня. Опять ему что-то нужно. Он далеко, в другой комнате. И поэтому он вспоминает обо мне. Если же ему от меня ничего не нужно, он забывает о моем существовании. Проходит мимо и даже не замечает меня...
Если бы ты, отец, носил дома капитанский мундир военных лет, то многое, наверное, было бы понятнее...
Оказывается, настоящий отец — это человек, которого нельзя обнимать и который готов в пятый раз спрашивать одно и то же, лишь бы убедиться в готовности дочери покорно отвечать ему. Настоящий отец также имеет право резко прервать тебя на полуслове» (Schwaiger, 1980, S.24,27).
Как только у детей появляется возможность разобраться в хитросплетениях системы воспитания и понять ее истинную подоплеку, зарождается надежда на освобождение новых поколений из тисков «черной педагогики», поскольку эти дети запомнят то, что прочувствовали.
Отсутствие запрета на проявление чувств приоткрывает завесу молчания и устраняет все препятствия на пути постижения истины. Когда человек открывает в себе способность ощутить боль и горечь прежних лет, он поймет, где правда и ему уже не помешают бесплодные дискуссии о том, что «истина — понятие относительное». С помощью этих дискуссий апологеты «черной педагогики» пытаются оградить себя от критики. Сошлюсь хотя бы на книгу Кристофа Мекеля (Suchbild, Christoph Meckel, 1980). Вот как он описывает своего отца:
«Почти в каждом взрослом человеке таится ребенок, который хочет играть.
Почти каждый взрослый человек в душе хочет карать и миловать.
В моем отце таился ребенок, который хотел бы создать для меня земной рай. Но одновременно отец остался чем-то вроде офицера, жестокими мерами наводящего порядок в своей части.
Бесполезная слепая любовь отца. Вслед за расточителем, щедро раздававшим пряники, неизбежно следовал офицер с кнутом. У него было нечто вроде системы наказаний, можно сказать целый регистр. Вначале он приходил в ярость и начинал дико ругаться (это было еще вполне терпимо и проходило быстро, словно удар грома). Затем начиналось следующее: отец трепал и щипал детей за уши, раздавал пощечины и подзатыльники. Далее следовало изгнание из комнаты и запирание в подвал. И вот еще что: ребенок как личность его совершенно не интересовал, надменным молчанием он постоянно унижал его и с заставлял испытывать стыд. В наказание он часто заставлял детей выполнять различные поручения, приговаривал их к постельному режиму или отправлял таскать уголь. В довершение всего, отец мог прибегнуть к телесному наказанию, чтобы провинившийся, да и другие дети надолго извлекли уроки из случившегося. Отец оставлял за собой право вершить правосудие над собственным ребенком и беспощадно вбивал в него свои представления о дисциплине, послушании и гуманизме, дабы они навсегда врезались в его память. Итак, проснувшийся в отце офицер заставлял его приговорить ребенка к порке, затем взять трость и первым войти в подвал. Ребенок следовал за ним, не очень-то сознавая свою вину. Он должен был вытянуть руки ладонями вверх или, согнувшись, лечь животом вниз на колени отца. Об „условном осуждении“ не могло быть и речи. Отец бил изо всех сил, нанося удары с точностью механизма, в полный голос или полушепотом считая их. Потом „офицер“ констатировал свое сожаление в связи с тем, что был вынужден прибегнуть к столь жестокой мере и говорил, что он очень страдает. Видимо, он действительно страдал. Шоковое воздействие сменяло весьма продолжительное и не менее отвратительное действо: „офицер“ приказывал веселиться. Сам он первым начинал нарочито громко смеяться, как бы стремясь разрядить грозовую атмосферу, и очень злился, если ребенок не хотел следовать его примеру. Обычно он „воспитывал“ ребенка перед завтраком, постепенно превратив наказание в ритуал, а показное веселье — в настоящую пытку.
После о наказании следовало забыть. Все разговоры об искуплении грехов, о праведных и неправедных поступках откладывались на потом. Но дети никак не могли заставить себя улыбнуться, они сидели подавленные, с белыми как мел лицами, молчали или тихо всхлипывали, с нараставшим в душе ожесточением не желая сдаваться, но все же чувствуя свою полную беззащитность. Даже ночью они не могли забыть обрушившийся на них град ударов и слова отца, отныне ставшие для них символом „справедливости“. Офицер даже в отставке оставался офицером, он по-прежнему побоями доказывал детям свою правоту и чувствовал себя уязвленным, когда они спрашивали, почему он не хочет снова пойти воевать» (Meckel, 1980, S.55-57).
Правдивость рассказа не вызывает никаких сомнений. Во всяком случае, в каждой из процитированных фраз чувствуется выстраданная автором правда. Если же кто-либо из читателей усомнится в достоверности приведенных в книге фактов, посчитав их просто чудовищными, пусть он ознакомится с рекомендациями сторонников «черной педагогики». Нет недостатка в изощренных психоаналитических теориях, которые на полном серьезе предлагают считать описанные Кристофом Мекелем детские впечатления отражением «агрессивных или гомосексуальных желаний» ребенка, а кошмарную реальность порождением детской фантазии. Ребенок, лишенный адептами «черной педагогики» чувства уверенности в «правильности» своих ощущений, став взрослым, не только не обретет это чувство, но еще и окончательно окажется во власти порочных теорий, совершенно противоречащих его эмпирическому опыту.
Поэтому удивительно, что взрослые, прошедшие в детстве через «хорошее воспитание», еще способны к написанию книг, подобных произведениям Кристофа Мекеля. Возможно, оно появилось на свет лишь потому, что отец несколько лет воевал, а потом был в плену. Его отсутствие, безусловно, благотворно сказалось на детях. Но, как правило, все те, с кем в детстве и в юности обращались именно так, как рассказано в книге, не в состоянии написать правду о своем отце, т.к. в решающие для дальнейшей жизни годы их последовательно отучали испытывать чувство душевной боли. Без него путь к правде закрыт. Им уже не удастся трезво взглянуть на свое детство и увидеть его в истинном свете. Им суждено остаться заложниками концепций, снимающих вину с родителей и возлагающих ее на их жертву.
Когда вдруг человек в ярости избивает другого, такое состояние обычно является следствием глубокого отчаяния. Однако «идеологии битья» как части «черной педагогики» и вере в безвредность побоев отводится маскирующая роль; они призваны сделать ребенка невосприимчивым к душевной и физической боли и закрыть ему доступ к правде о себе самом и окружающих. Пережитые чувства, разумеется, способны преодолеть эту преграду, но ведь именно на них наложен строгий запрет...
Механизмы «Черной педагогики»: отщепление и проекция
В 1943 г. Гиммлер произнес свою знаменитую «Познаньскую речь», в которой от имени немецкого народа выразил благодарность войскам СС за уничтожение евреев. Тридцать лет я тщетно пыталась понять причину этой страшной трагедии. После прочтения в 1979 г. речи Гиммлера у меня словно пелена спала с глаз. Поэтому я вставила в свою книгу большой фрагмент из речи Гиммлера:
«Я хочу здесь, стоя перед вами, открыто затронуть вопрос об одной непростой акции. Мы просто обязаны со всей откровенностью обсудить ее между собой, хотя то, о чем мы будем говорить, никогда не станет достоянием гласности... Я имею в виду эвакуацию евреев, которая есть ни что иное как их полное истребление. Многие с легкостью произносят это слово, словно речь идет о самых обыденных вещах. Возьмите любого из членов партии, и каждый без колебаний подтвердит, что „еврейский народ должен быть уничтожен, об этом четко и ясно сказано в нашей программе“. Но опять-таки чуть ли не у каждого из 80 млн. славных, добропорядочных немцев находится знакомый еврей — „ну очень приличный человек“. Дескать, все евреи — скоты и негодяи, но вот их знакомый — замечательный человек. Ни одному из тех, кто так говорит, не довелось пережить то, что испытали вы. Вы видели горы трупов, сотни, тысячи трупов. Вынести такое и остаться чистым душой — я не беру элементарные человеческие слабости — вот, что закалило наши сердца и укрепило нашу волю. Но эта славная страница нашей истории так и останется известной только нам с вами... Я категорически приказал передать все их богатства в имперскую казну. Себе мы не взяли ничего. Я с самого начала отдал приказ: любого, кто возьмет хоть одну марку, ждет смерть. Некоторые эсэсовцы — их было немного — нарушили приказ и были безжалостно казнены. Наш долг перед собственным народом и наше моральное право — уничтожить евреев за то, что они хотели нас уничтожить. Но у нас нет права обогащаться за их счет, и никто не смеет взять себе даже шубу, часы или сигарету. Мы должны были выжечь очаг смертоносной заразы. Но наша миссия не завершена, пока смертоносные микробы слабохарактерности еще представляют опасность для наших товарищей. Если здесь возникнет даже крошечный очаг распространения этих гнусных микробов, мы, в том числе и я лично, сделаем все возможное, чтобы ликвидировать его. Однако, в общем и целом, мы справились с этой невероятно трудной задачей и при ее выполнении руководствовались исключительно любовью к нашему народу. Мы не запятнали свою совесть, не очернили душу и наш характер не испортился» (J. Fest, 1963, S.162, 166).
В речи Гиммлера представлены все элементы сложного психодинамического механизма, основанного на отщеплении и проекции частей собственного Я, на котором зиждется, как мы уже смогли убедиться, вся «черная педагогика». Ее сторонники полагали, что ребенок должен быть внутренне стойким, и воспитывали в нем бессмысленную жестокость, призывали вытравишь из его души слабость, т.е. страх, отчаяние, сострадание, способность переживать и сопереживать, иначе говоря, хотели заблокировать всю эмоциональную сферу. С целью облегчить своим подданным борьбу против человеческого начала в них самих правители «Третьего рейха» представили им в качестве носителя самых отвратительных и опасных качеств (против которых в детстве боролись воспитатели) еврейский народ. Так называемый «истинный ариец» мог проявлять жестокость, чувствовать себя сильным, мужественным, принципиальным и морально чистоплотным человеком, напрочь избавленным от таких «дурных» свойств человеческой натуры, как спонтанное душевное волнение, только если все его детские страхи воплотятся в евреях. Тогда с ними можно будет каждый раз заново начинать ожесточенную борьбу, чувствуя за собой поддержку мощного отряда единомышленников.
По-моему, мы обречены жить в атмосфере, порождающей преступления такого масштаба до тех пор, пока не поймем их причины и психологический механизм.
Чем больше я занимаюсь анализом психодинамики людей с противоестественными наклонностями, тем сомнительнее мне кажется широко распространенная после войны версия, возлагавшая вину за холокост4 на извращенное сознание узкой группы лиц. Ведь у них отсутствовали такие специфические признаки психопатии, как ощущение полной личной и социальной изоляции, стыд и отчаяние. Убийцы многих миллионов людей отнюдь не чувствовали себя изгоями, они занимали видное общественное положение, им не было стыдно за свои преступления, напротив, они даже гордились ими. Эйфория или полнейшее равнодушие — вот два наиболее характерных для них состояния души.
4 Так на Западе принято называть массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны.
Другие видят первопричину в преклонении немцев перед авторитетом верховной власти. С их выводом можно согласиться, но для понимания феномена холокоста этого явно недостаточно. Ведь в данной ситуации речь шла не просто о безоговорочном подчинении, но о выполнении приказов, которые не воспринимались как навязанные извне.
Человек, способный на глубокие чувства и переживания, не может по мановению волшебной палочки стать способным на массовые убийства. Однако «окончательное решение еврейского вопроса» было поручено мужчинам и женщинам, с младенчества избавленным от собственных чувств и приученным всем сердцем воспринимать желания родителей как свои собственные. Ведь в детстве они гордились закаленным характером, старались никогда не плакать, «с радостью» выполняли свои обязанности и не испытывали страха, т.е., в сущности, не имели внутреннего мира.
В своей книге «Wunschloses Ungluck» Петер Хандке (Peter Handake, 1975) описывает свою мать, покончившую с собой, когда ей был 51 год. Сострадание к матери и понимание ее поведения красной нитью проходят через все повествование. Читатель также постепенно понимает, почему ее сын так отчаянно ищет свои «Подлинные ощущения» («Ware Empfindungen» — название другой повести австрийского писателя). Истоки этого поиска скрыты в далеком детстве, когда мальчика убедили, что в такое тяжелое время его естественные чувства могут ухудшить болезненное состояние матери. Хандке следующим образом описывает моральный климат в своей родной деревне:
«Никто ничего не рассказывал о себе; даже раз в год, во время пасхальной исповеди, никто не решался излить душу и все невнятно бормотали заученные фразы из Катехизиса, в которых собственное Я представлялось человеку более чуждым, чем даже частица далекого лунного пейзажа. Если кто-либо вдруг начинал рассказывать о себе что-то серьезное, а не просто потешные истории, говорили, что он „себе на уме“. Религиозные обряды, местные обычаи и „добрые нравы“ настолько обезличивали человека и лишали его ответственности за собственную судьбу, что если у него и оставались какие-либо сугубо индивидуальные свойства, то вспоминал он о них только в отрывочных и бессвязных с снах. Выражение „он какой-то не такой, как все“ считалось чем-то вроде ругательства, и если кто-то жил без особой оглядки на других, к нему относились так, словно человек занимался каким-нибудь неблаговидным делом. Лишенные собственных чувств и знания подлинной истории своей жизни люди с годами начинали, подобно некоторым домашним животным, бояться всего нового, неизвестного. Они замыкались в себе и почти не открывали рот, а другие, уже не вполне в своем уме, орали на весь дом» (P. Handke, 1975, S.51, 52).
Бесчувственность, привитая воспитанием, нашла свое выражение не только в произведениях П. Хандке, но и в картинах ряда художников-абстракционистов, и в творчестве других писателей. Вот как описывает Карин Штрук одного маленького мальчика:
«Дитгер не умеет плакать. Но смерть горячо любимой бабушки сильно потрясла его. Придя с похорон, он сказал, что на кладбище ему даже захотелось выдавить из себя пару слезинок. Он так и сказал: „выдавить“...
По словам Дитгера, ему не нужны сны. Он очень гордится тем, что не видит их. Он говорит: у меня крепкий здоровый сон без всяких сновидений. Ютта говорит: „Дитер не желает признавать, что иногда все же видит сны, и скрывает свои истинные чувства“» (К. Struk, 1973, S. 279).
Дитгер — продукт послевоенной эпохи. (Думается, что многие педагоги посчитали бы его идеалом воспитанного мальчика.) А что чувствовали его родители? Их поколение имело гораздо меньше возможностей выразить свои естественные чувства, чем нынешнее, поэтому сохранилось мало свидетельств.
Кристоф Мекель публикует в своей книге «Скрытый образ» (Suchbild) отрывок из записей отца — поэта и прозаика, ранее придерживавшегося либеральных взглядов. Эти записки как раз относятся ко времени Второй мировой войны.
«Со мной в купе женщина... Она рассказывает о произволе немецких чиновников, об их продажности, о безумных ценах, об Освенциме и тому подобных вещах... Как солдат я от всего этого далек, в сущности, эти проблемы меня совершенно не интересуют. Я сражаюсь за Германию и не буду наживаться на войне, зато хочу вернуться с нее домой с чистой совестью. Многие штатские, действительно, ведут себя мерзко, и я сам искренне презираю их. Может я дурак, но солдаты постоянно оказываются в дураках и за все платят своей кровью. Но зато чести у нас никто не отнимет (24 января 1944 г.).
Пошел за обедом, пришлось сделать небольшой крюк, и я стал свидетелем публичного расстрела на склоне возле спортивной площадки двадцати восьми поляков. Множество людей толпилось на прилегающих улицах и берегу реки. Гора трупов — зрелище, конечно, жуткое и отвратительное, но оно меня никак не тронуло. Ведь расстрелянные убили двух солдат и одного имперского5 немца. Я воспринял увиденное как сцену из новой постановки народного театра (27 января 1944 г.)».
5 Так назывались немцы, проживавшие на территории фашистской Германии в границах 1938 г. — Прим. пер.
Человек с подавленными в детстве чувствами способен настолько отождествить себя с государством, что автоматически действует так, как ему предписано, даже при отсутствии внешнего контроля:
«Узнав, что полковнику что-то нужно от меня, я приказал позвать его. Он кое-как выбрался из машины, подошел поближе и через безбожно коверкающего немецкий язык старшего лейтенанта начал жаловаться. Оказывается, нехорошо пять дней почти не кормить их. Я коротко ответил, что нехорошо переходить на сторону Бадальо6. А вот когда другие <итальянские> офицеры, продолжавшие, якобы, придерживаться фашистских взглядов, предъявили мне все мыслимые и немыслимые документы, я распорядился включить у них в машине печку и вообще стал разговаривать более вежливо (27 октября 1943 г.)» (Chr. Meckel, 1980, S. 62 и 63).
6 Бывший начальник Генерального штаба, в результате государственного переворота в июле 1943 г. сменивший Муссолини на посту премьер-министра и 8 сентября объявивший о капитуляции Италии. — Прим. пер.
Доведенное до совершенства умение приспосабливаться к общепринятым образцам поведения позволяет говорить о ком-либо как о «нормальном человеке», но это умение позволяет легко использовать его в самых разных целях. При этом происходит не утрата индивидуальности, поскольку таковой не было и нет, а постоянная замена одних ценностей другими. Какими именно — не имеет значения для данного лица, т.к. краеугольный камень его системы ценностей — послушание. Образ вождя или идеологические установки легко занимают в его сознании место чрезмерно идеализированных требовательных родителей. Так как они всегда правы, их подросший ребенок также не задумывается над тем, справедливы или нет требования, предъявляемые новыми «властителями дум». И откуда он возьмет критерии оценки, когда вопрос о том, что справедливо, а что нет, решался без него? Ведь у него не было возможности хоть раз дать волю своим чувствам, его убедили в том, что любая критика поступков родителей опасна для его жизни. В результате у него отсутствуют даже зачатки критического мышления. Если человек не сумел к определенному возрасту выстроить свой собственный внутренний мир, он оказывается в полной зависимости от властей. Маленький ребенок точно так же всецело зависит от родителей. В этом взрослый и ребенок поразительно схожи друг с другом. Слово «нет» по адресу власть имущих тоже кажется ему опасным для его жизни.
Те, кому довелось стать свидетелями резких смен политического курса, рассказывают, что многие с поразительной легкостью приспосабливались к новой ситуации и без тени смущения меняли свои убеждения на прямо противоположные. Смена властных элит буквально стирала у них память о прошлом.
И тем не менее, даже если это верно по отношению к большинству, всегда находились люди, которых невозможно было заставить изменить своим принципам. На основании данных, накопленных за время многолетней психоаналитической деятельности, я попыталась ответить на вопрос, почему одни так легко подчиняются диктату личности или референтной группы, а другие — нет.
Многие искренне восхищаются людьми, которые нашли в себе мужество противостоять тоталитарному государству, сохранив верность своим убеждениям и моральным принципам. Другие порой смеются над их наивностью, приговаривая: «Неужели они не понимают, что словами с такой махиной не справиться? И что им придется дорого заплатить за свою строптивость?» И те, кто восхищается, и те, кто не скрывает своего презрения, не замечают главного: человек, не желающий приспосабливаться к условиям тоталитарного режима, поступает так вовсе не из чувства долга. Было бы неправильно также считать, что на столь ответственный шаг его подтолкнула наивная недооценка силы противника. Просто он не может изменить самому себе. Чем дольше я занималась этой проблемой, тем чаще приходила к следующему выводу: гражданское мужество, честность и способность к состраданию надо воспринимать не как «добродетельные черты характера» или нравственные категории, а как милостивый дар судьбы — следствие того, что человеку в детстве повезло с воспитателями.
Понятие морали и чувства долга способны лишь заменить главное. Чем сильнее человеку в детстве травмировали душу, тем мощнее у него должен быть интеллект и тем чаще он должен прибегать к морали как к субституту чувств. Но не нравственность и чувство долга являются источником жизненных сил и порождают стойкую приверженность принципам. Они не способны сделать человека чутким. Их можно сравнить с протезами, на которые всегда можно опереться. Но в протезах нет кровеносных артерий, да и пользоваться ими может кто угодно. Считавшееся вчера хорошим и добрым сегодня по указанию правительства или партии рассматривается как злое и губительное или наоборот. Но человек с незаблокированной эмоциональной сферой всегда остается самим собой. Ведь он не хочет терять свое Я. Яростные нападки, бойкот, утрата уважения и любви не оставят его равнодушным, он будет страдать и бояться, но ни при каких условиях не захочет отказаться от собственного Я. В ответ на требования, противоречащие его натуре, он всегда скажет решительное «нет». Он просто по-другому не может.
Вспомогательный характер моральных законов и норм поведения наиболее наглядно демонстрируют отношения между матерью и ребенком. Здесь не помогут ни ложь, ни лицемерие. Ведь чувство долга не может породить любовь, скорее оно способно привести к возникновению у ребенка чувства вины. Наряду с парализующим эмоциональную сферу чувством благодарности оно может навсегда превратить ребенка в заложника мнимой материнской любви. Роберт Вальзер как-то заметил: «Многие матери делают своим любимцем одного из детей, но их поцелуи схожи с побиванием камнями. Они... ставят под угрозу все его существование». Если бы Вальзер почувствовал, что эти слова в первую очередь относятся к нему самому, он вряд ли бы закончил жизнь в психиатрической больнице.
Сама мысль о том, что разум и обретенный с годами здравый смысл способны разблокировать эмоциональную сферу, представляется мне полнейшей глупостью. Тот, кто еще в нежном возрасте из боязни потерять родительскую любовь, а вместе с ней и жизнь, привык слепо выполнять неписаные законы и отказался от естественных чувств, будет в дальнейшем столь же ревностно исполнять законы государства и окажется перед ним вновь совершенно беззащитным. Но поскольку человек не может жить совсем без эмоций, он рано или поздно примкнет к той организации, которая позволит ему в рамках коллектива в полной мере испытать те чувства, на которые в детстве был наложен запрет.
Любая идеология дает индивидууму возможность эмоциональной разрядки. Идеализируемая личность или коллектив заменят мать как первичный объект. (Этот перенос облегчается эмоциональной несостоятельностью первичного объекта.) Благодаря идеализации группы у ее членов появляется возможность ощутить «коллективное величие» и за счет этого получить заряд энергии. Но поскольку любая тоталитарная идеология нуждается во врагах, ими становятся не только объекты, находящиеся вне референтной группы, но и частичка собственного Я членов коллектива. В глубине души эти люди так и остались презираемыми слабыми детьми, однако невозможность ощутить себя таковым и запрет на проявление эмоций придали ощущению беззащитности негативный оттенок. Вот именно с этой слабостью и беззащитностью и следует бороться как со «внутренним врагом». Задача борьбы значительно облегчается, когда в действие вступает механизм отщепления и проекции. При этом воплощением слабости становится внешний объект, выступающий в роли «козла отпущения». Обещание Гиммлера быть беспощадным с такой «заразой», как слабохарактерность, и его высказывания о евреях достаточно четко определяют роль, которая отводилась внешнему объекту в борьбе с «внутренним врагом».
Понять феномен холокоста невозможно без глубокого анализа способа функционирования психологического механизма отщепления и проекции. В свою очередь, благодаря изучению истории «Третьего рейха» гораздо более отчетливо видны последствия претворения в жизнь принципов «черной педагогики». Видя, как детям неуклонно не давали вести себя естественно, начинаешь понимать, почему множество мужчин и женщин без особых колебаний отправили в газовые камеры миллион детей. Ведь они олицетворяли для них самую страшную и ненавистную часть собственной души. Можно даже легко представить себе, как эти люди орали на детей, избивали или просто фотографировали их, стремясь излить, наконец, накопившуюся с раннего детства ненависть. С самого начала целью их воспитания было постепенное умерщвление в них детского начала живости, непосредственности. Они стали жертвой психического насилия и поэтому позднее подсознательно стремились найти тех, кто мог стать такой же жертвой. Ведь если быть до конца откровенным, отравляя в газовых камерах еврейских детей, они тем самым как бы убивали собственное детство.
В своей книге «Насилие над детьми и права детей» («Kindesmißhandlung und Kindesrechte», Gisela Zenz) Гизела Ценц широко использовала данные, полученные денверскими психотерапевтами Штилем и Поллоком. В их клинике проходили курс лечения как родители, жестоко обращавшиеся со своими детьми, так и их жертвы. Описание поведения этих детей может помочь нам увидеть корни поведения лиц, совершивших преступления против человечности. Ведь их в детстве, несомненно, жестоко избивали...
«Дети вели себя не по возрасту, ни на что спонтанно не реагировали, были лишены непосредственности, почти не обращали внимания на врачей и крайне редко выражали свои симпатии и антипатии. Мало кто проявлял интерес к личности психотерапевта. После шести месяцев интенсивного лечения один ребенок даже не смог вспомнить имя врача, хотя регулярно посещал его два раза в неделю. Любопытно, что пребывание в психотерапевтическом кабинете вроде бы благотворно действовало на детей, они становились заметно раскованней, легче шли на контакт и, тем не менее, в конце сеанса всегда уходили с таким видом, словно они не знакомы с врачом и он для них никто. По мнению психотерапевтов, такое поведение, с одной стороны, объяснялось необходимостью настроиться на возвращение в привычную домашнюю среду, а с другой — перерывами в их отношениях с врачом. Поэтому еще более отчужденно они вели себя после каникул или болезни. Почти все дети дружно заявляли, что отношения с врачом им не важны и они не бояться их прекращения. Лишь через какое-то время кое-кто все же начал признаваться, что на каникулах скучал по своему врачу и даже иногда устраивал истерики.
Наибольшее впечатление на авторов произвела неспособность детей расслабляться и радоваться жизни. Некоторые из них за несколько месяцев ни разу не улыбнулись, они входили в психотерапевтический кабинет, словно „сумрачные взрослые в детском обличье“, находящиеся в состоянии тяжелой депрессии. Даже в играх они участвовали скорее из желания сделать врачу приятное. Многие дети, похоже, даже понятия не имели об играх и игрушках и были поражены, когда психотерапевты с нескрываемой радостью начали принимать участие в играх. Дети постепенно стали отождествлять себя с ними, на лицах стала появляться радость, а игра начала доставлять удовольствие.
Почти все дети относились к себе крайне негативно, называли себя в сочинениях „дураками“ и писали, что их „никто не любит“. Некоторые говорили, что „ни к чему не способны“ и называли себя не иначе как „скверный ребенок“. Правда, кое-что им в себе нравилось, но они никак не могли заставить себя признаться в этом. Они никак не решались заняться чем-нибудь новым, очень боялись сделать что-нибудь не так и с легкостью раскаивались в своих поступках. Самосознание многих из них было совершенно не развито. В целом, на их манеру поведения наложили отпечаток взгляды родителей, не воспринимавших своего ребенка как самостоятельную личность. Они откровенно пренебрегали его интересами и потребностями, манипулируя им в своих целях. Весьма важную роль в формировании мировосприятия детей, вероятно, сыграла частая смена приемных родителей. Так, шестилетнюю девочку попеременно брали на воспитание десять семей. В результате она никак не могла понять, почему так важно навсегда запомнить свое настоящее имя. Характерно, что дети почти не умели рисовать людей, зато изображения неодушевленных предметов вполне соответствовали их возрасту. Многие из них были не в состоянии нарисовать себя.
У них были достаточно устоявшиеся представления о добре и зле. Важное место в их психической сфере занимала идея неизбежности наказания за прегрешения. Они бурно возмущались и негодовали, если кто-либо из сверстников выходил за жесткие рамки их этических норм. [...]
Почти не было случаев открытой агрессии по отношению к взрослым и недовольства ими. Дети просто не могли позволить себе ничего подобного. Зато они любили рассказывать страшные истории и отдавали предпочтение жестоким играм. Кое-кто из детей обращался с игрушками так же, как обращались с ними дома. Куклы и вымышленные лица постоянно становились в их играх объектом побоев, издевательств, унижений. Ребенок, который в младенческом возрасте три раза получал черепно-мозговую травму, постоянно разыгрывал сцены с животными и людьми, ранеными в голову. Другой ребенок, которого мать сразу после родов пыталась утопить, всякий раз во время игротерапии окунал куклу в ванну с водой, а затем громко просил вызвать полицию, чтобы мать посадили в тюрьму. В подсознании детей продолжал жить страх, хотя внешне это проявлялось далеко не всегда. Словами они не могли выразить свою тревогу, однако продолжали накапливать в душе ярость и желание мести, одновременно опасаясь их прорыва в сознание. Со временем психотерапевт занимал место первичного объекта, и тогда он становился адресатом агрессии, имевшей, впрочем, полупассивную форму: то в него „случайно“ попадали мячи, то так же „нечаянно“ приходили в негодность его вещи. [...]
С родителями психотерапевты почти не общались, тем не менее у них создалось впечатление чрезмерной сексуализации отношений между детьми и родителями. К примеру, одна из матерей, когда чувствовала себя одинокой или несчастной, ложилась к своему семилетнему сыну в постель, а другая постоянно обзывала четырехлетнюю дочь „глупой кокеткой“, намекала на то, что она слишком сексуально выглядит и утверждала, что „дочь будет шлюхой“. И вообще, то мать, то отец часто требовали от своих детей проявления нежности, при этом их желания часто противоречили друг другу. Да и многие дети, как выяснилось, испытывали эдипов комплекс. Таким образом, возникало впечатление, что родители пытались, даже в скрытой форме, удовлетворить за счет детей свои сексуальные потребности. В этом нет ничего удивительного. Ведь родители считали, что дети существуют только для того, чтобы удовлетворять их желания» (G. Zenz, 1979, S.291).
Похоже, Гитлер «сделал гениальный ход», предложив немцам, воспитанным в строгости, с детства привыкшим повиноваться и подавлять собственные чувства, в качестве объекта для проекции части их собственного Я именно евреев. Впрочем, использование этого психологического механизма имеет давние традиции. Тому пример история многих завоевательных войн, крестовых походов, инквизиции, а также события недавнего прошлого. Но вряд ли кто-нибудь обратил внимание на следующее обстоятельство: без специфического воспитания людей этот механизм никак нельзя было использовать в политических целях. И наоборот: воспитание основывалось на механизме отщепления и проекции.
Особенность развязанного против евреев массового террора заключается в том, что его организаторы и те, кто выполнял их бесчеловечные приказы, боролись не с реальным врагом, угрожавшим их существованию, а с частицей собственного Я. Поэтому феномен холокоста и просто агрессивные выходки субъекта, направленные против посторонних лиц, — совершенно разные вещи.
Во многих случаях воспитание мешает человеку давать возможность жить в его ребенке тому, что он когда-то убил в себе или с презрением отверг. В книге «Страх перед отцом» (Morton Schatzman. «Die Angst vor dem Vater») Мортон Шатцман убедительно доказал, что методика, разработанная в свое время знаменитым педагогом Даниэлем Щребером, основана на яростной борьбе против элементов собственного Я. Шребер, как и многие родители, ненавидел и преследовал в своих детях то, что было основной частью его Я и ему самому внушало страх.
Штребер писал: «Зародыши благородных свойств человеческой натуры по причине своей чистоты дают всходы сами по себе, а зародыши дурных свойств следует, как и сорняки, своевременно уничтожать. Главное здесь — непрерывность и упорство. К сожалению, многие совершают пагубную ошибку и тешат себя надеждой, полагая, будто дети со временем сами избавятся от своих пороков. Разумеется, при определенном стечении обстоятельств те или иные порочные свойства души сделаются менее явными, но, если ничего не предпринимать, из ядовитых корней вырастут буйные побеги и не позволят разрастись благородному древу жизни. Дурные привычки портят характер взрослого человека и развращают его, направляют на неправедный путь» (цит. по: М. Schatzman, 1978, S.24).
«Подавляй в ребенке все, удаляй от него все, что на твой взгляд противно его натуре, и настойчиво подводи его ко всему тому, что может быть ей полезно» (там же, S.19). Страстным желанием «облагородить натуру ребенка» можно оправдать любую жестокость родителей по отношению к нему. Но если ребенок разгадает всю лживость их помыслов, его ожидает более страшная участь.
Твердое убеждение педагогов в необходимости с самого начала «наставить ребенка на путь истинный» обусловлено их потребностью в отщеплении от собственного Я тех его частей, что подсознательно внушают тревогу, и желанием спроецировать их на какой-нибудь объект. Лучше всего для этого подходит беззащитный ребенок, т.к. его незрелым сознанием очень легко манипулировать. Отныне враг — не в себе самом, отныне он персонифицирован в другом, пусть даже очень близком человеке, и ему можно объявить войну.
Социологи, исследующие проблемы войны и мира, начинают постепенно понимать подлинное значение психодинамических механизмов, однако пока они не поймут, что их корни — в системе воспитания, они не смогут разобраться в них до конца. И если ничто не изменится, то дети, ставшие олицетворением дурных и ненавистных свойств родителей, всегда будут наиболее подходящим объектом для проекции, без которой воспитатель не сможет ощутить себя добрым, благородным, «высоконравственным» и гуманным человеком. К тому же такого рода механизм легко сочетается с любой идеологией.