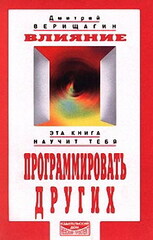Юрген Брач: когда конец становится началом осознания жизни
Детство убийцы
Пауль Моор пытался по-человечески понять Юргена Барча и не только вел с ним переписку, но и говорил со многими его знакомыми. Вот что он пишет о первом году жизни будущего серийного убийцы:
«Уже в день своего появления на свет в январе 1946 года Юрген Барч оказался в крайне неблагоприятной атмосфере. Его сразу же разлучили с больной туберкулезом матерью. Как известно, через несколько недель она умерла. Женщины, которая могла бы заменить ему мать, не нашлось. В родильном отделении до сих пор служит медсестра Анни, которая хорошо помнит Юргена. Она рассказала мне: „Как правило, в больнице детей держали больше двух месяцев. Но Юрген провел у нас целых одиннадцать месяцев“.
Современная психология пришла к выводу, что первый год — самый важный в жизни человека. Физический контакт с матерью и ощущение исходящего от нее тепла крайне важны для дальнейшего развития ребенка.
Но уже в больничных яслях младенец оказался полностью зависим от своих будущих приемных родителей. Они, используя свое социальное положение и свои материальные возможности, присвоили себе право распоряжаться судьбой ребенка. Медсестра Анни вспоминает: „Госпожа Барч заплатила сверх положенного, чтобы мальчик остался у нас. Она и ее муж хотели усыновить его, но чиновники все никак не могли принять окончательного решения. Их очень смущало его происхождение, ведь его мать, как и он сам, родилась от внебрачной связи. Она тоже какое-то время провела в приюте. К тому же никто толком не знал, кто его отец. Обычно мы по истечении определенного срока отправляем детей, которых оставили родители, в другое отделение, но госпожа Барч даже слышать об этом не хотела. Ведь в другом отделении мог оказаться кто угодно, в том числе дети, родители которых вели совсем уж асоциальный образ жизни. Я до сих пор помню, как у мальчика сияли глаза. Он очень рано начал улыбаться и поднимать головку, был очень любознателен. Однажды он обнаружил, что медсестра приходит по звонку и начал то и дело нажимать на кнопку. Это ему доставляло огромное удовольствие! И аппетит у него всегда был хороший, и в еде не привередничал. Совершенно нормальный, здоровый, вполне контактный ребенок“.
С другой стороны, мальчик начал слишком рано развиваться, что уже само по себе патология. Я был весьма удивлен, узнав, что ребенок уже к одиннадцати месяцам научился пользоваться горшком. Правда медсестра Анни сочла мое удивление неуместным. „Не забывайте, пожалуйста, что после войны прошел всего год. Мы тогда ни сна, ни отдыха не знали“. На мой вопрос, как же она и ее коллеги смогли приучить его так рано пользоваться горшком, медсестра Анни ответила с легким раздражением: „Мы уже в возрасте шести или семи месяцев просто сажали его на горшок. Некоторые из наших детей уже в одиннадцать месяцев ходить начинали и у них штанишки тоже всегда были чистые и сухие. Вот так“. Остается лишь констатировать, что в условиях, существовавших тогда в Германии, медсестра никак не могла использовать гуманные методы воспитания, даже если она, как Анни, желала ребенку добра.[...]
Проведя почти год жизни в неблагоприятной обстановке, ребенок, которого теперь звали Юргеном, начал жить со своими приемными родителями. Все близкие знакомые госпожи Барч в один голос утверждали, что она была буквально помешана на чистоте. Вскоре после переезда мальчик быстро забыл слишком рано привитые правила гигиены, чем очень разозлил госпожу Барч. Люди, знавшие их семью, уже тогда обращали внимание на покрытые кровоподтеками руки и лицо Юргена. Госпожа Барч так и не смогла убедительно объяснить их происхождение. Однажды ее муж откровенно признался другу, что подумывает о разводе: „Она так избивает ребенка, я больше не вынесу“. В другой раз господин Барч объяснил свой поспешный уход из гостей следующим образом: „Мне срочно нужно домой, иначе она забьет его до смерти“» (Moor, 1972, S.80).
Сам Юрген, естественно, не может ничего рассказать о том времени, но, по всей видимости, именно побои послужили причиной того, что он часто испытывал чувство страха. «Еще в детстве мне внушали страх крики и ругань отца. И что меня уже тогда потрясло: я почти никогда не видел его улыбающимся».
Но откуда этот страх? Я боялся не столько исповеди, сколько Других детей. «Вы не знаете, что в первом классе я был мальчиком для битья и что там со мной делали. Почему не защищался? А попробуй защищаться, если ты самый маленький в классе. От страха я не мог в школе ни петь, ни заниматься физкультурой! Я не мог утвердиться, потому что не входил ни в одну компанию. Одноклассники думали, что я их чураюсь. Им было без разницы, не хочу я или не могу. Я не мог. Пару дней, и то неполных, я жил у моего учителя Хюннемайера, пару дней в Вердене у бабушки, где спать приходилось на полу, а остальные дни в Катернберге в лавке. В результате я нигде не чувствовал себя дома, не имел ни товарищей, ни друзей, т.к. не мог толком ни с кем познакомиться. Вот основные причины, но есть еще одна важная вещь: до того, как пойти в школу, я жил, как в тюрьме, в доме, окруженном трехметровой стеной, с зарешеченными окнами и искусственным светом. Выходить можно было только в сопровождении бабушки, и никаких игр с другими детьми. И так шесть лет. Ведь, не дай Бог, испачкаешься, и „вообще, они тебе не ровня“. Я старался быть послушным, но мне всегда представлялось, что для родителей я обуза. Про незаслуженные побои я даже не говорю. Зато мне иногда прощались самые дурацкие поступки. У родителей для меня вообще не было времени. Отца я боялся, т.к. он мгновенно выходил из себя и начинал кричать, а мать уже тогда была истеричкой. Но главное: не было никаких контактов со сверстниками. Мне просто запрещали общаться с ними. Почему я потом не победил в себе страх и не начал с ними играть? Было уже поздно» (S.56).
Это ощущение пребывания взаперти, невозможность вырваться из замкнутого пространства позднее сыграют очень важную роль. Не случайно Юрген будет заманивать подростков в бывшее бомбоубежище и убивать их. Ведь в детстве никто не желал понять его душевное состояние, он не имел права на эмоциональные переживания и уж тем более, как он сам говорит, не мог показывать, что ему плохо.
«Если бы я стал рассказывать кому-то о своих проблемах, то меня бы сочли трусом. Во всяком случае, мне так казалось. Может быть, я был неправ, думая так. Но ведь я не был трусом во всем, и потом, вы же знаете, у каждого мальчика есть чувство собственного достоинства. я, например, не всегда плакал, когда меня дома наказывали, я считал, что нехорошо быть неженкой, и никому не показывал, что мне плохо. А если откровенно, ну к кому я мог пойти, чтобы излить душу? К родителям? Несмотря на всю любовь к ним, мне приходится с ужасом признать, что они не смогли развить в себе ни малейшей способности понять ребенка. Я хочу особенно подчеркнуть не смогли развить, а не не развили, т.к. никого не хочу упрекать, а просто констатирую факт. я твердо уверен, я в этом на собственной шкуре убедился, что мои родители никогда не умели правильно обращаться с детьми» (S.59).
Только в тюрьме Юрген впервые предъявил родителям серьезные обвинения:
«Вам нельзя было держать меня взаперти и запрещать играть с другими детьми, и тогда в школе меня не считали бы жалким трусом. Вы не должны были отправлять меня к этому садисту в сутане, а когда я сбежал, потому что священник измывался надо мной, вы не должны были посылать меня обратно. Но ведь вам это даже в голову не пришло. Когда мне было одиннадцать или двенадцать лет, мама бросила в печь книжку по вопросам полового воспитания, которую мне подарила тетя Мария. И потом, вы хоть раз поиграли со мной? Наверное, другие родители ведут себя так же... Но для вас-то я был желанным ребенком. Но почему, почему я многое понял так поздно, когда уже ничего нельзя исправить? Почему двадцать лет я ничего не замечал? Почему?»
«Когда кончался рабочий день, мать бежала вон из лавки, как солдат в атаку; прибегая домой, она распахивала дверь, и не дай Бог, если я попадался ей на пути, я тут же получал пару оплеух. Только потому, что я попался ей на пути — это довольно часто было единственной причиной. А через несколько минут я уже снова милый, славный мальчик, которого нужно взять за руку и поцеловать в щеку. Она еще удивлялась, почему я упираюсь и боюсь ее. С первых же дней я боялся их обоих: и отца, и мать; просто отца я видел очень редко. Я и сегодня спрашиваю себя, как он мог выдержать такое. Иногда он непрерывно работал с четырех часов утра до десяти или одиннадцати вечера, много времени проводя в колбасном цеху. Всегда, когда я его видел, он либо куда-то спешил, либо кричал на подчиненных. Но он единственный, кто хоть как-то заботился обо мне, например, менял пеленки и стирал их. Он мне сам потом говорил, что его жена так и не смогла заставить себя заниматься этим.
Я вовсе не хочу говорить о матери плохо. Я даже по-своему люблю ее. Но, тем не менее, я не считаю, что она была способна понять душу ребенка. Она, должно быть, тоже меня любит. Это меня удивляет, но если бы это было не так, то она не сделала бы для меня всего того, что делает сейчас. Да, раньше мне от нее доставалось. я помню, как она неоднократно била меня вешалкой до тех пор, пока та не ломалась, за то, что я, по ее мнению слишком долго готовил уроки или допускал в домашнем задании ошибки.
Так уж повелось, что она всегда сама мыла меня. я никогда не ныл, не возражал, хотя мне это не особенно нравилось. Не знаю, возможно, что я считал это чем-то само собой разумеющимся. Самое интересное, что отец не имел права входить в ванную. Ох, как бы я тогда закричал!
Вплоть до девятнадцати лет, т.е. до ареста, я сам мыл только руки и ноги. Мать мыла мне голову, шею и терла спину. Это вроде вполне естественно, но ведь она еще добиралась до живота и бедер и вообще мыла мне тело сверху вниз. Можно сказать, что она меня мыла, а не я мылся. Я, как правило, ничего не делал, она говорила мне только, чтобы я помыл руки и ноги. Я был слишком ленив. Ни отец, ни мать мне никогда не говорили, что надо промывать и головку полового члена, оттягивая крайнюю плоть. Во всяком случае, она меня этому не научила, когда купала.
Снимал ли я такое купание ненормальным? Было чувство, которое возникало время от времени на какие-то секунды или минуты, которые все-таки оставалось в глубине души. Я его никогда не испытывал явно, если вообще выражение „не испытывать явно“ имеет смысл.
Я не помню, чтобы я когда-то поддавался спонтанным порывам нежности, я не помню, чтобы я вдруг начинал обнимать мать и ласкаться к ней. Я смутно припоминаю, что однажды вечером, когда я лежал в кровати между родителями и мы смотрели телевизор, она меня стала ласкать. Наверное, за четыре года это было всего два раза. Да и я тогда склонен был отвергать ее нежности. Моей матери никогда не нравилось то, что я ее боюсь.
Уж не знаю, как это назвать, может, иронией судьбы, а может быть, это выражение не передает весь трагизм моих ощущений, но в детстве она мне снилась или продающей меня, или бросающейся на меня с ножом. Последнее, к сожалению, стало явью.
Это было то ли в 1964, то ли в 1965 году. Мне кажется, это был вторник, поскольку мама работала тогда в лавке только по вторникам и четвергам. В обед мы с ней фасовали куски мяса и мыли прилавки. Ножи тоже нужно было мыть. Эту работу мы с ней делили пополам. я сказал, что все сделал. Но она была не в духе и сказала: „У тебя еще много работы“. „Да нет же, — возразил я, — посмотри!“ Она упорствовала: „Да ты только взгляни на зеркала! Тебе придется перемыть их“. Я не сдавался: „я не буду их перемывать, они и так вымыты до блеска“. Она стояла у зеркала, в трех или четырех метрах от меня. Вдруг она наклонилась к ведру, вынула оттуда очень красивый длинный мясницкий нож и как швырнет им в меня! я уже не помню точно, может быть, нож, когда летел, стукнулся о весы. Во всяком случае, он вонзился в скамью. Слава Богу, я успел в последний момент отскочить, иначе она бы мне точно в плечо попала.
Я застыл, как столб. Вообще не знал, на каком я свете. Все было уж как-то очень нереально. Такое даже представить себе невозможно. И тут она подошла поближе, плюнула мне в лицо и заорала: „Ты — дерьмо! Я позвоню господину Биттеру, — это начальник Управления по делам несовершеннолетних, — чтобы он забрал тебя! Убирайся, откуда пришел! Там твое место!“ Я бросился на кухню, вцепился в шкаф и сказал продавщице госпоже Оскоп: „Она бросила в меня нож!“ „Да ты рехнулся, — ответила продавщица. — У тебя совсем ум за разум зашел“. Я сбежал по лестнице вниз, заперся в туалете и завыл, как собака. Когда я снова поднялся наверх, то увидел, что мать лихорадочно листает телефонную книгу. Вероятно, она и впрямь искала номер господина Биттера. Она долгое время со мной не разговаривала. Очевидно, она думала, что я негодный мальчишка и ничтожество, которое позволяет так с собой обращаться — швырять в себя ножом — и которое просто в таком случае отпрыгивает в сторону. Я не знаю...»
«Слышали бы вы голос моего отца! Настоящий фельдфебельский бас, которому место на плацу. Ужас! Он орал по любому поводу. По-моему: то жена его что-либо не так делает, то еще что-то — любая мелочь могла вызвать его недовольство. Иногда он закатывал скандал, но я уверен, что он вовсе не считал такое свое поведение чем-то ужасным. По-моему, он просто не мог по-другому. Но для меня как для ребенка это был кошмар. Помню, что скандалы бывали довольно часто.
Он всегда любил командовать и по-армейски делать замечания. Мне кажется, он был всегда перегружен своими делами, так что не будем обижаться на него.
На первом процессе председательствующий спросил отца: „Господин Барч, Вы, конечно, знаете, что в католической школе Вашего сына жестоко избивали?“ Отец четко и ясно ответил: „А я не считаю, что с ним обращались жестоко. Его ведь не забили до смерти“.
Как правило, днем родителей я не видел. Иногда мать проносилась мимо как угорелая, и я не отваживался даже близко подойти к ней, боясь получить оплеуху. У меня уже был горький опыт. Очень часто она избивала меня только за то, что я осмеливался обратиться к ней с какой-нибудь просьбой или просто стоял у нее на пути. Что такое терпение, ей было просто неведомо.
В душе я никак не мог понять ее. Я знаю, что она очень любила меня и любит до сих пор, но, по-моему, ребенок должен чувствовать любовь. Один пример: она могла взять меня на руки и несколько раз поцеловать, а потом, увидев, что я случайно забыл снять ботинки, жестоко колотить меня вешалкой, пока та не раскалывалась на две части. Такое происходило довольно часто, и всякий раз во мне что-то ломалось. Этого обращения со мной я никогда не забуду, как говорится, на том стою и не могу иначе. Кто-то, может быть, упрекнет меня в неблагодарности, но он будет неправ. Я просто рассказываю о впечатлениях детства, потому что не хочу никакой лжи, даже самой святой и сладкой. Уж лучше горькая правда...
Им вообще не следовало жить вместе. Если два бесчувственных человека решили создать семью, то жди беды. У меня до сих пор в ушах стоит: „Заткнись, помолчи, когда старшие говорят, отвечай только, когда тебя спрашивают“.
Но самое грустное происходило в Сочельник. Представьте себе следующую картину: поздний вечер, тишина, я спускаюсь почти на цыпочках но стерильно чистой лестнице в общую комнату, иду по сверкающим половицам и вижу, что для меня приготовлены роскошные подарки. Настроение классное, мать на какое-то время усмирила свой бурный темперамент (а то обычно не знаешь, чего от нее ждать), так что думаешь, что хотя бы на вечер ты забудешь, какой ты подонок; но вскоре я чувствую какое-то напряжение в воздухе и понимаю, что все закончится гадко. Мне хочется спеть рождественскую песню, и надо же — она сама просит меня об этом; я отнекиваюсь, говорю, что уже слишком взрослый для этого, а про себя думаю: „Детоубийца, оказывается, любит рождественские песни. С ума можно сойти!“ Мать вручает мне подарки, она по-настоящему рада. Я тоже „рад“, во всяком случае, стараюсь демонстрировать радость. Еда — куриный суп — уже готова. Через два часа приходит отец, он так долго работал и очень зол. Тут же бросает матери под ноги какой-то предмет домашнего обихода. Это, оказывается, подарок, и у матери от умиления даже слезы на глазах выступают. Отец бурчит что-то вроде „Счастливого Рождества!“, садится за стол. „Ну что, идете?“ — раздается его голос. Мы садимся к столу. Молча едим суп, к курице из супа даже не притрагиваемся.
За столом мы не произносим ни единого слова. Тишину нарушает только тихое и непрерывное бормотание радио, которое уже включено несколько часов: „Надежда и вера дают нам силу и утешение в это трудное...“ Наконец, отец встает и, как фельдфебель на плацу, выкрикивает: „Отлично! А чем мы займемся теперь?“ „Ничем!“ — орет мать и с плачем бежит на кухню. Я думаю: „Кто же так карает меня? Господь Бог или судьба?“ Но ведь я знаю, что такого быть не должно, и мне вспоминается скетч, который я видел по телевизору. „Вам то же, что Вы брали в прошлом году, мадам?“ — „Мне то же, что я беру каждый год, Джеймс!“
Я спрашиваю отца тихонько: „Может быть, ты хоть посмотришь, что мы тебе подарили?“ — „Нет!“ — он сидит за столом, уставившись ничего не видящими глазами на скатерть. А ведь еще нет и восьми часов. Здесь мне делать больше нечего. Торопливо поднявшись к себе, я бегаю взад-вперед по комнате, а в голове вертится только одна мысль: „Может все-таки плюнуть на все и выброситься из окна?“ Уж лучше умереть, чем и дальше терпеть такое. Почему моя жизнь — это сущий ад? Почему мне хочется умереть? Только потому, что я убийца? Но ведь это не объяснение: сегодня все было так же, как и каждый год под Рождество. Этот день всегда был самым отвратительным в году, и особенно это ощущение в последние годы перед тем, как я переехал жить в интернат. В этот день происходило все, действительно все плохое, что только можно было придумать.
Разумеется, отец и мать относятся к той категории людей, которые считают, что в нацистской „системе воспитания“ не все было плохо. Я сам слышал, как отец в разговорах с людьми своего возраста (которые почти все так думают!) неоднократно повторял: „Да, были дисциплина и жесткая система воспитания, был порядок, и в голову не приходили дурные мысли“. Я полагаю, что большинство молодых людей, подобно мне, предпочитают не расспрашивать родственников о жизни в „Третьем рейхе“. Ведь каждый в глубине души опасается, что узнает при этом нечто такое, что вовсе не хотелось бы знать.
Эта история в лавке, когда мать бросала в меня нож, произошла после третьего убийства, однако похожее случалось и раньше, еще до первого преступления, хотя, конечно, не было столь ужасным. Примерно два раза в год она меня жестоко избивала. При этом я не имел права защищаться, иначе она приходила в дикую ярость. То есть я должен был смирно стоять, а на меня сыпались удары. Когда мне было уже шестнадцать лет, я однажды рискнул выдернуть из руки орудие экзекуции. Для нее это было равнозначно бунту на корабле, хотя это была лишь самозащита, ведь у нее силы на нескольких хватит. И вот в этот момент я почувствовал, что она была готова даже изувечить меня. Я не мог это не почувствовать» (Moor, S.63-79).
Я как бы дала возможность Юргену Барчу выговориться, чтобы читатель почувствовал, какая атмосфера обычно царит на психоаналитическом сеансе. Психотерапевт должен верить людям. Как правило, он внимательно выслушивает пациента, не поправляет его, не предлагает никаких рецептов. Иногда случается, что благодаря общению с психоаналитиком человек понимает, каким адом было его детство. А ведь ни он, ни его родители ничего об этом и не знали!
Можно сделать предположение, что приемные родители Юргена вели бы себя по отношению к мальчику совершенно иначе, если бы заранее знали, что совершенные их сыном преступления сделают их собственное поведение достоянием гласности. Но не исключено, что неврозы, которыми они страдали, все равно вынудили бы их жестоко обращаться с мальчиком. Однако если бы они были худо-бедно подготовлены в психологическом отношении, то, вероятно, не отправили бы Юргена в интернат в Мариенхаузене, а после бегства не возвращали бы его туда насильно. В своих письмах Паулю Моору Юрген Барч достаточно подробно описал нравы, царившие в Мариенхаузене. После знакомства с этим описанием, равно как и с показаниями свидетелей, данными на процессе, остается лишь констатировать, что «черная педагогика» живет и здравствует, Приведу лишь несколько цитат.
«От того, что всем в Мариенхаузене заправляли католики, жилось там ничуть не лучше. Это был самый настоящий ад, в отличие от прежнего интерната. А наш воспитатель был вовсе невыносим. Я навсегда запомнил, как пасторы били нас в любое время и в любом месте: на занятиях, на репетициях церковного хора и даже во время богослужения. А уж как они нас наказывали, такое не всякому садисту в голову придет. Достаточно только перечислить: стояние по стойке „смирно“ в пижаме на протяжении нескольких часов, пока кто-нибудь из нас не упадет в обморок, использование запрещенного детского труда на полевых работах в палящий зной на протяжении всего лета в послеобеденное время (заставляли ворошить сено, перебирать картофель, пропалывать свеклу и больно били тех, кто делал это недостаточно быстро), не говоря уже о бесчисленных угрозах, типа: „Кто хоть мельком взглянет на нашу кухарку, будет наказан“. О каком нормальном развитии могла идти речь в таких условиях! Все наши попытки хоть как-то выразить себя объявлялись „дьявольскими штучками“ (естественно, для нашего же „блага“).
Дьякон Хамахер как-то вечером в спальне (там, как и в столовой, нельзя было даже слово произнести — вот вам, кстати, еще одно бессмысленное правило — запрет на любые разговоры), двинул мне, поскольку я на свою беду немного разговорился, так, что я даже под кровать закатился. Незадолго до этого священник, преподававший у нас Закон Божий, сломал о мою задницу большую линейку и на полном серьезе потребовал от меня возместить ущерб.
Как-то в шестом классе я заболел гриппом. Учитель Закона Божьего не только вел уроки, но еще и ведал больничным отделением. Естественно, меня отправили прямо к нему. Рядом со мной лежал мальчик с высокой температурой. Учитель зашел, сунул ему градусник, вышел, через несколько минут вернулся, посмотрел на градусник и жестоко избил моего соседа. Мальчик плакал и кричал. Не уверен, что он хоть что-то понимал, такая высокая была у него температура. Но учитель топал ногами и кричал, как безумный: „Он держал термометр возле батареи“. Пастор забыл, что зима прошла, и батареи давно холодные» (S.105-106).
Ребенка вынуждали беспрекословно принимать любые причуды воспитателей, иной раз доходящие до абсурда. Педагоги стремились заглушить в нем чувство ненависти и желание иметь рядом душевно близкого человека, способного хоть как-то облегчить его положение. Характерно, что так обращаются именно с ребенком, а не со взрослым. Но разве может человек справится с таким прессингом?
«Наш воспитатель отец Пьютлиц запрещал нам спать по двое в одной кровати. За этот проступок полагалось еще более жестокие побои, чем за обычные провинности, Нас еще предупредили, что любого, кто нарушит запрет, тут же вышвырнут из школы. Бог мой, да мы не столько исключения, сколько порки боялись! Нам ежедневно вдалбливали глупости, например: тот, у кого влажные ладони — гомосексуалист, а гомосексуалист на все способен. Было прямо сказано, что он уже готовый убийца. Отец Пьютлиц с нами почти каждый день вел разговоры о том, что половое влечение — это естественный инстинкт, но ему нужно противостоять, потому что он — от сатаны. Просто „внутри накапливается слишком много горячей крови“. Это его выражение мне всегда казалось каким-то отвратительным. Затем он с гордостью возвещал, что еще ни разу не поддался сатане. Эту тему он не поднимал на уроках, зато постоянно говорил об этом в течение дня.
Вставали мы всегда в шесть или шесть тридцать утра, не разговаривая, выстраивались в два ряда и шли в церковь, а затем таким же образом обратно (S.108).
Почти все личные контакты были запрещены. Ни с кем нельзя было дружить, и даже нельзя было слишком часто друг с другом играть. Вообще-то, в определенной степени этот запрет можно было обойти, они ведь не могли за всеми уследить. Для них любая дружба таила в себе опасность, им казалось, что стоит кому-либо из нас обрести настоящего друга, как тот тут же полезет к нему в штаны. Повсюду им мерещился секс.
Побоями можно заставить усвоить любую вещь, и потом ее уже из головы не выбьешь. И пусть многие говорят, что это не так, на самом деле это именно так. У меня до сих пор в голове прочно сидит многое из того, что я усвоил таким образом (S.111).
Если кто-либо из нас совершал что-либо предосудительное, но не признавался в этом, отец Пютлиц заставлял весь класс бегать в школьном дворе по кругу до тех пор, пока кто-либо не падал в обморок.
Он часто и со всеми подробностями рассказывал нам о массовом истреблении евреев в „Третьем рейхе“ и даже показывал фотографии. Похоже, что эти рассказы доставляли ему удовольствие (S.118).
Я также хорошо помню, что во время репетиций хора иногда он начинал молотить палкой всех подряд и бегал, как безумный, взад-вперед. Изо рта у него стекала иена. При битье палка часто ломалась» (S. 120).
Человек, который всеми способами пытался предотвратить любые сексуальные контакты между его подопечными, не постеснялся затащить больного Юргена к себе в постель.
«Он хотел получить обратно свой радиоприемник. Кровати стояли рядом на довольно значительном расстоянии друг от друга. И, хотя у меня была температура, я встал и принес ему радиоприемник. И тут он вдруг заявил: „Уж если ты здесь, иди ко мне“.
Я ни о чем таком не подумал. Какое-то время мы просто лежали рядом, потом он прижал меня к себе и сунул руку мне в штаны. Это было нечто новое, но я как-то даже не слишком удивился. Ведь по утрам на хорах, уж не помню, как часто, кажется раза четыре, а может и больше, он садился рядом и почти касался моих коротких штанов.
В кровати он просунул руку в мои пижамные штаны и начал легонько поглаживать меня. Второй рукой он попытался массировать мой член, но эрекции не наступило, т.к. у меня была температура (S.120).
Не помню точно его слова, но сказал он примерно следующее: если я кому-то проболтаюсь, он прикончит меня» (S.122).
Может ли ребенок без посторонней помощи выйти из такой ситуации? Тем не менее Юрген рискнул убежать и окончательно убедился, что его положение безнадежно и что в этом мире он совершенно одинок.
«В Мариенхаузене до этой истории с отцом Пютлицем я никогда не скучал по дому, но сейчас, после поездки домой, когда родители доставили меня обратно в интернат, я вдруг страшно затосковал. Воспитатель наблюдал за мной денно и нощно, и у меня даже в мыслях не было оставаться там. Итак, я сбежал из Мариенхаузена и начал думать, куда же мне направиться. Домой я боялся идти, т.к. понимал, что мне там такую зададут взбучку. Поэтому я сидел и дрожал от страха. Ведь мне просто некуда было идти.
В конце концов я направился в расположенный возле селения густой лес и бродил по нему до вечера. И вдруг там объявилась моя мать! Кто-то, вероятно, видел меня там. Я тут же спрятался за дерево. Она кричала: „Юрген! Юрген! Где ты?“ Наконец она нашла меня и подняла страшный крик.
Родители немедленно позвонили в Мариенхаузен. Я так ничего им и не рассказал. Весь день они созванивались со школой, а затем сказали мне: „Они дают тебе последний шанс! Тебе разрешено вернуться“. Я, естественно, зарыдал и завыл: „Ну, пожалуйста, пожалуйста, я не хочу назад“. Но любой, кто хоть немного знал моих родителей, понимал, что я ничего не добьюсь» (S.123).
Юрген Барч описывает не только свое собственное положение в Мариенхаузене, но и ситуацию, в которой оказался один из его товарищей.
«Герберт был очень хорошим парнем. В интернат он попал задолго до меня. Он был родом из Кельна. В нашем классе он оказался самым маленьким. Терпеть не мог, когда говорили что-то плохое о его родном городе, и сразу же начинал драться. Я уже не помню, сколько раз это случалось. Понятно, что он очень тосковал по близким и друзьям, оставшимися в Кельне, ведь ностальгия по родине — это всегда тоска по тем людям, которые остались там и которых нет с тобой.
В хоре его всегда ставили в первом ряду, т.к. он был самым маленьким, и потому почти на каждой репетиции он получал свою порцию ударов в лицо и по почкам. Ему доставалось гораздо больше, чем тем, кто стоял в последнем ряду. Уж не помню, сколько раз его били и пинали. Я не хочу писать о нем как о герое, он бы мне этого не простил, тем более что героем он не был и не хотел быть. Если отец Пютлиц или толстый учитель Закона Божьего принимались дубасить его, он кричал, как никто другой, так, что казалось, что от этого крика должны рухнуть ненавистные стены нашей церковной школы-тюрьмы.
В 1960 г. мы поехали в палаточный лагерь в местечко Рат, что недалеко от Нидэггена. Отец Пютлиц решил устроить веселую игру и приказал „похитить“ Герберта. Мальчику никто ничего не сказал. Его просто затащили вечером в лес, связали, заткнули ему рот, засунули его в белый спальный мешок и оставили лежать так до полуночи, не обращая внимания на его мольбы о помощи. Уж не знаю, что он ощущал. Наверное, страх, отчаяние и ощущение полной беспомощности. Но никто не испытывал к нему сострадания. В первом часу ночи его освободили и вдоволь посмеялись над ним. Действительно, это была очень „веселая“ игра.
Через несколько лет он уехал из Мариенхаузена. Еще будучи подростком, он разбился насмерть во время прогулки в горах. Он родился, чтобы терпеть побои, муки, а затем так нелепо погибнуть. Он был самым маленьким в нашем классе. Его звали Герберт Греве. И он был хорошим парнем» (S.126).
Мариенхаузен — лишь один из многих примеров...
«В начале 1970 г. в интернате имени дона Боско в Кельне разразился скандал, привлекший внимание прессы, радио и телевидения. Порядки в Мариенхаузене никого не взволновали, но аналогичная ситуация в кельнском интернате заставила управление по делам несовершеннолетних забрать оттуда всех „своих“ детей, потому что оно больше не могло нести за них ответственность.
Учителя избивали там детей, а затем сбрасывали их с лестницы, били их ногами, окунали головой в унитаз и т.д... То же самое творилось и в Мариенхаузене, так что братья из ордена салезианцев оказались ничуть не лучше. Согласно некоторым источникам, четыре преподавателя покушались на честь своих подопечных. Характерно, что отец Пютлиц после 1960 г. несколько лет был воспитателем именно в этом интернате» (S.180).
Однако в Мариенхаузе в жизни Юргена Барча произошло также и нечто положительное. До сих пор он был единственным «мальчиком для битья»: так было и дома, и в школе. Здесь же впервые он оказался не одинок в своем противостоянии «садистам-педагогам».
«Солидарность значила для меня так много, что я готов был примириться и с гораздо более худшим. Главное, что ты не отверженный, это же просто чудо. Мы были солидарны в противостоянии садистам-педагогам. Я где-то прочитал арабскую поговорку: „Враг моего врага — мой друг“. Педагоги не могли не чувствовать эту невероятную сплоченность учеников, готовых им противостоять. Как известно, авторы воспоминаний часто приукрашивают прошлое, но я думаю, что я этого не делаю. Итак, я впервые не был изгоем. Мы все предпочли бы быть разорванными на куски, чем предать товарища. Последнее было просто невероятно!» (S.131).
В зрелом возрасте Барча помещают в психиатрическую больницу. Психиатры, полагая, что он не в состоянии справиться со своими инстинктами, решают подвергнуть его кастрации, на которую Юрген дает согласие. Во время этой операции в 1977 г. он умирает. Но любому психоаналитику ясно, что позиция психиатров просто абсурдна, т.к. Юрген уже в детстве мог прекрасно справляться со своими естественными инстинктами: подтверждение тому — тот факт, что он уже в одиннадцатимесячном возрасте научился пользоваться горшком. К тому же это произошло в больнице, где у ребенка просто не могло быть постоянного референтного лица. Но именно то, что Юрген мог контролировать свои инстинкты, и стало для него роковым. Если бы он не был способен к этому, то семья мясника вряд ли бы его усыновила или бы отказалась от него. Не исключено, что другие приемные родители проявили бы к ребенку больше понимания.
Юрген был довольно способным мальчиком. Он сумел приспосабливаться к требованиям взрослых: научился сносить побои, молча терпеть, когда над ним измывались, запирая в подвале. Эти кошмарные обстоятельства не мешали ему «вести себя хорошо» и получать приличные отметки. Но всплеск чувств в пубертатный период отключил защитные механизмы. Можно было бы сказать «к счастью», если бы последствия этого отказа механизмов саморегуляции не были столь трагичными. (Необходимо отметить, что они оказываются трагичными достаточно часто. Например, подростки могут попасть в зависимость от наркотиков.)
«Разумеется, я часто говорил матери: „Подожди, вот мне исполнится 21 год, и тогда я начну самостоятельную жизнь“. Уж какие-то вещи говорить у меня хватало мужества. На это мать обычно отвечала: „Ты такой дурак, что тебе везде будет плохо, кроме как у нас. А уедешь, все равно через два дня вернешься“. Тогда я верил, что действительно больше двух дней нигде не продержусь. А почему, сам не знаю. А знал я, что и в двадцать один год никуда не уеду. Просто хотелось этими словами хоть немного пар выпустить.
Когда я начал работать, то не говорил „Здорово!“ — или, наоборот: „Кошмар!“. Я вообще не задумывался, нравится мне моя профессия или нет» (S.147).
Таким образом, всякая надежда начать самостоятельную жизнь была убита у этого человека в зародыше. Произошло самое настоящее убийство души. Разве можно назвать это как-нибудь иначе? Такого рода преступлениями криминалисты не занимаются. Их просто не замечают, потому что они считаются неотъемлемым элементом воспитания. И лишь конечный итог этого воспитания — уголовное преступление — является наказуемым деянием. Психолог может, проанализировав его, раскрыть трагическую предысторию, но для этого приходится проникать в подсознание преступника. Точное описание своих преступлений Юргеном Барчем напрочь опровергает его собственное утверждение о том, что они порождены половым инстинктом. (Мы помним, что, думая так, он дал согласие на кастрацию.) Психоаналитик, изучив его письма, может многое узнать о взаимосвязи упоения «величием» своего Я и сексуальных извращений. (Сама эта тема еще недостаточно разработана.)
Юрген Барч не понимает сам себя и неоднократно задает себе вопрос, почему истинное сексуальное влечение имело крайне отдаленное отношение к совершенным убийствам. Он пишет о том, что испытывал нежные чувства к тому или иному товарищу, хотел завести с ним «дружбу». Но ведь это так далеко от зверских расправ над подростками! К тому же во время них он почти не занимался онанизмом. Просто он, убивая других, воссоздавал ситуацию глубочайшего унижения, ощущения полного бессилия, отчаяния и страха, в которой когда-то находился маленький мальчик. Он особенно возбуждался, когда смотрел в испуганные, покорные глаза беззащитной жертвы, т.к. видел в них отражение самого себя и тем самым вновь и вновь уничтожал чужое Я (выступая в роли всемогущего насильника, делая то, что с ним проделывали в детстве), одновременно утверждая «величие» своего Я.
Поскольку книгу Пауля Моора, которая читателя не потрясти не может, достать практически невозможно, я привожу здесь обширные выдержки из нее. В них Юрген Барч подробно описывает совершенные им преступления. Его первой жертвой стал соседский мальчик Аксель.
«Через две недели произошло то же самое. „Пойдем в лес“, — сказал я. Но Аксель ответил: „Нет, ты опять себя будешь вести как чокнутый!“ Но я обещал, что не буду, и он пошел со мной. Однако на меня опять что-то нашло, я силой заставил мальчика раздеться догола, и тут мне в голову пришла совершенно дьявольская выдумка. Я заорал: „А ну ложись ко мне на колени задом вверх. Будет больно, дрыгай ногами, но не вздумай шевелить руками и вообще — не дергайся. Я буду бить тебя по заднице тринадцать раз, и с каждым разом все сильнее. А если ты не согласен — убью!“ (На самом деле я его, конечно, не убил бы.) „Согласен?“
Что ему еще оставалось делать? Конечно, он согласился. И, действительно, дергал ногами, как безумный, но не шевелил ни руками, ни телом. Я же нанес ему не тринадцать, а гораздо больше ударов и бил его до тех пор, пока у меня не заболела рука.
А потом — отрезвление и все то же ощущение глубочайшего унижения. Я чувствовал себя полным ничтожеством. Ведь я унизил не только себя, но и того, кого очень любил. Надо сказать, что Аксель не плакал. Он сидел в стороне и молчал.
„Ударь меня“, — попросил я его. Как мне хотелось, чтобы он забил меня до смерти! Но он не стал меня бить. В конце концов именно я заревел и завыл. „Теперь ты будешь меня презирать“, — сказал я по дороге домой. Он ничего не ответил.
На следующий день (это было во второй половине дня) он подошел к моей двери и тихо попросил: „Не нужно больше, ладно?“ Вы не поверите, я сам не поверил, но он на меня даже не обиделся! Он даже не боялся меня, только показался мне более осторожным. Мы потом часто вместе играли, пока он не переехал. Я же сам настолько испугался содеянного мной, что на какое-то время даже успокоился» (S.135).
«Относительно самых страшных своих преступлений могу только сказать, что лет с тринадцати-четырнадцати я уже почти не отвечал за свои поступки. Я много молился, надеясь, что это поможет, но это не помогло».
«Они все были такими маленькими, гораздо меньше, чем я тогда. И так боялись, что даже не защищались» (S.137).
«До 1962 года я только раздевал их и ощупывал их тело, чтобы испытать соответствующее ощущение. Позднее для этого я уже должен был убивать и резать. Хотел сперва использовать бритву, а потом понял, что для этого лучше всего подходит такой нож, какой был у отца» (S. 139). В этой связи для психоаналитика важно следующее замечание Барча:
«Когда я говорю о любви, имея в виду то чувство, которое, например, молодой человек может испытывать к девушке, то понимаю, что объект любви не просто должен подходить на роль жертвы моего дьявольского инстинкта. Любить — это нечто гораздо большее. Совершенно неверно думать, что у меня на первом месте стоит инстинкт и, чтобы любить именно так, по-настоящему, я должен совладать с ним. Если бы я полюбил, желание терзать свою жертву прошло бы само собой» (S.155).
Итак, своих жертв Юрген Барч не любил.
«Сперва мне хотелось, чтобы мальчики сопротивлялись, хотя их беспомощное состояние действовало на меня завораживающе. Но я прекрасно понимал, что им со мной не справиться, и шансов на спасение у них нет.
Фрезе я пытался целовать, но, вообще говоря, это не входило в мои планы. Даже не знаю, почему у меня вдруг возникло такое желание. Я подумал, что целовать — это классно. Это было для меня нечто новое. А потом — я думал, что моей жертве было приятно, чтобы я ее целовал. Может быть, кто-то подумает, что я совсем спятил. Но я действительно так полагал. Попытаюсь это объяснить. Меня в детстве страшно избивали. Но должен сказать, мне было тогда гораздо приятнее, чтобы тот, кто мне внушал отвращение, целовал меня, а не бил сзади ногой по яйцам. Умом это можно понять. Но тогда я был просто поражен тем, что у меня возникло желание поцеловать Фрезе. Когда я сделал это, он попросил: „Еще!“ Я продолжил его целовать. Ведь ему это все же было приятнее, чем терпеть боль от ударов» (S.175).
Характерно, что Юрген Барч откровенно рассказывает о своем зверском обращении с беззащитными детьми (хотя понимает, какие чувства это вызывает у других) и крайне сдержанно, неохотно, как бы по необходимости — о ситуациях, в которых сам оказывался жертвой. В восемь лет с ним совершил развратные действия тринадцатилетний двоюродный брат, а в свои тринадцать Юрген оказался в постели воспитателя. Но он почти ничего не говорит о том чувстве унижения, которое он должен был тогда испытывать. Объяснение этому очень простое: эти переживания были вытеснены в подсознание. Те чувства, которые испытывал Юрген, издеваясь над беззащитными жертвами, помогают понять механизм этого вытеснения. Совершая убийства, Юрген Барч представлялся самому себе сильным человеком с чувством собственного достоинства, хотя понимал, что все его проклянут. Однако в момент убийства это понимание оказывалось вытесненным в подсознание. Лишь временами он сознавал, какую же мерзость он совершил, и ощущал беспомощность и невыносимый жгучий стыд.
Вытеснение переживаний в подсознание — одна из причин равнодушного отношения людей к совершенному над ними в детстве физическому и сексуальному насилию и того, что о нем так легко забывают.
Приводя здесь отрывки из книги Пауля Моора, я вовсе не ставила своей целью «снять ответственность» с преступника. А ведь именно в этом судьи обычно обвиняют психоаналитиков. Я также не собиралась возлагать всю вину на его родителей. В мои намерения входило лишь показать, что у каждого поступка есть свой (зачастую потаенный) смысл, и понять его можно, лишь увидев всю причинно-следственную связь. К сожалению, воспитание в соответствии с принципами «черной педагогики» лишает людей этой возможности. Газетные публикации, посвященные Юргену Барчу, потрясли меня, не вызвав, однако, никакого морального возмущения. Ведь многие мои пациенты, получив возможность вызволить из подсознания вытесненное туда еще в раннем детстве желание мести, в своих фантазиях разыгрывали поражающие своей жестокостью сцены. (Вспомним о двадцатичетырехлетнем студенте, о котором я писала во введении к главе о Юргене Барче.) Но опять же именно потому, что они имеют возможность откровенно обсуждать то, что они ощущают, у них не появляется желание претворить свои фантазии в жизнь. У Юргена Барча такая возможность напрочь отсутствовала. На первом году жизни его душу не согревала любовь матери, вплоть до школьного возраста он никогда не играл с другими детьми, а родители также никогда не играли с ним. В школе же он быстро сделался мальчиком для битья. Естественно, ребенок, живший дома в полной изоляции и приученный побоями к абсолютному послушанию, не мог быть на равных со своими сверстниками. Его одноклассники чувствовали, что он боится их, и все больше и больше измывались над ним. То, что произошло после бегства из Мариенхаузена, наглядно показывает, как страшно страдал мальчик, мечущийся между «благополучным» родным домом, где остались отец и мать («добропорядочные бюргеры»), и церковной школой с ее псевдоблагочестивой атмосферой. Потребность рассказать дома обо всем и понимание, что никто этому не поверит, страх перед родителями и страстное желание выплакать им свою боль — разве в такой ситуации не оказываются ежедневно тысячи подростков?
В интернате Юрген, будучи послушным ребенком, исправно выполнял все тамошние предписания, не совершал ничего запретного и был буквально вне себя от ярости, когда его бывший соученик рассказал на суде, что он не только спал там с одним из мальчиков, но и воспринимал это как нечто «само собой разумеющееся». Естественно, в приюте многие находили возможность обходить запреты, но это отнюдь не относится к детям, которых еще в младенческом возрасте приучили к безоговорочному послушанию. Такие дети были готовы исполнять обязанности причетников, лишь бы быть поближе к какому-нибудь живому существу. Таким в их глазах являлся священник.
Если родители подвергают ребенка насилию или используют его как сексуальный объект, это запечатлевается в подсознании, и провоцирует потом различные извращения. В том, как Юрген Барч совершал убийства с зеркальной точностью отразилось многое из его детства:
1. Бывшее бомбоубежище, в котором он убивал детей, по описанию Барча, сильно напоминает «подвал с решетками и трехметровыми стенами», т.е. его дом, где он был когда-то заперт.
2. Преступлениям обязательно предшествовал «выбор жертвы». Но ведь при усыновлении Юргена выбрали (и потом постепенно лишали жизненных сил).
3. Он убивал детей «нашим ножом», т.е. инструментом, которым отец разделывал туши.
4. Он возбуждался, заглядывая в полные ужаса глаза беззащитных жертв. В этих глазах он видел себя самого, испытывающего те чувства, которые он когда-то был вынужден скрывать. Одновременно он чувствовал себя в роли тех, от кого когда-то всецело зависел.
Совершенные Юргеном Барчем убийства свидетельствуют:
1) об отчаянной попытке обойти запрет и «удовлетворить свою сексуальную потребность», что раньше ему строго-настрого было запрещено;
2) о всплеске накопившейся в душе (и считающейся в обществе чем-то предосудительным) ненависти к родителям и учителям, заинтересованным только в «добропорядочном поведении», но лишившим мальчика возможности нормально жить;
3) о синдроме навязчивого повторения; чувство беспомощности теперь должны были испытывать мальчики в коротких штанах, какие Юрген Барч носил в детстве, кроме того, он хотел заставить людей вновь испытывать чувство почти физического отвращения к нему, то чувство, которое испытывала мать, когда он в двухлетнем возрасте вновь начал справлять свою нужду в пеленки.
Преступления Юргена Барча, равно как и откровенное провокационное поведение Кристианы Ф., вызывает вполне обоснованное чувство возмущения.
Но тот, кто объясняет убийства, совершенные Юргеном Барчем, исключительно «болезненным сексуальным влечением», никогда не сумеет найти истинные причины многих актов насилия. Расскажу коротко о преступлении, где секс не играл почти никакой роли, но которое, тем не менее, обусловлено трагическими эпизодами детства.
Еженедельник «Цайт» опубликовал 27 июля 1979 г. статью о Мэри Белл, которая в 1968 г. в одиннадцатилетнем возрасте была осуждена английским судом за двойное убийство на пожизненное заключение. На момент публикации ей исполнилось 22 года, она сидит в тюрьме и еще ни разу не общалась с психотерапевтом. Я позволю себе привести выдержки из этой статьи.
«Слушается дело об убийстве двух мальчиков, одному из которых было три, а другому четыре года. Председатель суда в Ньюкастле приказывает обвиняемой встать. Девочка отвечает, что она уже стоит. Обвиняемой Мэри Белл всего лишь одиннадцать лет.
26 мая 1957 г. семнадцатилетняя Бетти К. в больнице „Дилстолл Холл“ города Гейтсхеда родила девочку. Когда матери через несколько минут после родов протянули младенца, она якобы даже содрогнулась от отвращения и закричала: „Уберите от меня эту гадость!“ Когда Мэри исполнилось три года, мать как-то отправилась с ней погулять, не заметив, что за ними тайком увязалась сестра Бетти. Они отправились в агентство, занимающееся вопросами усыновления, и натолкнулись там на молодую женщину, плачущую навзрыд. Она сказала, что хочет усыновить ребенка и уехать в Австралию, но ей ответили, что для усыновления она слишком молода. „Так забери ее“, — сказала Бетти, сунула Мэри в руки незнакомки и ушла...
В школе Мэри вела себя вызывающе: била, кусала и царапала других детей, душила голубей, а однажды даже спихнула своего двоюродного брата в бывшее бомбоубежище. Мальчик упал с высоты два с половиной метра на бетонный пол. На следующий день Мэри на детской площадке приставала к трем девочкам: она хватала их за горло и пыталась душить. В девять лет ее перевели в другую школу, и двое тамошних учителей заявили в один голос: „Лучше не приставать к ней с расспросами и не копаться в ее жизни“. Сотрудница полиции, хорошо изучившая поведение Мэри в следственном изоляторе, рассказывала: „Ей было очень скучно. Она стояла у окна, смотрела на идущую по желобу кошку, затем спросила, можно ли ее впустить. Мы открыли окно. Она достала шерстяную нитку и стала играть с кошкой. Через какое-то время я вдруг увидела, что она схватила кошку за загривок так, что у несчастного животного перехватило дыхание. От недостатка воздуха кошка даже высунула язык. Я отняла у нее кошку и сказала: „Ты делаешь ей больно““.
Она ответила: „А плевать, она все равно ничего не чувствует, и вообще, мне нравится делать больно тем, кто не может защищаться“.
Другой сотруднице полиции Мэри сказала, что хотела бы стать медсестрой, т.к. ей „хочется колоть людей и вообще нравится причинять им боль“. Тем временем мать вышла замуж за Билли Белла, однако по-прежнему обслуживала довольно специфических клиентов. После судебного процесса над ее дочерью Бетти объяснила сотруднику полиции, в чем, собственно говоря, заключается ее занятие. „Я бью их бичом, — заявила она таким тоном, как будто речь шла о чем-то естественном и собеседник должен был давно это знать. При этом она добавила: — Но я всегда прятала бич от детей“».
Поведение Мэри Белл не оставляет никакого сомнения в том, что ее мать, выбравшая такую, мягко говоря, экзотическую профессию, мучила своего ребенка и, вероятно, даже пыталась убить его, т.е. проделать то же самое, что ее дочь сделала с кошкой и маленькими детьми. К сожалению, нет закона, запрещающего подобную родительскую жестокость.
Нам часто говорят, что курс психотерапии стоит довольно дорого. Это звучит как упрек. Но разве дешевле для общества всю жизнь держать за решеткой человека, которого посадили в тюрьму в одиннадцать лет? Да и поможет ли это? Ребенок, с которым так жестоко обращались родители, повзрослев, непременно захочет хоть как-то отомстить за совершенное над ним насилие. Если он не найдет никого, с кем можно поделиться самыми сокровенными мыслями и желаниями, следует ожидать, что он совершит жестокое преступление, и общество еще раз ужаснется. Но ужасаться следовало бы раньше, при совершении самого первого убийства, а именно убийства души ребенка. Тогда мы смогли & бы помочь ему эмоционально воспринять собственные страдания. Осознав их, и он не стал бы носить в себе крайне опасный для общества с потенциал. (Во время чтения гранок этой книги я узнала из газет, что Мэри Белл освобождена из тюрьмы. Она стала «очень привлекательной женщиной и хочет непременно жить рядом с матерью».)