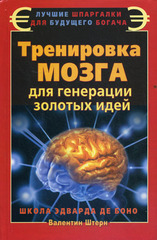Глава 3. ЯЗЫК: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА
1. Недоверие к словам
Глубокая подозрительность по отношению к языку и обеднение нас и наших взаимоотношений, которые одновременно являются причиной и следствием друг друга, бурно разрастаются в наше время. Мы испытываем отчаяние от того, что не способны поделиться с другими тем, что мы чувствуем и думаем, и еще большее отчаяние от того, что мы неспособны различить в себе, что мы чувствуем и кто мы есть. Основанием этой утраты идентичности является утрата убедительности символами и мифами, на которых идентичность и язык держатся.
Распад речи выпукло изображен в произведении Оруэлла "1984", в котором люди не просто проходят через этап "двоемыслия", но используют слова прямо противоположно их значению, к примеру, слово война означает мир. В пьесе Беккета "В ожидании Годо" на нас производит схожее впечатление, когда фабрикант Поццо приказывает своему рабу, интеллектуалу Лаки: "Думай, свинья! Думай!" Лаки начинает плести словесный салат из длинных фраз, хаотично связанных друг с другом, который занимает полные три страницы. В конце концов он падает в обморок на сцене. Это живой пример ситуации, когда речь не говорит ни о чем, кроме пустой эрудиции.
Распад проявляется и в протесте студентов против "слов, слов, слов", которые они обязаны слушать, в их душевном отвращении к слушанию одних и тех же снова и снова повторяемых вещей, и в их готовности обвинять преподавателей и других в "словесном поносе" и "словоблудии". Обычно это понимают как критику в адрес лекционного метода. Но на самом деле речь идет — или должна идти — об особом типе лекции, не передающей "бытия" от одного человека к другому. Нужно признать, что слишком часто это свойство академической жизни делает студенческий протест против неадекватного образования более уместным. В библиотеках колледжей полки ломятся от книг, которые были написаны, потому что были написаны другие книги, те в свою очередь потому что были написаны другие книги содержание в них "питательных веществ" становится все меньше и эфемернее, пока, наконец, книги не начинают казаться не имеющими ничего общего с преклонением перед истиной, но написанными ради одного статуса и престижа. А в академическом мире последние две ценности действительно могут обладать силой. Не удивительно, что молодые поэты разочарованы речью и держатся мнения, провозглашенного ими в Сан-Франциско, что лучшая поэма — "чистый лист бумаги".
В то же время, при нашем отчуждении и изоляции, мы страстно желаем простого, открытого выражения наших чувств к другому, непосредственного отношения к его бытию, например, смотреть в глаза, чтобы видеть и чувствовать его, или тихо стоять рядом с ним. Мы ищем прямого выражения наших эмоции без всяких барьеров. Мы стремимся к такой невинности, которая стара как эволюция человека, но приходит к нам как нечто новое, невинность детей, снова в попавших в рай. Мы страстно желаем прямого телесного выражения близости, чтобы сократить время узнавания другого, обычно требуемое близостью; мы хотим говорить посредством тела, моментально перескочить к идентификации с другим, пусть даже мы знаем, что она будет неполной. Короче, мы желаем обойти все символические вербально-языковые препоны.
Отсюда сильная в наши дни тенденция к терапии действием в противоположность терапии словом, и убеждение, что истина откроется — если откроется вообще, — когда мы сможем жить, скорее исходя из своих мускульных импульсов и ощущений, нежели будучи погребенными под грудой мертвых понятий. Отсюда группы встреч, марафоны, ню-терапия, использование ЛСД и других наркотиков. Все это, короче говоря, есть включение тела во взаимоотношение, когда взаимоотношения нет. Какими бы ни были эти взаимоотношения, они эфемерны: сегодня они ярко расцветают всеми цветами радуги, но назавтра оборачиваются унылым местом, а в наших руках остается лишь пена морская.
Моя цель не в том, чтобы развенчать эти формы терапии или принизить значение тела. Мое тело остается способом, которым я могу себя выразить — в этом смысле я есть мое тело, — и, разумеется, заслуживает признательности. Но равным образом я есть мой язык. И я желаю заострить внимание на тенденции к деструктивное™, которая проявляется в присущих терапии действиям — попытках обойти язык.
Такого рода терапии действием тесно связаны с насилием. Становясь все более радикальными, они балансируют на грани насилия как во внутригрупповой деятельности, так и в подготовке новых участников движения антиинтеллектуализма вне ее. Острая нужда в таких формах терапии на самом деле коренится в отчаянии — в безрадостном факте непонятости, неспособности общаться и любить. Это стремление одним прыжком преодолеть временную дистанцию, необходимую для установления интимности, попытка непосредственно почувствовать и пережить надежды, мечты и страхи другого34.
34 Я получил много писем, в которых говорилось, что чтение моей книги "Любовь и воля" подобно прикосновению, что кажется, будто я "непосредственно присутствую" в одном помещении с читателем, который на самом деле, возможно, никогда не видел меня и находится, быть может, за тысячи миль. Обычно за этим следовали похвалы моей способности присутствовать в настоящем. Большинство моих корреспондентов не осознавали, что переживание бытия было итогом восьми лет писания и переписывания. Само по себе писание и переписывание не дало бы читателю ощущение прикосновения, как и мое чувство присутствия. Необходимо и то и другое.
Но интимность требует истории, даже если двое людей сами вынуждены создавать эту историю. Мы забываем на свой страх и риск, что человек есть создание, творящее символы, и если символы (или мифы, которые являются примером символов) кажутся сухими и мертвыми, их следует оплакивать, а не отбрасывать. Банкротство символов должно быть увидено в своем существе, как промежуточная станция на пути к отчаянию.
Недоверие к языку порождается в нас переживанием того, что "средство коммуникации и есть сообщение". Большая часть слов, которые мы слышим с экрана телевизора, лживы не в смысле прямого говорения неправды (что предполагало бы сохраняющееся еще уважение к слову), но в том смысле, что слова используются с целью "продажи" персоны говорящего, а не для того, чтобы сообщать некоторый смысл. Это наиболее тонкая форма подчеркивания не значения слова, а его "пиаровской" ценности. Слова не используются для своих подлинных, гуманистических целей, чтобы поделиться чем-либо самобытным или человеческим теплом. Средство коммуникации — это больше чем сообщение; пока оно работает, сообщения нет.
За выражением "нехватка кредита доверия", особенно часто употребляемым во время войны, но, впрочем, и в другие времена, стоит нечто гораздо более глубокое, нежели чье-то простое стремление обманывать. Мы слушаем новости и чувствуем желание разобраться, что на деле является правдой и почему нам об этом не говорят. В наши дни часто кажется, что средства массовой коммуникации прибегают к обману. В этих сомнениях проявляется более серьезный недуг нашей общественной жизни: речь начинает иметь все меньше и меньше отношения к тому, что обсуждается. Отрицается любая связь с базовой логикой. Тот факт, что язык коренится в общей структуре, полностью игнорируется.
Полезной будет следующая иллюстрация. Шесть дней спустя после вторжения в Лаос, когда произошедшее еще не получило в Америке огласки, секретарь национальной безопасности Лэрд вышел со встречи с Комитетом Вооруженных Сил и был окружен обычной группой репортеров:
Репортеры: Сэр, повсюду ходят слухи, что у нас есть план вторжения в Лаос. Это правда?
Секретарь Лэрд: Я только что завершил встречу с Комитетом Вооруженных Сил, и хочу сказать, что дискуссия по поводу проекта была цепной и согласованной.
Репортеры [протестуя]: Вопрос не об этом, сэр. "Известия" уже сообщили о вторжении.
Лэрд [улыбаясь]: Вы знаете, что "Известия" не пишут правды.
[Репортеры снова задают первый вопрос.]
Лэрд: Я буду делать все необходимое, чтобы защитить жизни наших парней на поле боя. Больше никаких комментариев. [Он уходит.]
Теперь никто не может сказать, что секретарь Лэрд в чем-либо солгал: очевидно, что все, что он говорил, соответствовало фактам. Однако отметим: его речь разрушает целостную структуру общения. Его ответы не^ соответствуют задаваемым вопросам. В крайней и устойчивой форме это является одной из разновидностей шизофрении, но в наши дни это называется просто политикой.