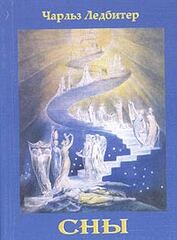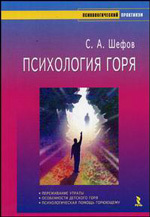Глава 11. ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ БУНТАРЯ
4. Ограничения бунтаря
Большинство людей бывают удивлены, когда узнают, что у бунтаря есть встроенные ограничения. В действительности, именно в этом состоит его главное отличие от революционера, которого в его стремлении к политическим изменениям сдерживают лишь внешние ограничения. Бунтарь же, имеющий дело с мотивами и установками людей, обладает внутренними ограничениями. Его сдерживают границы, присущие предлагаемому им порядку. Для того, чтобы прояснить, что я имею в виду при описании этих ограничений, я воспользуюсь абстрактными соображениями.
Первое ограничение — это универсальность видения мира. Идеальное представление бунтаря о жизни, которое прежде всего и дает начало его восстанию, относится не только к нему самому, но и к другим, а в число этих других должны входить и его враги. Продолжая метафору, которой я воспользовался ранее, можно сказать, что если раб убивает своего хозяина, у него нет иного выбора, кроме как занять его место и затем быть убитым самому; и мы будем иметь цепь бессмысленных кровопролитий, подобную череде убийств султанов в серале. Для бунтаря же возбуждение от приключений эго вторично, бунтаря занимает прежде всего собственное видение мира. И это видение мира налагает ограничения на его действия. От тайной сделки со Спартой Сократа удерживали не афиняне, приговорившие его к смерти, но требования его собственной, им самим выбранной этики. Иисус не мог обнажить меч, не предавая Своего собственного видения мира.
Бунтарь с презрением относится к личной мести как мотиву своих действий (впрочем, лелеять чувство отверженности и уязвленную гордость — вполне нормально, но не это является основой истинного восстания). У него нет права требовать отмщения, более того, у нет на это времени. Сущностной характеристикой бунтаря является его способность стать выше своей личной уязвленной гордости и идентифицироваться со своим народом и своим универсальным идеалом.
Другим ограничением является сострадание бунтаря. Как мы уже отмечали, говоря о Дэниэле Эльсберге, сострадание — один из основных факторов, делающих его бунтарем. Он отождествляет себя со страдающими людьми и испытывает страстное желание сделать что-нибудь, чтобы облегчить их страдания. Это вытекает из его чувствительности и эмпатического настроя на других людей, что определяет его видение мира. Конечно, иногда бунтарь может быть так поглощен универсальным применением своего идеала, что пренебрегает собственной семьей. Что же, как и все мы, он остается человеком и обладает как хорошими, так и плохими чертами. Способность к сочувствию заставляет его сострадать другим народам — даже если он и не всегда сострадает членам своей семьи — и позволяет ему сформулировать свое видение мира.
Ограничения определяются еще и тем фактом, что создание бунтаря сталкивается с сознанием других людей. Взгляд другого человека на реальность ограничивает и обостряет взгляд бунтаря, и в результате общения друг с другом они вырабатывают нечто, обладающее большей ценностью для каждого из них. Поэтому столь важен для бунтаря диалог. Диалог включает в себя все переплетение эмоций, темпераментов и различных целей, происходящее в любом реальном взаимодействии. Настоящему бунтарю известно, что заставить замолчать всех его противников — это то, чего он хотел бы в последнюю очередь, ибо их уничтожение лишит его (и всех, кто останется в живых), той уникальности, оригинальности и способности к прозрениям, которыми обладают эти враги, поскольку они — люди, и которой они могли бы поделиться с ним. Если мы желаем нашим врагам смерти, мы не можем уже говорить об общности всех людей. Теряя шанс вступить в диалог с нашими врагами, мы становимся беднее. Мы лишимся не только хороших идей наших врагов, но и барьеров, которые они нам ставят.
Бунтарь призван дать миру форму и структуру. Эта структура рождается из неукротимого порыва человеческого ума — ума, превращающего массу бессмысленных данных мира в порядок и форму. "Будучи рожденными из хаоса, — пишет польский романист Витольд Гомбрович, — почему мы никогда не можем войти в контакт с ним? Как только мы обращаем на него свой взгляд, как тут же на наших глазах он превращается в порядок, форму и структуру"112. Это относится не только к писателю, но также и к художнику, инженеру и ученому — к каждому из нас. Придание миру формы начинается с простого акта восприятия, которое организует все окружающее в осмысленный для нас гештальт. Это мы устанавливаем порядок. Он является результатом постоянной погони человеческого разума за смыслом — в мире, где безотносительно к нашему разуму смысла не существует. Конечно, природа обладает ритмом дня и ночи, ей присущи равновесие и гармония, лето и зима. Однако в словосочетании "лето и зима", уже реально сквозит качество человеческого разума: без налагаемой нами структуры времена года слепы и являются бессмысленным повторением одного и того же. Но как только на этот хаос надет взгляд человеческого разума, рождается порядок. Из встречи человеческого разума с хаосом природы возникает смысл, с помощью которого мы можем ориентироваться в мире.
112 Цит. по Nettl P. Power and the Intellectuals Power and Consciousness C.C.O'Brien, W.D.Vanech (Ed.). N.Y.: New York University Press, 1969. P. 32.
Бунтарь — улавливает этот смысл гораздо яснее, чем может сделать большинство людей. "С позиции бунтаря акт восстания представляется требованием ясности и единства", — пишет Камю. "Как это ни парадоксально, но самая первичная форма восстания выражает стремление к порядку"113. Те, кто находится у власти, могут не доверять видению бунтаря и использовать свою политическую власть, чтобы противостоять ему. Но в этом новом видении, в этом новом порядке содержатся ограничивающие факторы, исходящие от самого бунтаря. Когда поэт пишет стихи, например, сонета, то избранная форма ограничивает его — точно так же, как берега ограничивают реку. В противном случае творческая энергия бессмысленно растекается во все стороны и река теряется в песке.
113 Camus Л. The Rebel. N.Y.: Vintage, 1956. P. 23.
Существуют ограничения даже для такой личностной цели, как самоактуализация. Движение за развитие человеческого потенциала оказалось наследником доминирующей в Америке формы невинности, а именно убеждения в том, что по мере развития мы движемся ко все большему и большему моральному совершенству. Стремление быть всегда хорошим превращает человека не в этического исполина, а в самодовольного педанта114. Скорее, нам следует развиваться в направлении большей чувствительности и к хорошему, и к плохому. Нравственная жизнь является диалектическим взаимодействием добра и зла.
114 Такое моральное высокомерие было характерно на заре психоанализа: "Мы принадлежим к немногим счастливцам, избравшим правильный путь", — часто заявляли или думали новообращенные.
Пытаясь понять насилие, особенно необходимо отдавать себе отчет в добре и зле, имеющемся в каждом из нас. Вот как говорит об этом Камю.
Что бы мы ни делали, крайности всегда сохранят свое место в сердце человека, там, где обитает одиночество. Внутри себя все мы несем свои места изгнания, свои преступления и свою разрушительность. Но наша задача состоит не в том, чтобы спустить их с цепи и выпустить на свободу, она состоит в том, чтобы бороться с ними в себе и в других. Восстание, это извечное стремление не подчиняться <…> сегодня по-прежнему является основой борьбы. Давая начало форме и будучи источником реальной жизни, оно всегда позволяет нам не сгибаться в диких и бесформенных перипетиях истории115.
115 Camus A. The Rebel. N.Y.: Vintage, 1956. P. 301. 292
Тот факт, что добро и зло находятся в каждом из нас, лишает всех нас права на моральное высокомерие. Никто не вправе настаивать на своем моральном превосходстве. И это ощущение ограничения дает начало возможности прощения.