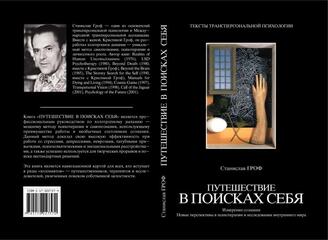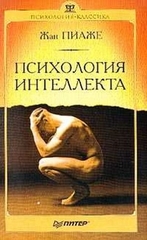Часть 6. ОБРАЗ ДЕМОКРАТИИ
Глава 19. Старый образ в новой форме: гильдейский социализм
1
Когда стычки между замкнутыми группами становилось невозможно терпеть, реформаторам прошлого приходилось выбирать одну из двух альтернатив. Они могли выбрать римский путь и навязать воюющим племенам римский мир333. Или избрать путь изоляции, автономии и экономической замкнутости. И практически всегда они выбирали не тот путь, по которому шли раньше. Если изначально государство придерживалось мертвящей монотонности империи, то теперь реформаторы более всего пеклись о простой свободе собственного сообщества. Но если они видели, что эта простая свобода растрачивалась в мелких склоках, то начинали мечтать о могущественном государстве, чьи законы действуют на обширной территории.
333 Имеется в виду «pax Romana» — принцип государственного устройства Римской империи, согласно которому подчиненные ей государства и племена не должны были воевать между собой, но только с врагами империи. — Прим. науч. ред.
Какой бы выбор ни делали реформаторы, они сталкивались, в сущности, с одной и той же проблемой. Если решения принимались децентрализованно, то вскоре тонули в хаосе местных мнений. Если решения были централизованными, то политика государства основывалась на мнении узкого круга лиц, принадлежавших к избранному социальному слою столицы. В любом случае, требовалась сила, чтобы защитить один местный порядок от другого, ограничить местные сообщества с помощью закона и порядка, оказать сопротивление центральному правительству или защитить все общество, централизованное или децентрализованное, от внешних варваров.
Современная демократия и промышленная система родились как противодействие монархии и режиму жесткого экономического управления. В промышленности оно приняло форму полного отступления от принципа управления, которое выразилось в так называемом индивидуализме laissez-faire. Каждое экономическое решение должно было приниматься человеком, который имел право на данную собственность. Поскольку практически все недвижимое и движимое имущество имело собственников, то для всякой собственности находился тот, кто ею управлял. Это был, таким образом, множественный суверенитет в полном смысле слова.
Экономическое управление велось в соответствии с экономической философией индивида, хотя предполагалось, что его будут контролировать неизменные законы политической экономии, которые в конце концов приведут ко всеобщей гармонии. Оно породило много прекрасного, но наряду с этим прекрасным — и много отвратительного. Так, оно породило трест (trust), который установил своего рода римский мир в мире промышленности и грабительский империализм — за его пределами. Люди обратились за помощью к законодательной власти. Они воззвали к представительной власти, основанной на образе местного фермера, с целью обуздать практически не поддающиеся контролю корпорации. Рабочий класс обратился к трудовым организациям. За этим последовал период усилившейся централизации, напоминающий своеобразную гонку вооружений. Тресты объединились, цеховые профсоюзы стали федеральными и слились в рабочее движение, политическая система усиливалась в Вашингтоне и слабела в отдельных штатах, по мере того как реформаторы старались укрепить свою власть перед лицом большого бизнеса.
В этот период практически все школы социалистической мысли, начиная с левых марксистов и кончая «новыми националистами», объединившимися вокруг Теодора Рузвельта, рассматривали централизацию как первую ступень эволюции, которая должна привести к поглощению всех полунезависимых монстров бизнеса политическим государством. Однако эволюционный процесс не пошел в этом направлении, если не считать нескольких месяцев в период войны. Этого оказалось достаточно, и начался откат от всепоглощающего государства в пользу нескольких форм плюрализма. Но на этот раз маятник качнулся не в сторону атомарного индивидуализма эконома Адама Смита и фермера Джефферсона, а в сторону молекулярного индивидуализма добровольно объединившихся групп (voluntary groups).
Один из интересных моментов, связанных со всеми этими колебаниями теории, заключается в том, что каждый раз дается обещание построить мир, в котором, для того чтобы выжить, никому не нужно будет следовать учению Макиавелли. Любой новый правопорядок непременно устанавливается насильственными методами, использует насилие для удержания господства и ниспровергается также с применением силы. Тем не менее, приверженцы большинства социальных теорий отвергают насилие, физическую силу или особое положение, патронат или привилегию как составляющие своего идеала. Индивидуалист говорит, что внутренний и внешний мир принесет просвещенный эгоизм. Социалист уверен, что побудительные причины агрессии должны со временем исчезнуть. Плюралист нового толка также надеется на это334. Насилие считается иррациональным практически во всех социальных теориях, за исключением теории Макиавелли. Соблазн проигнорировать насилие потому, что оно абсурдно, невыразимо и не поддается управлению, становится непреодолимым для всякого человека, который пытается рационализировать человеческую жизнь.
334 Cole G.D.H. Social Theory. London: Methuen, 1923. P. 142. (Липпман ссылается на более раннее издание этой книги. — Прим. пер.)