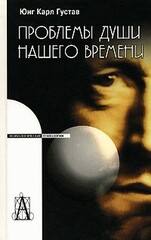Глава 6.. НАЧАЛО КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ
4. Рабство и свобода
Хотя чрезмерное угнетение и приводило иногда к стихийным мятежам, Древний Восток породил самое полное порабощение человека. Как можно думать, действие социального инстинкта было уравновешено в то время культурной традицией, глубоко внедрившей в подсознание человека сословную иерархию и навыки пассивного повиновения. Люди в самом деле верили в то время, что общественный порядок установлен богами: в это верили не только закрепощенные труженики, но и сами асоциальные паразиты, копошившиеся на верхних этажах общественного здания. Неподвижность самопонимания и понимания мира объяснялись, главным образом, медленностью и непрерывностью перехода от племенного образа жизни к сословному государству, при котором труженик не переставал чувствовать себя членом общины. Связь его с другими членами общины уходила корнями в племенное прошлое, и он не покидал родной деревни, где жили его предки. В древневосточном обществе не было теоретического мышления, способного исследовать и поставить под сомнение существующий общественный строй. Мышление людей неизбежно вращалось в фантастическом мире религиозных идей. Эту безвыходность мышления мы находим и на Западе, где древние философы не умели представить себе ничего, кроме циклического повторения известных им политических форм.
Такое общество никогда не возрождалось и не возродится. Даже в Средние века, во многом напоминавшие неподвижность Древнего Востока, были уже новые элементы культуры, делавшие возвращение к такому прошлому невозможным. История никогда не возвращается к пройденному, хотя люди часто пытаются это делать. Повторение означало бы забвение пройденного пути, то есть патологический регресс, выбрасывающий племя на обочину исторического пути. Антропологи думают, что так обстоит дело у некоторых выродившихся племен, но нашей современной культуре это еще не грозит.
Напомним еще раз, что наше исследование основывается на единственно возможной для историка точке зрения его собственной культуры и его собственного времени. Мы не пытаемся понять древнего человека «изнутри» его культуры, как это сделал бы «культурный релятивист», который попросту отказывается от части наличных средств своего мышления. Научное мышление нельзя упрощать, имитируя привычки массовой культуры.
Коренное отличие Древнего Запада от предшествовавшего ему Древнего Востока состоит в возникновении свободы, которой сопутствовало, однако, развитие рабства. Мы уже видели, каким образом из завоевания малонаселенных стран возникло свободное крестьянское землевладение, а затем свободное ремесло. Свободные крестьяне могли сохранить свою независимость лишь в ожесточенной борьбе с крупными собственниками, стремившимися присвоить их землю. Эти крупные собственники, большей частью выходцы из родовой аристократии, использовали в своих интересах привилегии своего положения. Отсюда возникла борьба «бедных» с «богатыми» за юридическое равноправие — сначала за равенство перед законом, а потом за равенство в управлении государством. Это стремление к равенству, замеченное Токвилем в истории Европы, вовсе не ограничивается этой частью света и борьбой буржуазии с феодальным строем: Токвиль мог бы столь же убедительно проследить его, например, в истории Афин. Речь идет об универсальном мотиве человеческого поведения. Но с нашей точки зрения этот мотив не первичен: стремление к равенству есть, как мы полагаем, лишь средство достижения свободы.
Как уже было сказано, в каждой культуре ощущение «несвободы» возникает при нарушении выработанного этой культурой равновесия между инстинктивными побуждениями человека и привычными условиями жизни. Если некоторое явление, препятствующее проявлению инстинктивных побуждений, начинает восприниматься в данной культуре как «социальная несправедливость», то человек этой культуры ощущает себя несвободным и начинает бороться за свободу. Иначе говоря: если человеку мешают делать то, что он хочет делать, причем эти помехи уже не могут быть «оправданы» его культурной традицией, то он стремится освободиться от этих помех. Тогда социальный инстинкт, лежащий в основе ценностей любой культуры, освобождается от благоговения перед привычным общественным строем и неизменно направляет человека против асоциальных паразитов.
Может случиться, что этот инстинкт «ошибается», что, например, ограничения свободы происходят от объективных причин, не зависящих от «паразитизма». Конечно, наш социальный инстинкт выработался в условиях небольшой первобытной группы, как и другие наши инстинкты. В современном сложном обществе такие ошибки особенно возможны: в таком обществе уже труднее «любить своего ближнего» — как выражается социальный инстинкт на языке западной культуры. Но дело не в том, хотим ли мы сохранить эту заповедь, а в том, возможна ли вообще культура, не принимающая во внимание человеческие инстинкты. И если нам укажут на культуры Древнего Востока, то можно спросить, какова цена такого «умиротворения» нашей биологической природы, и готовы ли мы уплатить эту цену? По-видимому, любое «умиротворение» социального инстинкта предполагает его локализацию на определенной популяции — например, на членах сельской общины, как это было на Древнем Востоке, или на «свободных гражданах», как это было в Греции и Риме. Более того, культурная традиция Древнего Запада жестко выделяла особый тип людей, «выключавший» социальный инстинкт. Это были рабы.
Дорийские завоеватели Греции (12 — 11 века до н.э.) положили начало массовому применению рабского труда, заставив побежденные племена работать вместо себя. Особенно известна история спартанцев, вовсе отвыкших от труда и живших на казарменном положении в страхе перед илотами, более многочисленными и всегда готовыми к восстанию. Этот паразитический образ жизни сделал Спарту самым отсталым из греческих государств: спартанцы не оставили после себя почти никаких памятников культуры, так что мы знаем их только по рассказам более цивилизованных греков. Нехитрую психологию, которая довела их государство до полного вырождения, описал критский поэт Габрий, тоже дорянин:
«Вот в чем богатство мое: меч и копье,
К ним прекрасный мой щит — телу защита;
Им я пашу, им я сею,
Им выжимаю вино из винограда,
Им я толпою рабов владыкой зовусь».
Илоты были мессенцы, такие же греки, как и спартанцы, обращеннык в рабство после военного поражения. Потом рабов стали покупать, как об этом рассказывается в уцелевшем отрывке историка Феопомпа:
«Хиосцы первыми из эллинов (после фессалийцев и лакедемонян) начали пользоваться рабами. Однако способ приобретения рабов был у них не тот, что у тех… Ибо лакедемоняне и фессалийцы обратили в рабство эллинов, раньше населявших страну, которой они теперь обладают, — лакедемоняне ахейцев, фессалийцы перребов и магнетов, — и назвали их: первые — илотами, вторые — пенестами. Хиосцы же приобретали себе рабов за плату…»
По-видимому, покупка рабов за деньги вначале вызывала некоторое неодобрение; во всяком случае, сохранивший этот отрывок Афиней, живший на 500 лет позже автора, комментирует его следующим образом: «Я думаю, что из-за этого на хиосцев разгневалось божество, ибо позднее они вели между собой войны из-за рабов». Но уже Гесиод, живший в конце 8-го века до н.э., описывает в своей поэме «Дела и дни», как ему помогают в труде не только батраки, но и «юный невольник». Брат его, по имени Перс, был не столь благоразумен и впал в нищету. За это его могли продать в рабство, как это делалось в то время во всех греческих государствах. Впрочем, греки в конце концов возмутились против обращения в рабство своих сограждан.
В отличие от цивилизаций Древнего Востока, греческая цивилизация обладала уже теоретическим мышлением, в значительной степени свободным от религиозных и племенных предубеждений. У них были, в нашем смысле слова, настоящие историки и социологи, хотя до нас дошла лишь небольшая, и может быть не самая важная часть их трудов. Поразительно, однако, как плохо они понимали значение рабства, и как легко принимали его за неизбежную сторону человеческой жизни. Правда, Фукидид считал своей задачей лишь описание исторических событий с объяснением их мотивов, но не входил в рассмотрение первичных основ общественной жизни; возможно, он принимал человеческую природу такой, как она есть, и не заботился об ее улучшении. Платон и Аристотель, сочинения которых дошли до нас почти полностью, были уже, по-видимому, мыслители греческого декаданса. Платон был утопический консерватор и поклонник спартанских порядков; он хотел бы только, чтобы идеальным государством-казармой руководили «философы», которым, впрочем, запрещалось бы думать о чем-нибудь новом. Аристотель, с его более трезвым мышлением, имел научные интересы, но положение главы «афинской школы» вынуждало его писать на всевозможные темы. В человеческих делах он не был самостоятельным мыслителем и всегда держался общепринятых мнений. Вот образец его рассуждений на общественные темы:
«В целях взаимного самосохранения, необходимо объединяться попарно существу, в силу своей природы властвующему, и существу, в силу своей природы подвластному. Первое, благодаря своим интеллектуальным свойствам, способно к предвидению, и потому оно, уже по природе своей, существо властвующее и господствующее; второе, так как оно способно лишь своими физическими силами исполнять полученные указания, по природе своей существо подвластное и рабствующее. В этом отношении и господином, и рабом, в их взаимном объединении, руководит общность интересов».
В другом месте Аристотель, очень странным образом для изобретателя силлогизмов, пытается вывести неизбежность рабства из первичного строения семьи: элементы семьи, по его мнению, это «родители, дети и рабы». Представляю себе, как смеялись бы над таким глубокомыслием в доме Перикла, где делали афинскую политику задолго до того, как Аристотель ее описал. Впрочем, он и сам знает, что есть другие мнения: в той же «Политике» он сообщает:
«Есть люди, которые смотрят на власть хозяина, как на противоестественную. Это закон, говорят они, а не природа, разделил людей на свободных и на рабов. Таким образом, рабство несправедливо, так как оно насильственно».
До нас не дошли сочинения этих более глубоких философов, но мы знаем суждения великих греческих писателей. Уже Эсхил говорит о Кассандре («Агамемнон»):
В душе ее дыханье видно божества;
Оно ее объемлет, хоть она раба.
Софокл, по цитате Стобея, говорит:
Пусть тело рабское, но ум свободного.
А Еврипид, по-видимому, видит в рабе просто человека:
Раба позорное название носить –
Такая участь многих; духом же они
Свободней тех, кого рабами не зовут.
Несомненно, официальная доктрина рабовладельческого государства, высказанная Аристотелем, никоим образом не выражает всей гаммы человеческих отношений в «классической древности». Отношение к рабам было амбивалентным: в обращении с рабом-чужеземцем дозволялись крайние проявления агрессивности, часто переходившие в садизм, но это не могло остановить постепенное распространение социального инстинкта на все человеческие существа. В Афинах было примерно столько же рабов, сколько свободных, так что средняя семья владела двумя или тремя рабами; в четвертом веке герой комедии Менандра мог еще сказать: «Побеждать на войне присуще свободным людям; возделывать землю — дело рабов». Но бедные люди не имели рабов и должны были работать сами. В Афинах закон запрещал убивать раба, и свидетельства того же Менандра и Герода говорят о том, что греки признавали в своих рабах все человеческие свойства. Столкновение инстинкта и традиции вызывало ощущение нечистой совести. Но законы по-прежнему делали вид, будто нет никаких проблем. В Риме был древний закон, наказывавший рабов за убийство их господина: все рабы, находившиеся во время убийства в том же доме, подлежали казни. Сенат, напуганный восстаниями рабов, возобновил действие этого закона. Когда после убийства Падания повели на казнь четыреста его рабов, это вызвало сопротивление народа: понадобилось применить военную силу.
Сами рабы, в отличие от крестьян Древнего Востока, не признавали за господами никакого права на свой труд. Спартанские илоты восставали при любой возможности, и нередко ставили государство своих господ на край гибели; в конечном счете они добились независимости и пережили своих выродившихся хозяев. Римляне сгоняли рабов из всех покоренных стран, но те находили общий язык и восставали. Сицилия, превращенная римлянами в страну рабского труда, была охвачена восстанием еще в начале второго века до н.э., и все способы подавления не мешали разноплеменным рабам этого острова восставать снова и снова. Восстание Спартака, начавшееся в 74 году до н.э. в школе гладиаторов, превратилось в подлинную войну рабов против Рима, охватившую всю Италию. Страх перед рабами во многом определил грубость и жестокость римских обычаев, напоминавших скорее Спарту, чем Афины.
Восстания рабов были безнадежны, потому что они были бесцельны. Обычно рабы хотели вернуться к себе на родину, но их родные страны были уже, большей частью, под властью Рима. Они хотели сокрушить римское государство, но это было им не под силу без поддержки извне. В конечном счете германские племена уничтожили Римскую империю, но тогда уже и сами римляне не были свободны. Наконец, рабы хотели отомстить своим хозяевам и хотя бы ненадолго воспользоваться их богатством; это им иногда удавалось.
Более осмысленной была борьба свободных бедных против богатых, у которых им удалось вырвать некоторые привилегии. Но эта классовая борьба была, как правило, отделена от борьбы рабов со своими господами. Свободные бедняки не только не защищали интересы рабов, но обычно отказывали в гражданских правах свободным людям другого происхождения. Только один раз — в Афинах — и только на несколько десятилетий им удалось добиться гражданского равноправия. Богатства, впрочем, остались в руках богатых.