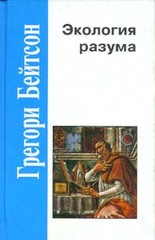ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ЗВЕРИНАЯ ПОХОТЬ
I. ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ
II. КАПРИЗЫ И КАТАСТРОФЫ
III. СТРАСТНАЯ ПОКОРНОСТЬ ИЛИ ПОКОРНАЯ СТРАСТЬ
БУРЖУАЗНЫЙ ВЕК
На смену романтизму прошлых эпох пришла жесткая реалистическая формула «Товар-Деньги-Товар». заполнившая холст жизненной картины мужчины промышленным трудом, предпринимательством, биржевой игрой, ну и, конечно же, вечные краски войны на этом холсте отнюдь не поблекли.
Женский холст оставался, в принципе, неизменным. В его колорите появились не очень характерные для минувших времен оттенки массового наемного труда, прямо вытекающей из него деловой проституции и личной предпринимательской деятельности. Именно тогда, пожалуй, и сформировался со всей определенностью характер женщины, ныне называемой «Бизнес-Леди», хоть / и не получил тогда нынешнего широкого распространения.
-------------------------------------------------------
ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
«Мадам Дюфло была та самая модистка, у которой я состоял некоторое время приказчиком, когда бежал в Париж, чтобы избежать преследований Аррасской полиции.
В качестве младшего приказчика мне приходилось постоянно переходить из магазина в рабочую, где сидели за шитьем разных женских нарядов до двадцати молоденьких девушек, одна лучше другой. Очутившись среди такого роскошного букета юных красавиц, я вообразил себя в серале и, бросая страстные взоры то на блондинку, то на брюнетку, готовился к решительным действиям.
Но вдруг на четвертый день моей службы мадам Дюфло, которая, вероятно, заметила наши перемигиванья, позвала меня в свой кабинет. «Мсье Эжен, — сказала она строгим голосом, — я очень недовольна вами, не успели вы пожить у меня несколько дней, как уже питаете преступные замыслы в отношении моих барышень. Предупреждаю вас, что мне это крайне нежелательно…»
Сконфуженный, я ответил ей несколькими уклончивыми извинениями. «Полноте, не оправдывайтесь, — заметила она, — я понимаю, что в ваши годы вы никак не можете обойтись без сердечной склонности, но эти барышни не подходят вам. Они слишком молоды — это первое, и потом у них нет никаких средств… Для молодого человека требуется кто- нибудь постарше, с известными средствами, чтобы удовлетворить его потребности».
Во время этого наставления мадам Дюфло, небрежно развалившись на кушетке, закатывала глаза самым отчаянным образом. К счастью, появилась горничная и объявила, что ее спрашивают в магазине.
Тем и закончился этот разговор, доказавший мне необходимость отныне быть осторожнее. Не отказавшись от своих преступных планов, я делал вид, что не обращаю ни малейшего внимания на миленьких модисточек. и мне удалось провести зоркую наблюдательность строгой хозяйки. Она наблюдала за каждым моим словом, жестом и взглядом, но заметила только одно — быстроту моих успехов. Я был в учении не больше месяца, а уже умел с ловкостью опытного приказчика продать шаль, франтовское платье или шляпку. Мадам Дюфло была в восторге, она даже объявила мне, что если я буду продолжать следовать ее советам, то она надеется сделать из меня настоящего делового человека.
Некоторое время спустя мадам Дюфло объявила мне, что она намерена отправиться на ярмарку в Версаль и что я должен сопровождать ее. На следующий день мы отправились в путь. Прибыв на место, мы оставили в лавке слугу сторожить наши товары, а сами устроились на постоялом дворе. Хозяйка потребовала две комнаты, но вследствие большого стечения иностранцев на ярмарку нам могли отвести только одну комнату; нечего делать, пришлось покориться своей участи. Вечером мадам Дюфло велела принести большую ширму и разгородила комнату надвое, так что у каждого из нас был свой уголок. Перед сном хозяйка читала мне наставления в продолжение целого часа. Наконец пришло время ложиться спать; я пожелал ей покойной ночи и через две минуты был уже в постели.
Вскоре из-за ширмы послышались глубокие вздохи. Я объяснил их усталостью моей хозяйки: ведь шутка ли, целый день приходилось устраиваться и хлопотать! Я потушил свечу и уснул сном праведника. Вдруг спросонья мне послышалось, что кто-то тихо произносит мое имя: «Эжен»… Это мадам Дюфло, это ее голос. Я не отвечаю. «Эжен! — снова взывает она, — хорошо ли вы заперли дверь?»
— Да, сударыня.
— Мне кажется, вы ошибаетесь, посмотрите еще раз, прошу вас. Никогда не лишнее принять меры предосторожности.
Я повиновался и, уверившись, что все в порядке, снова лег в постель. Едва я успел повернуться на левый бок, как моя барыня снова начинает ныть и жаловаться. «Какая отвратительная постель! Я вся изъедена клопами. нет никакой возможности сомкнуть глаза. А вы, Эжен, не страдаете от этих невыносимых животных?»
Я притворяюсь спящим. Она продолжает: «Эжен, да отвечайте же, есть у вас клопы?»
— Право, сударыня, до сих пор не чувствовал.
— А меня так и грызут эти чудовища… если это будет продолжаться, я не сомкну глаз до утра…
Я молчал, но мадам Дюфло не унималась: «Эжен, ради Создателя, принесите свечу! Должна же я прогнать этих отвратительных чудовищ! Поскорей, друг мой, я как в огне горю!»
Я встал, зажег свечу и поставил ее на ночном столике около постели моей барыни. Я был, само собой разумеется, в полном, дезабилье и потому поспешил удалиться, отчасти, чтобы пощадить целомудрие мадам Дюфло, отчасти, чтобы самому не поддаться соблазну обнаженных прелестей моей хозяйки. Но едва успел я скрыться за ширмой, как мадам Дюфло закричала благим матом:
— Боже мой, какой ужас, — это просто чудовище!.. Эжен, подите-ка сюда, прошу вас!
Мне ничего не оставалось, как современному Тесею, и я подошел к постели.
— Где он, этот Минотавр? — сказал я. — Сейчас я лишу его жизни!
— Умоляю вас, мсье Эжен, не шутите в такую минуту… Вот, вот он, ведите — под подушкой?!
Я тщетно пытался увидеть хотя бы тень ужасного животного.
Мадам Дюфло в страхе припала к моей груди и, должен признаться, мы до утра не разомкнули этих объятий.
С этого времени мне было поручено каждую ночь защищать барыню от чудовищ.
Зато дневная работа стала более легкой. Меня окружали заботой, маленькими подарками и лакомствами, меня одевали, обували, кормили и поили за счет казны принцессы, щедрыми милостями которой я пользовался».
ЭЖЕН-ФРАНСУА ВИДОК. Записки
-----------------------------------------------
Женщина — прежде всего женщина, а потом уже хозяйка, директор, сотрудник и т. д.
КСТАТИ:
«Поблагодарим мудрую природу за то, что нужное она сделала легким, а тяжелое — ненужным».
Нравы женщин-придворных в сравнении с минувшей эпохой не изменились — те же бесконечные интриги и та же откровенная проституция.
На европейских престолах ярких женских личностей в этом веке уже не заметно, кроме, разумеется, английской королевы Виктории, насаждавшей всеобщее благочестие и суровую неподвижность порядочных женщин в постели во время исполнения супружеских обязанностей.
XIX век характерен таким явлением, как бунтом благочестивой жены против серости бытия и скандальной погоней за призраком любви.
В предыдущие эпохи было по-иному: сексуально озабоченная жена изыскивала возможности получать необходимые ей удовольствия на стороне, оставаясь при этом женой и хозяйкой дома, хорошо понимая, что нельзя совместить несовместимое или объять необъятное, что у брака и пламенной страсти несколько разные свойства, которые вовсе не обязаны совпадать.
В XIX же веке появилась совсем иная тенденция. Со свойственной женщине непоследовательностью, она, выйдя замуж по расчету, с целью обретения стабильного и безбедного существования, с целью надежной и законной реализации своего материнского инстинкта, — через какое-то время вдруг осознает себя несчастной и обделенной любовью, а затем поднимает восстание против сложившегося порядка вещей.
Подобный типичный для этой эпохи образ отразили в своих произведениях два таких великих художника, как Лев Толстой и Гюстав Флобер, причем нужно заметить, что их героини заканчивают жизнь самоубийством.
Собственно, другого исхода и не могло быть: они попытались, вопреки реалиям и законам бытия, совместить мир действительный и мир иллюзорный, желаемый, а такие эксперименты всегда кончались трагически.
-------------------------------------------------------
ИЛЛЮСТРАЦИИ:
«То, что почти целый год для Вронского составляло исключительно одно желание его жизни, заменившее ему все прежние желания, то, что для Анны было невозможною, ужасною и тем более обворожительною мечтою счастия, — это желание было удовлетворено. Бледный, с дрожащею нижнею челюстью, он стоял над нею и умолял успокоиться, сам не зная, в чем и чем.
— Анна! Анна! — говорил он дрожащим голосом. — Анна, ради Бога!..
Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову, и она вся сгибалась и падала с дивана, на котором сидела, на пол, к его ногам; она упала бы на ковер, если б он не держал ее.
— Боже мой! Прости меня! — всхлипывая, говорила она, прижимая к своей груди его руки.
Она чувствовала себя столь преступною и виноватою, что ей оставалось только унижаться и просить прощения; а в жизни теперь, кроме его, у ней никого не было, так что она к нему обращала свою мольбу о прощении. Она, глядя на него, физически ощущала свое унижение и ничего больше не могла говорить. Он же чувствовал то, что должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни. Это тело, лишенное им жизни, была их любовь, первый период их любви. Было что-то ужасное и отвратительное в воспоминаниях о том, за что было заплачено этою страшною ценою стыда. Стыд перед духовною наготою своей давил его и сообщался ему. Но, несмотря на весь ужас убийцы пред телом убитого, надо резать на куски, прятать это тело, надо пользоваться тем, что убийца приобрел убийством.
И с озлоблением, как будто со страстью, бросается убийца на это тело, и тащит, и режет его: так и он покрывал поцелуями ее лицо и плечи. Она держала его руку и не шевелилась. Да, эти поцелуи — то, что куплено этим стыдом. Да, и эта одна рука, которая будет всегда моею, — рука моего сообщника. Она подняла эту руку и поцеловала ее. Он опустился на колени и хотел видеть ее лицо, но она прятала его и ничего не говорила. Наконец, как бы сделав усилие над собой, она поднялась и оттолкнула его. Лицо ее было все так же красиво, но тем более было оно жалко.
— Все копчено, — сказала она. — У меня ничего нет, кроме тебя. Помни это.
— Я не могу не помнить того, что есть моя жизнь. За минуту этого счастья…
— Какое счастье! — с отвращением и ужасом сказала она, и ужас невольно сообщился ему. — Ради Бога, ни слова, ни слова больше.
Она быстро встала и отстранилась от него.
— Ни слова больше, — повторила она, и со странным для него выражением холодного отчаяния на лице она рассталась с ним. Она чувствовала, что в эту минуту не могла выразить словами того чувства стыда, радости и ужаса пред этим вступлением в новую жизнь и не хотела говорить об этом, опошливать это чувство неточными словами. Но и после, ни на другой, ни на третий день, она не только не нашла слов, которыми бы она могла выразить всю сложность этих чувств, но не находила и мыслей, которыми бы она сама с собой могла обдумать все, что было в ее душе.
Она говорила себе: «Нет, теперь я не могу об этом думать; после, когда я буду спокойнее». Но это спокойствие для мыслей никогда не наступало; каждый раз, как являлась ей мысль о том, что она сделала, и что с ней будет, и что она должна сделать, на нее находил ужас, и она отгоняла от себя эти мысли.
— После, после, — говорила она, — когда я буду спокойнее.
Зато во сне, когда она не имела власти над своими мыслями, ее положение представлялось ей во всей безобразной наготе своей. Одно сновидение почти каждую ночь посещало ее. Ей снилось, что оба вместе были ее мужья, что оба расточали ей свои ласки. Алексей Александрович плакал, целуя ее руки, и говорил: как хорошо теперь! И Алексей Вронский был тут же, и он был также ее муж. И она, удивляясь тому, что прежде ей казалось это невозможным, объясняла им, смеясь, что это гораздо проще и что они оба теперь довольны и счастливы. Но это сновидение, как кошмар, давило ее, и она просыпалась с ужасом».
ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Анна Каренина
***
«Ей хотелось жить в старинном замке и проводить время по примеру дам, носивших длинные корсажи и, облокотясь на каменный подоконник, опершись головой на руку, смотревших с высоты стрельчатых башен, как на вороном коне мчится к ним по полю рыцарь в шляпе с белым плюмажем…»
Это было характерно дм юности героини. Спустя некоторое время она знакомится со своим будущим мужем…
«Заговорила ли в ней жажда новизны, или, быть может, сказалось нервное возбуждение, охватывающее ее в присутствии Шарля, но только Эмма вдруг поверила, что то дивное чувство, которое она до сих пор представляла себе в виде райской птицы, парящей в сиянии несказанно прекрасного неба, слетело наконец к ней. И вот теперь она никак не могла убедить себя, что эта тихая заводь и есть то счастье, о котором она мечтала…»
«А между тем она была полна вожделений, яростных желаний и ненависти. Под ее платьем с прямыми складками учащенно билось наболевшее сердце, но ее стыдливые уста не выдавали мук. Эмма была влюблена в Леона, и она искала уединения, чтобы, рисуя себе его образ, насладиться им без помех. С его появлением кончалось блаженство созерцания. Заслышав его шаги, Эмма вздрагивала, при встрече с ним ее волнение утихало и оставалось лишь состояние полнейшей ошеломленности, которую постепенно вытесняла грусть…
Она была бы рада, если бы Леон догадался сам. Ей приходили в голову различные стечения обстоятельств, катастрофы, которые могли бы облегчить им сближение. Удерживали ее, конечно, душевная вялость, страх, а кроме того, стыд. Ей казалось, что она его слишком резко оттолкнула, что теперь уже поздно, что все кончено. Но потом горделивая радость от сознания: «Я — честная женщина», радость — придав своему лицу выражение покорности, посмотреть на себя в зеркало, отчасти вознаграждали ее за принесенную, как ей казалось, жертву.
Веление плоти, жажда денег, томление страсти — все слилось у нее в одно мучительное чувство. Она уже не могла не думать о нем — мысль ее беспрестанно к нему возвращалась, она бередила свою рану, всюду находила для этого повод. Ее раздражали неаккуратно поданное блюдо, неплотно запертая дверь, она страдала, оттого что у нее нет бархата, оттого что она несчастна, от несбыточности своих желаний, оттого что дома у нее тесно.
Шарль, видимо, не догадывался о ее душевной пытке, и это приводило ее в бешенство. Он был убежден, что создал для нее счастливую жизнь, а ей эта уверенность казалась обидной нелепостью, она расценивала ее как проявление черствости. Ради кого она была так благоразумна? Не он ли был ей вечной помехой на пути к счастью, ее злой долей, острым шпеньком на пряжке туго стягивавшего ее ремня?
В конце концов она на него одного перенесла ту ненависть, которая накапливалась у нее в душе от многообразных огорчений, и малейшая попытка смягчить это чувство только обостряла его, оттого, что бесплодное усилие становилось лишней причиной для отчаяния и еще больше способствовало отчужденности. Собственная кротость возмущала ее. Серость бытия вызывала мечты о роскоши, ласки супруга — жажду измены…»
А через некоторое время после отъезда в Париж предмета ее страсти, Леона, Эмма, пережив период тяжкой депрессии, влюбляется в красавица — помещика…
«Что с вами было? — заговорил он. — Из-за чего? Ума не приложу. Вы, очевидно, не так меня поняли? В моей душе вы как мадонна на пьедестале, вы занимаете в ней высокое, прочное и ничем не загрязненное место! Я не могу без вас жить! Не могу жить без ваших глаз, без вашего голоса, без ваших мыслей. Будьте моим другом, моей сестрой, моим ангелом!
Он протянул руку и обхватил ее стан. Она сделала слабую попытку высвободиться. Но он не отпускал ее и продолжал идти.
Вдруг они услышали, как лошади щиплют листья.
— Подождите! — сказал Рододьф. — Побудем здесь еще! Останьтесь!
И увлекая ее за собой, пошел берегом маленького, покрытого зеленою
ряской пруда. Увядшие кувшинки, росшие среди камышей, были неподвижны. Лягушки, заслышав шаги люден, ступавших по траве, прыгали в воду.
— Что я, безумная, делаю? Что я делаю? — твердила Эмма, — Я не должна вас слушать.
— Почему?.. Эмма! Эмма!
— О Родольф! — медленно проговорила она и склонилась на его плечо.
Сукно ее платья зацепилось за бархат его фрака. Она запрокинула голову, от глубокого вздоха напряглась ее белая шея, по всему ее телу пробежала дрожь, и, пряча лицо, вся в слезах, она безвольно отдалась Родольфу».
Но вскоре она утомила эпикурейца Родольфа сентиментальной пылкостью своей страсти и настойчивым желанием бежать с ним на край света. Он счел за лучшее сбежать не с нею, а от нее… И вот, после длительной и тяжелой болезни, Эмма едет с мужем в Руан, где в ложе театра встречает Леона, того Леона, который был героем ее прежнего, платонического, романа. А на следующий день Эмма, воспользовавшись отсутствием мужа, встречается с Леоном и отдается ему в наемном экипаже…
Роман продолжается теперь по четвергам в руанской гостинице.
«Эмма упивалась любовью Леона, любовью сдержанной, глубокой, и, уже заранее боясь потерять его, прибегала ко всем ухищрениям, на какие только способна женская нежность».
«Чего только не вытворяла Эмма в следующий четверг, придя вместе с Леоном в их номер! Смеялась, плакала, пела, танцевала, заказывала щербет, пробовала курить, и Леон нашел, что она хоть и взбалмошна, но зато обворожительна, несравненна…
… Она стала раздражительна, плотоядна, сластолюбива…»
Затем наступает крах. Растратив все деньги мужа и доведя семью до полного разорения, Эмма травится крысомором.
Вскоре умирает и ее муж.
«После распродажи имущества осталось двенадцать франков семьдесят пять сантимов, которых мадемуазель Бовари хватило на то, чтобы доехать до бабушки. Старуха умерла в том же году, дедушку Руо разбил паралич, — Берту взяла к себе тетка. Она очень нуждается, так что девочке пришлось поступить на прядильную фабрику».
ГЮСТАВ ФЛОБЕР. Госпожа Бовари
----------------------------------------

Обе они, — и Анна Каренина, и Эмма Бовари, — умирают добровольной и мучительной смертью: первая — под колесами поезда, вторая — от мышьяка, после нечеловеческих страданий.
Обе оставили сиротами своих детей.
Их трагедия даже не в том, что они попытались совместить несовместимое — мать и проститутку, а в том, что они попытались узаконить, легализовать это дикое совмещение, которое, как и совмещение огня с порохом, ни к чему иному, кроме взрыва, привести не способно.
Ощущая с юности в себе подобные наклонности, почему бы не стать кокоткой и не получать от жизни всех требуемых впечатлений? Так нет же, они, чтобы не выглядеть «хуже других», стали матерями семейств, продолжая раздувать в себе искру похоти, которую они стыдились назвать своим именем и возводили в ранг любви…
Не проще ли было бы трахнуться с каким-нибудь дюжим кучером в каретном сарае, потом отряхнуться и забыть?
Как бесконечно мудрее и честнее нас были древние эллины, которые любили свое влечение, но не его объект, который мог быть и случайным, и преходящим, и не достойным долгого и пристального внимания, и т.д….
Если женщине предлагают выбрать что-то из чего-то, она, как правило, требует и то, и другое.
В этом — детское коварство ее натуры.
Она требует равноправия — и одновременно форы как более слабому существу. Но это невозможно. Или — или…
Она одновременно стремится и к оригинальности и к похожести.
КСТАТИ:
«БЛОНДИНКИ — более чувственны, чем брюнетки.
БРЮНЕТКИ — более чувственны, чем блондинки».
Но был в XIX веке и такой женский тип, в котором природная чувственность сублимировалась в качества, соответствующие известному определению Аристотеля: «Женщина — это увечный, от природы изуродованный мужчина».
Речь идет о революционерках.
Это — гибрид двух, казалось бы, непохожих типов: врожденной преступницы и «синего чулка».
Это и Вера Засулич, стрелявшая в петербургского градоначальника Ф.Ф.Трепова, и Софья Перовская, и Вера Фигнер, и Геся Гельфман, участвовавшие в кровавой охоте на императора Александра II, а в ходе этой охоты, закончившейся, после пяти покушений гибелью Александра, подорвали на минах, изувечили не один десяток ни в чем неповинных людей…
Это и десятки других выродков женского пола, поставивших целью своей жизни ниспровержение, уничтожение, с одной стороны, бы;т экзальтированными фанатичками с явной склонностью к некрофилии, с другой — людьми далеко не бескорыстными в своих устремлениях, существовавшими за счет партийных касс с весьма либеральной бухгалтерией, как это делали большевики в начале следующего века,
КСТАТИ:
«Не надо думать, что человек, поступающий в соответствии со своими убеждениями, уже порядочный человек. Надо проверить, а порядочны ли его убеждения».
Каковы бы ни были убеждения женщин этого типа, судя по способам их реализации их иначе, чем преступницами назвать невозможно.
Но наиболее яркое и разнообразное воплощение этот тип получил в последнем столетии.