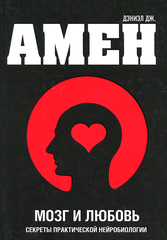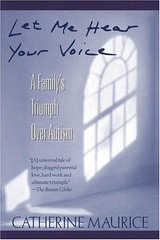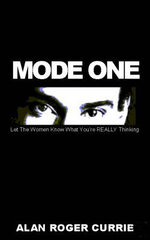ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЗВЕРИНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ
III. ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕНАВИСТИ
ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
«Когда в феврале 1933 года сестры Папин, (кухарка и служанка) убили мадам и мадемуазель Лансслин в респектабельном провинциальном Ле-Мансе, что в полудюжине часов езды от Парижа, то это было не убийство, а революция. Это была малая революция, поскольку происходило в холле дома и участвовало в ней лишь четыре женщины — по двое с каждой стороны. Повстанцы одержали ужасную победу. Жалкие силы Ланселинов были в буквальном смысле разбросаны па расстоянии в десять окровавленных футов — от лестничной площадки вниз по лестнице. Физические подробности были лишь скучными деталями яростной борьбы в голове Кристины Папин, которая обернулась зловещей поэзией одного из самых безжалостных убийств в истории Франции.
В тот самый день, когда ему предстояло оказаться вдовцом, мсье Ланселин, адвокат на пенсии, провел день в своем респектабельном провинциальном клубе. В 6.45 он сообщил брату своей жены, мсье Ренарду, практикующему адвокату, к которому они были приглашены на семейный обед к 7 часам, что, подойдя к своему дому в Ру Ла Бруер, чтобы забрать жену и дочь Женевьеву, он нашел двери закрытыми, а окна — темными, за исключением окна служанок в мансарде, где, пока он не начал стучать, горел слабый свет. Когда он стал уходить, свет вновь загорелся.
Адвокаты, теперь уже вдвоем, направились к жилищу Ланселинов и увидели, как погас свет в мансарде, и зажегся украдкой, когда мужчины стали удаляться. Обеспокоенные (по крайней мере поскольку пропадал хороший обед) эти джентльмены пригласили полицейских с бригадиром, которые, взломав окно, пригласили Ланселина войти в свое жилище, где оказалось, что электролампы не работают. Двое полицейских и брат жены с фонариком стали подниматься наверх. Приблизившись ко второму этажу, это трио из гуманных соображений посоветовало мужу не следовать за ними…
На третьей от лестничной площадки ступеньке уставившись в потолок, лежал одинокий глаз. На самой площадке в неестественных позах лежали сами леди Ланселин. Их головы напоминали пудинги с кровью. Под скромными провинциальными платьями их ноги были исполосованы ножом так, как французский булочник полосует свои длинные булки. Ногти были оторваны, а один из зубов Женевьевы вонзился ей в кожу головы. Второе глазное яблоко матери лежало в углу холла, близоруко глядя в никуда. Кровь пропитала ковер настолько, что он превратился в упругий красный мох.
Самого молодого, третьего полицейского, его имя было мистер Трут (по-английски — правда — прим. пер.), послали осторожно подобраться к мансарде. Через щель под дверью пробивался мерцающий свет. Когда он взломал дверь, то оказалось, что свет вдет от свечи, установленной на тарелке, чтобы капли не падали на пол — Папин были умелыми служанками. Девушки лежали на кровати, одетые в синие кимоно. Свои платья, запачканные кровью, они сняли. Вымыли руки и лица. Как обнаружила полиция, они вымыли использованные кухонный нож, молоток и оловянный кувшин и аккуратно сложили их на прежнее место, хотя кувшин был уже слишком побит. Старшая из них, Кристина (младшая, Ли, никогда не отвечала на вопросы, кроме как на суде) не признали себя виновными. Они просто заявили: «Да, мы это сделали». Трут взял то, что осталось от свечи и повел девушек через трупы, вниз по лестнице — и в полицейский участок. Кристина говорила, что причиной всему был электрический утюг, в котором произошло короткое замыкание, отчего исчезло электричество в доме. Трут не обращал внимания на разговоры. Они были по-прежнему в своих синих кимоно, с растрепанными волосами и выглядели довольно дико, особенно для февраля, хотя их знали как самых аккуратных девушек в Ле-Мансе.
Из-за типографской ошибки французская пресса назвала девушек не Папин, что ничего не означает, а Лапин, что по-французски значит кролик. Это не было оскорблением.
Ожидая суда в тюрьме, Кристине, старшей, которой было 28 лет, являлись исключительно святые видения, но вела она себя далеко не как святая. Двадцатидвухлетняя Ли была так похожа на Кристину, что выглядела как ее сестра-близнец, родившаяся с большой задержкой. К ней ничего не являлось, поскольку девушки содержались раздельно, а у Ли не было никакого воображения.
Процесс состоялся через шесть месяцев и проходил в местном здании суда. Там были охранники со штыками, леди с лорнетами и эмиссары парижской прессы. В качестве комментаторов «Пари-Суар» выступили двое романистов, братья Таро, Жан и Жером, которые с самого начала своей журналистской деятельности писали о себе «я» и почти что заслужили Гонкуровскую премию в таком союзе. Были здесь журналисты из «Детектива», «Нуведь Ревю Франсуаз» и «Атлантик Мансли».
Диаметрально противоположные, позиции обвинения и защиты были ясны. Или: а) сестры были нормальными девушками, убившими без причины (очевидно, беспричинное убийство было в Ле-Мансе признаком нормальности), или: б) сестры — Кролики были безумными, как мартовские зайцы, так что в причине не нуждались. Хотя у них была и своя версия, если бы присяжные хотели ее выслушать: все дело в ненадежном электроутюге — обычном поводе для революции… Утюг сломался в среду, его починили в четверг, он снова сломался в пятницу, вырубив свет в доме. К шести часам леди Ланселин после возвращения с прогулки были убиты в темноте — потому что мертвые не бранятся…
При жизни мадам как-то заставила Ли опуститься на колени, чтобы поднять неубранный клочок бумаги с ковра. Своими белыми перчатками она проверяла, как Ли вытирает пыль, отпускала комментарии по поводу омлетов Кристины через официальные записки, которые приносила на кухню Женевьева. Все эти привычки создавали у сестер Папин комплекс преследования. Мадам хорошо кормила девушек и «даже позволяла им отапливать свою спальню в мансарде». Хотя, Кристина не знала, была ли мадам к ним добра, поскольку за шесть лет службы она с ними ни разу не заговорила. А если с тобой не разговаривают, то что можно сказать? О мотиве их преступления писали Таро, принимая сторону девушек: «Девушки были хорошими слугами, но им в высшей степени противоречили», когда утюг сломался в первый раз. Во второй раз «они были драгоценными слугами, которые не хотят терять времени на раздражение. Возможно, если бы сестры не были столь старательными в делах, несчастья бы не случилось. И я бы сказал, — добавляют Жан и Жером без всякой логики, — что многие люди еще принадлежат ранним периодам развития общества».
Таковыми, среди прочих, были присяжные заседатели. Это были двенадцать хороших людей, которые не могли оценить поступок сестер Папин. К тому же процесс длился всего двадцать шесть часов, и не было времени вдаваться в детали психики девушек, хотя от этого зависели сорок или пятьдесят лет их будущей жизни. Обвинение призвало трех экспертов из местной психиатрической лечебницы. Те встретились с девушками два раза по полчаса и заявили под присягой, что обвиняемые обладают «незапятнанной наследственностью». То есть, их отец был алкоголиком, изнасиловавшим их старшую сестру, которая после этого ушла в монастырь. У матери были истерики из-за денег. Их кузина умерла в сумасшедшем доме, а дядя повесился из-за «безрадостной жизни», другими словами, наследственность в порядке, ответственность — стопроцентная!
Защита была слабой. Опровержениями по поводу психической ненормальности девушек не придавалось значения. «Сильное сомнение в их рассудке» адвоката Пьера Шатемпа было отвергнуто, поскольку на перекрестном допросе выяснилось, что перед процессом он не говорил с обвиняемыми и пяти минут. Он все узнал о них, сидя и размышляя в своем парижском кабинете.
Присяжные пропустили также мимо ушей тонкий намек на девушек как на «психологическую пару», хотя они и поняли более общую ссылку на Сафо, которую сделал шеф психиатрической клиники. Кровосмешение девушек представляло первостепенный интерес для двенадцати хороших людей, хотя в действительности оно было незначительной деталью их подозрительной семейной жизни. Присяжные обошли вниманием и галлюцинации, преследовавшие Кристину в тюрьме. Но через шесть месяцев после смертельного приговора (казнь через обезглавливание) эти галлюцинации были оценены по их литературному достоинству в научном эссе «Параноидальные мотивы преступлении: преступление сестер Папин» доктора Жака Лакана, в сюрреалистическом номере ежеквартального журнала интеллигенции — «Минотавре».
Но в суде поэтические видения Кристины были восприняты как лживые басни и никого не тронули, кроме зашиты, конечно. Хотя они и представляли исключительную ценность с точки зрения лирической параной и современной психиатрии. Некоторые из сумасшедших могут задать такие вопросы, которые человеку разумному и в голову не придут. «Где я была до того, как оказалась в животе своей матери?» — спросила Кристина — и у нее начался припадок. Затем она интересовалась, где сейчас могут быть леди Ланселин, не могут ли они вселиться в другие тела? Как сказал Тараудс, для кухарки она проявляла чересчур «необычный интерес к метемпсихозу», что отразилось и в ее меланхолическом замечании: «Иногда я думаю, что в своих прошлых жизнях я была мужем своей сестры». Когда же все вздрогнули в тюремной общей спальне, то она высказала пожелание увидеть эту проклятую невесту повешенной на яблоне, с переломанными конечностями. Тогда же сумасшедшая Кристина влезла, легко подтянувшись руками, на самый верх зарешеченного десятифутового окна в камере. Чтобы успокоить ее, позвали сестру Ли, с которой они не виделись после ареста шесть месяцев. В странном волнении Кристина крикнула ей: «Скажи — да, скажи — да!», но тогда это никто не понял. Каким образом эта крестьянка пришла, как ирландец Джеймс Джойс в последних строках «Улисса», к двум самым насыщенным словам в любом языке: да, да…
На этом заканчивается лирическая часть истории Кристины, которая затем стала скорее политической. В любом случае, она объявила голодовку на три дня, замкнулась в молчании, плакала и молилась как обманутый лидер, оставляла языком святые знаки на тюремных стенах, пыталась взять на себя вину Ли, а когда это не удалось, она, по крайней мере, сумела избавиться от смирительной рубашки.
— Не было ли все это спектаклем? — спросило ее позже тюремное начальство. (Имелось в виду все, кроме освобождения от смирительной рубашки и других реальных вещей, которые никогда не происходили с обвиняемыми за всю историю Франции).
— Как мсье пожелает, — вежливо ответила Кристина.
Обе девушки были в тюрьме очень вежливы, и обращались к надзирателям официально, в третьем лице, будто те заходили в квартиру Ланселинов на чай.
Во время всего судебного процесса, сообщений о видениях и всего прочего, Кристина сидела с закрытыми глазами на скамье подсудимых с 1.30 после ленча одного дня до 3.30, до завтрака следующего дня. Она напоминала спящую или медиума в трансе, но когда к ней обращались, она вставала и почти ничего не произносила. Судья, добрый человек со свирепыми усами, задавая вопросы, был вынужден проверить свою собственную умственную полноценность, поскольку не мог заставить Кристину говорить о себе.
— Когда вам делали выговор на кухне, вы не отвечали, а лишь яростно стучали крышками на печке. Я спрашиваю себя, не было ли это грешной гордостью… Вы правильно считаете, что работать не позорно. Нет, у вас нет также и классовой ненависти, — эти слова он произнес с облегчением, убедившись, что ни он, ни она не были большевиками, — На вас не могла подействовать литература, так как в вашей комнате нашли только сборник стихов.
(Эти стихи не научили девушек христианскому милосердию, раз они решились на такое убийство. Полуослепление Ланселинов — единственный зафиксированный случай, когда глазные яблоки удаляются у живого человека, используя лишь пальцы. Дублирование пыток крайне жестоко. Кристина взялась за мадам, а глупая Ли — за мадемуазель. Что бы не делала с пожилой женщиной ее старшая сестра, младшая повторяла на более свежем образе, в экстазе повиновения).
В ходе процесса зрители могли подумать, что судят раздвоившийся в глазах труп Папин — настолько сестры выглядели похожими друг на друга и мертвыми. Специалист по психологии назвал их сиамскими душами. Сестры Папин — это боль двоих, когда предполагается какое-то таинственное единство между ними. У них произошел раскол, при котором доминирующая, злобная Кристина пыталась удовлетвориться самосозерцанием, хотя она никогда не слышала о Нарциссе. Она не думала, что бледная Ли могла уйти из ее поля зрения. Поскольку глаза Кристины были закрыты на суде, Ли пришла в замешательство, что ее не замечают и не могут заметить. За весь процесс она сказала лишь, что ножом «сделала небольшие надрезы» на бедрах несчастной девицы Женевьевы. Поскольку там, как сказала ее сестра Кристина, находится секрет жизни…
Когда присяжные вошли в зал, чтобы огласить вердикт, Кристина ожидала их по-прежнему в состояния сомнамбулы, сложив руки не в молитве, а указывая ими на землю. Утро было холодным, и воротники плащей у обеих сестер были подняты, будто они только что бежали под дождем, выполняя какое-то домашнее поручение. Попытавшись первый раз сосредоточить внимание на Ли, которую присяжные почти все время игнорировали, старшина присяжных объявил ей о предстоящем десятилетнем тюремном заключении и двадцатилетней муниципальной ссылке. Кристину присудили к публичному обезглавливанию на площади в Ле-Мансе. Но поскольку женщин уже не отправляли на гильотину, то этот приговор означал жизнь — милость, которую несколько мгновений она не могла осознать.
Когда до Кристины дошел смысл приговора, она рухнула на колени. Наконец она услышана голос Бога…»
ЖАННЕТ ФЛАНИЕР. Убийство в Ле-Мансе
----------------------------------------
КСТАТИ:
«Очень часто преступления, совершаемые женщинами из ненависти и мести, имеют очень сложную подкладку. Преступницы, подобно детям, болезненно чувствительны ко всякого рода замечаниям. Они необыкновенно легко поддаются чувству ненависти, и малейшее препятствие или неудача в жизни возбуждают в них ярость, толкающую их на путь преступления. Всякое разочарование озлобляет их против причины, вызвавшей его, и каждое неудовлетворенное желание вселяет им ненависть к окружающим даже в этом случае, когда придраться решительно не к чему. Неудача вызывает в их душе страшную злобу против того, кто счастливее их, особенно, если неудача эта зависит от их личной неспособности. То же самое, но в более резкой форме, наблюдается у детей, которые часто бьют кулаками предмет, натолкнувшись на который, они причинили себе боль. В этом видно ничтожное психическое развитие преступниц, остаток свойственной детям и животным способности слепо реагировать на боль, бросаясь на ближайшую причину ее, даже если она является в форме неодушевленного предмета».
Ну, а если предмет ненависти преступницы окажется одушевленным, тогда эта ненависть возрастает во много раз.
1993 год. Харьков.
Раиса П., ее сын Станислав и его приятель девятиклассник Владислав зверски убили их соседку по подъезду Нину 3., после чего труп был расчленен и выброшен на цветочную клумбу перед многоэтажным домом.
И Раиса П., и ее жертва были приятельницами. Обе нигде не работали, обе изрядно выпивали, обе подторговывали чем придется.
ПОКАЗАНИЯ СОСЕДЕЙ:
«Нигде не работала. Через бюро брала квартирантов. Поживут неделю-другую, и она их выставляет, вещи выбрасывает, а деньги, взятые авансом, не отдает. Если начинают грозить милицией, отвечает: «А я на справке, я вольтанутая»… Сявки к ней ходили потоком… Сына она часто выставляла на лестничную площадку. Потом в интернат сдала…»
Жертва, Нина 3., была подобного рода и характера женщиной. Иногда, при случае, и подворовывала у соседей.
Станислав, сын Раисы П., и Владислав, его «кореш», естественно, были известны всем как «трудные подростки», причем еще задолго до того времени, когда достигли подросткового возраста. Мать Владислава тоже с полным правом можно отнести к городской накипи.
А история с убийством началась с того, что сосед пожаловался Раисе на Нину, утверждая, что та его обворовала во время посещения, в ходе которого они распили бутылку водки. (Сосед, видимо, тоже не принц Датский). По его словам, Нина, уходя, прихватила с собой хрустальные рюмки.
«Вот стерва, — возмутилась Раиса, — а еще подруга! Ну ничего, я с ней разберусь, будь спокоен!»
И вечером того же дня она послала сына позвать к ней Нину «по срочному делу»…
ИЗ ПОКАЗАНИЙ СТАНИСЛАВА И ВЛАДИСЛАВА:
«Мы затащили Нину в спальню. Мать сказала, что нужно ее связать… Затем мы били ее минут пятнадцать. Я с Владиком — по туловищу, а мать — ногами по лицу. У Нины изо рта пошла кровь. Мать продолжала бить ее ногой по затылку. Нина билась лицом об пол…»
«Мать пошла готовить суп. Мы остались в комнате, играли в карты. Владик время от времени бил ее ногой по ступням. Она билась головой о батареи… Кричала… Пришла из кухни мать. Она стала душить ее полотенцем, а мы — бить…»
«Мы пошли кушать на кухню. Потом зашли в комнату и увидели, что у Нины в руках ножницы, и она пытается освободиться. Я ножницы выбил ногой…»
«Мы со Стасиком, когда уставали бить, выходили слушать музыку».
«Мать сказала: «Ты посмотри, какая живучая! Я на нее три флакона «Корбазоля» израсходовала, а она все не подыхает!» Тогда я взял у матери флакон и попросил Владика бить Нину, чтобы она кричала, а я в это время вливал ей в рот отраву…»
«Мама Стасика сказала: «Ее нужно кончать», и мы снова стали избивать ее»».
«Потом я начал душить руками… Мама принесла мне веревку. Я сделал петлю и задушил ее. Правда, не сразу. Пришлось душить ее, наверное, целый час…»
На крики и шум соседи не обращали внимания, давно привыкнув к пьяным дебошам в квартире Раисы.
Выбросив труп на цветочную клумбу, убийцы спокойно легли спать.
Все трое признаны психически нормальными.
Суд приговорил Раису к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима (строгий она, видимо, не заслужила), Станислава — к восьми, а Владислава — к пяти годам.
Это только начало кровавой эпопеи — продолжение последует сразу же после их освобождения.
Это неизбежно, по крайней мере до тех пор, пока наши законодатели не осознают простую истину: закон должен быть слеп, и карать за преступления нужно строго адекватно причиненному злу.
КСТАТИ:
(Из воспоминаний Эдмона де Гонкура)
«Сегодня (5 марта 1876 г.) И. С. Тургенев пришел к Гюставу Флоберу со словами: «Никогда еще я не видел так ясно, как вчера, насколько различны человеческие расы: я думал об этом всю ночь… Ведь мы с вами люди одной профессии, не правда ли, собратья по перу… А вот вчера, на представлении «Госпожи Каверле», когда я услышал со сцены, как молодой человек говорит любовнику своей матери, обнявшему его сестру: «Я запрещаю вам целовать эту девушку…», во мне шевельнулось возмущение! И если бы в зале находилось пятьсот русских, все они почувствовали бы то же самое возмущение. Однако, насколько я заметил, ни у Флобера, ни у кого из сидевших со мной в ложе не возникло такого чувства!.. И я об этом раздумывал всю ночь. Да, вы люди латинской расы, в вас еще жив дух римлян с их преклонением перед священным правом; словом, вы люди закона… А мы не таковы… Как бы вам это объяснить? Представьте себе, что у нас, в России, как бы стоят по кругу все старые русские, а позади них толпятся молодые русские. Старики говорят свое «да» или «нет», а те, что стоят позади, слушают их. И вот перед этим «да» и «нет» закон бессилен, он просто не существует; у нас, русских, закон не кристаллизуется, как у вас. Например, воровство в России — дело нередкое, но если человек, совершив даже и двадцать краж, признается в них и будет доказано, что на преступление его толкнул голод, толкнула нужда, — его оправдают… Да, вы — люди закона и чести, а мы, хотя у нас и самовластье, мы люди…
Он ищет нужное слово, и я подсказываю ему:
— Более человечные?
— Да, именно! — подтверждает он. — Мы менее связаны условностями, мы более человечные люди!»
Так-то оно так, но при этом не следует забывать известного изречения Луция Сенеки: «Кто щадит плохих, тот вредит хорошим».
А что касается фурий, то эти исчадия ада далеко выходят за рамки понятий «хорошо» или «плохо».

Как отмечал Ч. Ломброзо. «они» проявляют по отношению к окружающим ненависть, для которой нельзя найти никакой даже отдаленной причины и которая может быть объяснена только разве какой-то врожденной, слепой злостью их. Так, многие нарушительницы супружеской верности и отравительницы совершают свои преступления с непонятной бесцельностью. Женщины эти, будучи по натуре властолюбивыми и склонными к насилию, обыкновенно импонируют своим слабым мужьям, которые, из боязни чего-нибудь более худого, уступают им во всем. Но это ведет, однако, только к тому, что они начина ют тем более ненавидеть своих мужей, чем более последние покладисты и уступчивы по отношению к ним.
Вначале кажется, что мир должен будет перевернуться, если желания этих женщин будут исполнены хотя бы одним днем позже, но потом, как только цель их достигнута, страсть их угасает…»
Женское зверство — это бунт упрямой, самолюбивой, капризной, деспотичной и вместе с тем — покорной твари, которая, осознавая в себе эту покорность, тяготится ею, ненавидит ее и поэтому мстит за нее всем, кто в недобрый час попадется под руку. Да и не только им. Они мстят всему миру, который устроен так, как он устроен.
КСТАТИ:
«Я не создан для этого мира, где стоит только выйти 4 из дому, как попадаешь в сплошное дерьмо».