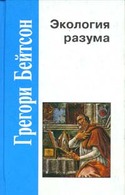Форма и паталогия взаимоотношений
Минимальные требования для теории шизофрении[22]
Любая наука, как и любой человек, имеет обязательства по отношению к своим соседям. Любить их, возможно, не требуется, но нужно одалживать им свои инструменты, брать взаймы инструменты у них, и вообще не давать им распускаться. Возможно, о важности достижений любой науки мы судим по тем изменениям, которых эти достижения требуют от методов и способов мышления соседних наук. Однако не следует забывать о правиле бережливости. Изменения, которых науки о поведении могут требовать от генетики, философии или теории информации, всегда должны быть минимальными. Единство науки как целого достигается этой системой минимальных требований, накладываемых каждой наукой на своих соседей, и в немалой степени тем "одалживанием" концептуальных инструментов и паттернов, которое происходит между соседними науками.
Цель моей нынешней лекции состоит, следовательно, не в том, чтобы обсуждать конкретную теорию шизофрении, развиваемую нами в Пало-Альто. Скорее, я хочу показать вам, что эта теория и другие ей подобные воздействуют на идеи, касающиеся самой природы объяснения. Я использовал название "Минимальные требования для теории шизофрении" и, выбирая это название, я имел в виду обсудить приложения теории "двойного послания" к более широкой области наук о поведении и даже, сверх того, ее воздействие на теорию эволюции и эпистемологию биологии. Каких минимальных изменений требует эта теория от смежных наук?
Я хочу разобраться с вопросом о воздействии экспериментальной теории шизофрении на триаду смежных наук: теорию обучения, генетику и эволюцию.
Сперва кратко опишу гипотезу. В своей сути, идея апеллирует к ежедневному опыту и элементарному здравому смыслу. Первое предположение, из которого возникает гипотеза, состоит в том, что обучение всегда происходит в некотором контексте, имеющем формальные характеристики. При желании можно обдумать формальные характеристики последовательности инструментального избегания или формальные характеристики павловского эксперимента. Обучиться поднимать лапу в павловском контексте — это совсем не то, что обучиться тому же действию в контексте инструментального вознаграждения.
Далее, гипотеза опирается на идею, что этот структурированный контекст также размещается внутри более широкого контекста (если хотите, метаконтекста) и эта последовательность контекстов образует открытую и, по-видимому, бесконечную серию.
Гипотеза также предполагает, что происходящее в более узком контексте (например, контексте инструментального избегания) будет подвергаться воздействию более широкого контекста, внутри которого обретает свое существование меньший. Между контекстом и метаконтекстом может возникать неконгруэнтность (конфликт). Например, контекст павловского обучения может помещаться в метаконтекст, который будет наказывать за обучение такого рода, возможно, настаивая на понимании. Тогда организм сталкивается с дилеммой: либо быть неправым в первичном контексте, либо быть правым по неправильным причинам или неправильным образом. Это и есть так называемое "двойное послание". Мы исследуем гипотезу, что шизофреническая коммуникация является продуктом обучения и становится привычной в результате постоянного травмирования такого рода.
Только и всего.
Однако даже эти "здравые" предположения порывают с классическими правилами научной эпистемологии. Парадигма свободно падающих тел (и многие подобные парадигмы во многих других науках) научила нас подходить к научным проблемам определенным образом: проблемы должны быть упрощены посредством игнорирования или откладывания рассмотрения возможности того, что больший контекст может влиять на меньший. Наша гипотеза идет против этого правила и фокусируется именно на определении отношений между большим и меньшим контекстами.
Еще более шокирует тот факт, что наша гипотеза предполагает (хотя обошлась бы и без этого предположения), что может существовать бесконечная регрессия таких релевантных контекстов.
В силу всего этого, гипотеза требует и стимулирует ту же ревизию научного мышления, которая происходит во многих областях — от физики до биологии. Наблюдатель должен быть включен в фокус наблюдения, а то, что можно изучать, — это всегда либо отношения, либо бесконечная регрессия отношений. И никогда не "вещь".
Пример прояснит роль большего контекста. Давайте рассмотрим больший контекст, внутри которого может быть произведен обучающий эксперимент с шизофреником. Шизофреник — это так называемый пациент, находящийся vis-a-vis с членом могущественной и нелюбящей организации персонала госпиталя. Если бы пациент был хорошим прагматичным ньютонианцем, он мог бы сказать самому себе: "В конце концов, сигареты, которые я смогу получить, если сделаю то, что этот тип от меня ожидает, — это только сигареты, и я начну действовать как ученый-прикладник и сделаю то, что он от меня хочет. Я решу экспериментальную задачу и получу сигареты". Однако человеческие существа, а особенно шизофреники, не всегда видят вещи подобным образом. Они находятся под влиянием того обстоятельства, что эксперимент проводится кем-то, кому они не собираются доставлять удовольствия. Они могут даже чувствовать, что в попытках доставить удовольствие тому, кто им не нравится, есть известное бесстыдство. Поэтому получается так, что знак (плюс или минус) того сигнала, который экспериментатор подает, давая или не давая сигареты, инвертируется. То, что экспериментатор считал вознаграждением, отчасти превращается в сообщение о неуважении, а то, что экспериментатор считал наказанием, отчасти становится источником удовлетворения.
Подумайте об острой боли, которую испытывает психиатрический пациент в большом госпитале, когда кто-то из персонала кратковременно обращается с ним как с человеческим существом.
Для объяснения наблюдаемых феноменов мы всегда должны принимать во внимание более широкий контекст эксперимента по обучению. Любая трансакция между индивидуумами является контекстом обучения.
Следовательно, гипотеза "двойного послания" зависит от приписывания определенных характеристик процессу обучения. Если эта гипотеза хотя бы приблизительно верна, нужно дать ей место в рамках теории обучения. В особенности, теория обучения должна стать разрывной (discontinuous) для согласования с той разрывностью иерархии контекстов обучения, на которую я ссылался.
Более того, эта разрывность имеет особую природу. Я говорил, что больший контекст может изменить знак вознаграждения, предлагаемого данным сообщением, и очевидно, что больший контекст может также изменить модальность: может поместить сообщение в категории юмора, метафоры и т.д. Обстоятельства могут сделать сообщение неуместным. Сообщение может не вписываться в больший контекст и т.д. Но для этих модификаций есть пределы. Контекст может говорить получателю все что угодно по поводу сообщения, но он никогда не может разрушить его или прямо противоречить ему. "Я солгал, когда сказал: "Кот лежит на подстилке"" — это ничего не говорит vis-a-vis о нахождении кота. Это говорит только о надежности предыдущей информации. Существует пропасть между контекстом и сообщением (или между метасообщением и сообщением), которая имеет ту же природу, что и пропасть между вещью и словом или знаком, означающим ее, или между членами класса и именем класса. Контекст (метасообщение) квалифицирует сообщение, но никогда не может встретиться с ним на равных основаниях.
Чтобы ввести эту разрывность в теорию обучения, необходимо расширить сферу того, что нужно включить в концепцию обучения. То, что экспериментаторы описывали как "обучение", в целом является изменением того, что организм делает в ответ на данный сигнал. Например, экспериментатор наблюдает, что сначала зуммер не вызывает систематического отклика, но после повторных попыток, в которых за зуммером следует мясной порошок, животное начинает выделять слюну, когда бы оно ни услышало зуммер. Мы можем обобщенно сказать, что животное начало приписывать зуммеру значение или смысл.
Произошло изменение. Для конструирования иерархических последовательностей мы выбрали слово "изменение". Последовательности, подобные тем, которые нас интересуют, в общем конструируются двумя способами. В области чистой теории коммуникации ступени иерархических последовательностей могут конструироваться последовательным использованием слова "касательно" ("мета"). Наши иерархические последовательности будут состоять из сообщений, метасообщений, метаметасообщений и так далее. Когда мы имеем дело с явлениями, пограничными с теорией коммуникации, подобные иерархии могут конструироваться надстройкой "изменений" над "изменениями". В классической физике примером такой иерархии является последовательность: положение; скорость (т.е. изменение положения); ускорение (т.е. изменение скорости или изменение изменения положения); изменение ускорения и т.д.
Дальнейшие усложнения возникают (редко в классической физике, но постоянно в человеческой коммуникации), если заметить, что сообщения могут касаться (быть "мета") отношений между сообщениями различных уровней. Запах экспериментальной сбруи может сказать собаке, что зуммер будет означать мясной порошок. Тогда мы скажем, что сообщение сбруи есть "мета" к сообщению зуммера. Но в человеческих отношениях может генерироваться другой тип сложности: например, могут отправляться сообщения, запрещающие субъекту делать метасвязи. Родитель-алкоголик может наказать ребенка, если тот показывает, что знает, что ему следует ожидать грозы всякий раз, когда родитель достает бутылку из шкафа. Иерархия сообщений и контекстов становится сложной, ветвящейся структурой.
Теперь мы можем построить аналогичную иерархическую классификацию внутри теории обучения в сущности тем же способом, что и в физике. То, что изучено экспериментаторами, есть изменение в получении сигнала. Но ясно, что получение сигнала уже означает изменение — изменение более простого или низшего порядка, чем то, что изучено экспериментаторами. Это дает нам две первые ступени в иерархии обучения, выше которых можно вообразить бесконечную последовательность. Эту иерархию [1] можно теперь расположить следующим образом:
1 В моей окончательной версии этой иерархии порядков обучения, приведенной в этой книге в статье "Логические категории обучения и коммуникации", я использовал другую систему нумерации. Получение сигнала там называется "нулевым обучением", изменение в нулевом обучении называется обучение — I, "вторичное обучение" называется обучение — II, и т.д.
(1) Получение сигнала. Я работаю за письменным столом, на котором лежит бумажный пакет с моим завтраком. Я слышу гудок, из чего узнаю, что наступил полдень. Я достаю свой завтрак. Гудок можно рассматривать как ответ на вопрос, заложенный в мой рассудок предыдущим обучением второго порядка, однако единичное событие — получение этой порции информации — является порцией обучения, что демонстрируется тем фактом, что, получив ее, я изменился и реагирую на бумажный пакет определенным образом.
(2) Обучение, являющееся изменением (1). Это иллюстрируется различными видами классических обучающих экспериментов, как то: павловский эксперимент, эксперимент с инструментальным вознаграждением, эксперимент с инструментальным избеганием, эксперимент с заучиванием путем многократного повторения и т.д.
(3) Обучение, составляющее изменение в обучении второго порядка. В прошлом я неудачно назвал этот феномен "вторичным обучением" ("deuterolearning") и перевел это как "обучение обучаться". Было бы правильнее применить слово "третичное обучение" ("tritolearning") и перевести это как "обучение обучаться получению сигналов". Это феномены, которые главным образом интересуют психиатра, а именно изменения, посредством которых индивидуум приходит к привычному структурированию своего мира именно таким, а не иным образом. Это феномены, которые стоят за "трансфером", т.е. ожиданием со стороны пациента, что отношения с терапевтом будут содержать те же типы контекстов обучения, с которыми пациент ранее встречался в связи со своими родителями.
(4) Изменения в процессах изменения, описанных в (3). Неизвестно, встречается ли у человеческих существ обучение этого четвертого порядка. То, что психотерапевты стараются продуцировать у своих пациентов, обычно является обучением третьего порядка, однако возможно и вполне умопос-тижимо, что некоторые из медленных и бессознательных изменений могут быть сдвигами знака некоторых высших производных процесса обучения.
Здесь необходимо сравнить три типа иерархий, с которыми мы столкнулись:
a) иерархия порядков обучения;
b) иерархия контекстов обучения;
с) иерархия структур цепей, которую мы можем и должны ожидать обнаружить в телэнцефализированном мозге23.
23 У автора: "telencephalized brain". Вебстер дает следующее определение: "телэнцефалон, существительное, Новая Латынь: передний подотдел эмбрионального переднего мозга либо соответствующая часть взрослого переднего мозга, включающая мозговые полушария и связанные с ними структуры".
23 Интернет дал нам возможность получить следующее разъяснение этого не вполне ясного пункта: "Полагаю, что здесь Г.Б. имеет в виду "мозг, развившийся до степени обладания "телэнцефалоном". Это есть часть нео-кортекса, которую можно обнаружить у млекопитающих. Здесь подразумевается, что эта самая удаленная фронтальная часть кортекса является самой новой либо самой развитой частью мозга. Ссылка словаря на эмбриологию кажется нерелевантной, поскольку самая развитая часть мозга будет развиваться у эмбриона в последнюю очередь.
23 Кажется, что это слово Г.Б. придумал. Оно вполне ясно, однако, возможно, неоправданно мистифицирует читателя. Он вполне мог бы сказать "мозг млекопитающего", но тогда взгляд скользнул бы по нему, не отметив, что Г.Б. говорит, что высшие уровни обучения требуют самого лучшего мозга из имеющихся в наличии". Мэри Кэтрин Бейтсон, профессор антропологии и английской филологии, Университет Джоржда Мэйсона, Вирждиния, США. — Примеч. переводчика.
Я готов поспорить, что (а) и (Ь) синонимы в том смысле, что все утверждения, сделанные о контекстах обучения могут быть транслированы (без потерь и приобретений) в утверждения о порядках обучения, и далее, что классификация или иерархия контекстов должна быть изоморфна классификации или иерархии порядков обучения. Более того, я верю, что мы можем обнаружить классификацию или иерархию нейрофизиологических структур, которая будет изоморфна двум другим классификациям.
Синонимия утверждений о контекстах и порядках обучения мне кажется самоочевидной, но опыт показывает, что ее нужно явно сформулировать. "Если истина высказана так, что она понята, то в нее нельзя не поверить". И напротив, в нее нельзя поверить, пока она не высказана так, чтобы быть понятой.
Сперва необходимо подчеркнуть, что в мире коммуникации единственные релевантные сущности ("реальности") — это сообщения (я включаю в этот термин части сообщений, отношения между сообщениями, значимые пробелы в сообщениях и т.д.). Восприятие события, объекта или соотношения — реально. Это нейрофизиологическое сообщение. Но само событие или сам объект не могут войти в этот мир. Следовательно, они нерелевантны и в этом смысле нереальны.
И напротив, сообщение не имеет реальности (или релевантности) в качестве сообщения в ньютоновском мире: там оно редуцируется к звуковым волнам или типографской краске.
По тем же самым причинам "контексты" и "контексты контекстов" (на чем я настаиваю) реальны или релевантны только в той степени, в которой они коммуникативно эффективны (например, если они функционируют как сообщения или модификаторы сообщений).
Разница между ньютоновским миром и миром коммуникации такова: ньютоновский мир приписывает реальность объектам и достигает своей простоты посредством исключения "контекста контекста" и, разумеется, исключения всех метаотношений, вне всяких сомнений исключая бесконечную регрессию таких отношений. По контрасту, теория коммуникации настаивает на исследовании метаотношений, достигая своей простоты исключением всех объектов.
Мир коммуникации — это мир берклеанский, хотя почтенный епископ виновен в преуменьшении. Нужно отказать в релевантности (реальности) не только звуку дерева, которое падает в лесу, не слышимое никем, но также и этому стулу, который я вижу и на котором сижу. Мое восприятие стула коммуникативно реально, и тот стул, на котором я сижу, — для меня только идея, сообщение, которое я принимаю на веру.
"В моих помыслах, в этом мире ни одна вещь не хуже другой, сгодится и лошадиная подкова". В мышлении и опыте нет вещей, есть только сообщения и тому подобное.
Разумеется, в этом мире я как материальный объект не релевантен и в этом смысле не обладаю реальностью. Однако "Я" существует в коммуникативном мире как основной элемент в синтаксисе моего опыта и восприятия других. Коммуникация с другими может повредить моей идентичности вплоть до распада организации моего опыта.
Возможно, однажды будет достигнут окончательный синтез, объединяющий ньютоновский и коммуникативный миры. Но не в этом цель нынешней дискуссии. Сейчас я озабочен прояснением отношений между контекстами и порядками обучения, а для этого необходимо сперва сфокусироваться на различии между ньютоновским и коммуникативным дискурсами.
Однако после такого вступления становится ясно, что разделение контекстов и порядков обучения — это лишь артефакт того контраста, который существует между этими двумя видами дискурса. Это разделение поддерживается только тем соображением, что контексты располагаются вне физического индивидуума, тогда как порядки обучения располагаются внутри. Но в мире коммуникации эта дихотомия нерелевантна и бессмысленна. Контексты имеют коммуникативную реальность лишь в той степени, в которой они эффективны в качестве сообщений, т.е. только в той степени, в какой они представлены или отражены (правильно или с искажениями) в многочисленных частях той коммуникативной системы, которую мы изучаем. Эта система — не физический индивидуум, а обширная сеть цепей прохождения сообщений. Некоторые из этих цепей могут оказаться расположенными вне физического индивидуума, другие же внутри. Но характеристики системы ни в какой степени не зависят от суперпозиции любых пограничных линий на карту коммуникации. Вопрос, является ли трость слепого или микроскоп ученого "частью" того человека, который их использует, не имеет коммуникативного смысла. И трость и микроскоп — важные цепи прохождения коммуникации и в качестве таковых являются частями интересующей нас цепи. Но никакие разграничительные линии, пересекающие, скажем, середину трости, не могут быть релевантными при описании топологии этой сети.
Между тем, это сбрасывание со счетов границы физического индивидуума не подразумевает (как некоторые могут опасаться), что коммуникативный дискурс необходимо хаотичен. Напротив, предлагаемая иерархическая классификация обучения и/или контекстов является упорядочением того, что ньютонианцу кажется хаосом; и это именно то упорядочение, которого требует гипотеза "двойного послания".
Очевидно, человек — это вид животного, чье обучение характеризуется иерархическими разрывностями такого рода. В противном случае он не смог бы стать шизофреником под фрустрирующим влиянием "двойного послания".
Что касается доказательств, то начинает появляться все больше экспериментов, демонстрирующих реальность обучения третьего порядка (Harlow, 1940; Hull et al., 1949), однако, насколько мне известно, есть очень мало свидетельств, касающихся именно разрывности между этими порядками обучения. Стоит упомянуть эксперименты Джона Страуда (John Stroud) по отслеживанию. Испытуемый видит экран, по которому ползет пятно, представляющее движущуюся цель. Испытуемый, который оперирует парой рукояток, может управлять вторым пятном, представляющим прицел пушки. Испытуемому предлагается поддерживать совпадение между пятном-целью и пятном-прицелом. В этом эксперименте цели могут быть заданы различные виды движений, характеризующиеся производными первого, третьего и более высоких порядков. Страуд показал, что подобно наличию разрывности в порядках уравнений, которыми математик описал выдвижения пятна-цели, существует также и разрывность в обучении испытуемого. Дело обстоит так, как если бы с каждым шагом к более высокому порядку сложности движения цели включался новый учебный процесс.
Я просто восхищен: то, что казалось чистым артефактом математического описания, очевидно, является также встроенной характеристикой человеческого мозга, несмотря на то что при решении такой задачи мозг определенно не действует посредством математических уравнений.
Также существуют свидетельства более общего характера, поддерживающие идею разрывности между порядками обучения. Например, существует любопытный факт, что психологи, как правило, вообще не рассматривают как обучение то, что я назвал обучением первого порядка, т.е. получение осмысленного сигнала. Любопытен также другой факт, что до самого последнего времени психологи выказывали очень мало интереса к тому третьему порядку обучения, который главным образом интересует психиатров. Существует ужасающая пропасть между мышлением экспериментального психолога и мышлением психиатра или антрополога. Я полагаю, что за эту пропасть отвечает разрывность иерархической структуры.
Обучение, генетика и эволюция
Прежде чем рассматривать воздействие гипотезы "двойного послания" на генетику и теорию эволюции, необходимо исследовать отношения между теориями обучения и этими двумя другими разделами знания. Ранее я описывал эти три предмета как триаду. Теперь мы должны рассмотреть структуру этой триады.
Генетика, включающая коммуникативные феномены вариации, дифференциации, роста и наследственности, обычно рассматривается как самая сердцевина теории эволюции. Теория Дарвина, очищенная от идей Ламарка и состоящая из генетики, в которой вариации предполагаются случайными, в сочетании с теорией естественного отбора придала бы накоплению изменений адаптационное направление. Однако отношения между обучением и этой теорией стали предметом яростной полемики, разразившейся вокруг так называемого "наследования приобретенных признаков".
Позицию Дарвина подверг острой критике Самюэль Батлер, утверждавший, что наследственность следует уподобить памяти и даже отождествить с нею. Исходя из этих предпосылок, Батлер продолжал настаивать, что процессы эволюционных изменений (и особенно адаптацию) следует рассматривать как результат глубокого хитроумия, проявляемого потоком жизни, а не как случайные подарки судьбы. Он провел близкую аналогию между феноменом изобретения и феноменом эволюционной адаптации и, возможно, первым указал на существование рудиментарных органов у машин. Забавная гомология, при которой двигатель располагается впереди автомобиля, где было место лошади, позабавила бы его. Он также весьма убедительно доказывал, что существует процесс, посредством которого новые изобретения адаптивного поведения стекают вглубь биологической системы организма. Из запланированных и сознательных действий они становятся привычками, а привычки становятся все менее и менее сознательными и все менее и менее доступными волевому контролю. Не приводя доказательств, он предполагал, что этот процесс образования привычек (процесс отекания) может зайти так глубоко, что сделает вклад в ту совокупность воспоминаний (мы назвали бы ее генотипом), которая определяет характеристики следующего поколения.
Полемика о наследовании приобретенных признаков имеет две грани. С одной стороны, она кажется спором, разрешаемым с помощью фактического материала. Один хороший пример такого наследования мог бы склонить дело на сторону ламаркистов. Однако доводы против такого наследования в силу своей негативности не могут быть доказаны свидетельствами и должны апеллировать к теории. Обычно сторонники негативного взгляда опираются на отделенность зародышевой плазмы от соматических тканей и утверждают, что не может существовать систематической коммуникации от сомы к зародышевой плазме, в свете которой генотип мог бы производить ревизию самого себя.
Затруднение таково: вполне можно представить, что бицепс, модифицированный использованием или неиспользованием, может производить секрецию специфических метаболитов в кровообращение, а они могут служить химическими посланцами от мышц к половым железам. Однако:
a) трудно поверить, что химия бицепса настолько отличается от химии, скажем, трицепса, что это сообщение может быть специфическим;
b) трудно поверить, что ткани половых желез могут быть оснащены так, чтобы должным образом откликаться на подобные сообщения.
В конце концов, получатель любого сообщения должен знать код отправителя, поэтому, если зародышевые клетки способны получать сообщения от соматических тканей, они уже должны нести некоторую версию соматического кода. Те направления, которые эволюционные изменения могли бы принять при помощи таких сообщений от сомы, должны были бы быть предопределены в зародышевой плазме.
Таким образом, доводы против наследования приобретенных признаков базируются на разделении, а различия между школами кристаллизуются вокруг философской реакции на такое разделение. Те, кто предпочитает думать о мире как организованном вокруг многочисленных и раздельных принципов, примут мнение, что соматические изменения, вызванные окружающей средой, могут быть объяснены в терминах, полностью отдельных от терминов эволюционного изменения. Тот же, кто предпочитает видеть в природе единство, будет надеяться, что две эти совокупности объяснений могут быть каким-то образом взаимосвязаны.
Более того, вся взаимосвязь между обучением и эволюцией претерпела любопытную перемену с того времени, когда Батлер заявил, что эволюция — это дело скорее хитрости, чем удачи. И явно ни Дарвин, ни Батлер не предвидели такой перемены. Случилось так, что сейчас многие теоретики полагают, что обучение является фундаментально стохастическим или вероятностным процессом. И конечно, если оставить в стороне неэкономные теории, постулирующие определенную энтелехию в архитектуре разума, то стохастический подход — это, возможно, единственная организованная теория природы обучения. Идея состоит в том, что в мозгу или где-то еще происходят случайные изменения, а результаты таких случайных изменений отбираются на выживаемость процессами подкрепления и вымирания. Согласно базовой теории, творческое мышление начинает напоминать эволюционный процесс в его фундаментально стохастической природе. Предполагается, что подкрепление задает направление накоплению случайных изменений нервной системы, подобно тому как естественный отбор задает направление накоплению случайных изменений вариации.
Однако бросается в глаза, что в теории эволюции и в теории обучения слово "случайность" остается без определения и дать это определение совсем непросто. В обеих областях предполагается, что изменение может зависеть от вероятностных феноменов, но вероятность данного изменения определяется чем-то отличным от вероятности. И за стохастической теорией эволюции и за стохастической теорией обучения стоят неназванные теории, описывающие детерминанты искомых вероятностей [3]. Если, однако, мы зададимся вопросом об изменениях этих детерминант, то снова получим стохастический ответ. Следовательно, слово "случайный", вокруг которого вращаются все эти объяснения, оказывается словом, смысл которого имеет иерархическую структуру, подобно смыслу слова "обучение", обсуждавшемуся в первой части данной лекции.
3 Разумеется, в этом смысле все теории изменений предполагают, что следующее изменение до некоторой степени уже заложено в системе, которой предстоит претерпеть это изменение.
Наконец, вопрос об эволюционной функции приобретенных признаков был вновь открыт в работах Уоддингтона (Waddington) по фенокопиям у дрозофил. Как минимум, эта работа указывает на то, что изменения фенотипа, достигаемые организмом под давлением экологического стресса, являются очень важной частью той "машинерии", посредством которой вид или наследственная линия удерживает свое место в стрессогенном или конкурентном окружении. Она обеспечивает последующие проявления некоторых мутаций или других генетических изменений, позволяющих виду или линии лучше справляться с актуальным стрессом. По меньшей мере, в этом смысле приобретенные признаки имеют важную эволюционную функцию. Однако фактическое содержание эксперимента указывает на нечто большее и заслуживает краткого воспроизведения.
Уоддингтон работает с фенокопией фенотипа, переносимой геном bithorax. Этот ген оказывает очень глубокое воздействие на взрослый фенотип. В его присутствии третий сегмент грудного отдела (thorax) модифицируется и начинает напоминать второй, а небольшие балансирующие органы третьего сегмента превращаются в крылья. Результат — четырехкрылая муха. Эта характеристика четырехкрылости может быть искусственно получена у мух, не несущих ген bithorax, посредством интоксикации куколок этилэфиром в течение некоторого времени. Уоддингтон работал с крупной популяцией мух дрозофил дикого происхождения, считающейся свободной от гена bithorax. Он подвергал куколки последовательных поколений этой популяции обработке эфиром и отбирал для размножения те результирующие взрослые особи, которые выказывали наилучшее приближение к свойству bithorax. Он выполнил этот эксперимент на большом количестве поколений и уже в двадцать седьмом поколении обнаружил, что свойство bithorax наблюдается у некоторого количества мух, куколки которых были исключены из эксперимента и не обрабатывались эфиром. Их дальнейшее размножение показало, что они обладают признаком bithorax не в результате присутствия специфического гена bithorax, а в результате констелляции генов, совместно работающих для создания этого эффекта.
Эти весьма впечатляющие результаты можно прочитать различными способами. Можно сказать, что, отбирая наилучшие фенокопии, Уоддингтон фактически отбирал генетическую потенцию к достижению этого фенотипа. Или же можно сказать, что его отбор уменьшал пороговое значение эфиро-вого стресса, необходимого для получения этого результата.
Позвольте предложить возможную модель описания этого феномена. Предположим, что приобретение признаков достигается посредством некоторого процесса фундаментально стохастической природы, возможно, некоторого вида стохастического обучения. Сам тот факт, что Уоддингтон способен отбирать "лучшие" фенокопии, поддерживает это предположение. Далее очевидно, что любой такой процесс расточителен по самой своей природе. Достижение методом проб и ошибок результата, который мог бы быть достигнут каким-то более прямым способом, — в известном смысле потеря времени и сил. В той степени, в какой мы считаем, что адаптивность достигается через стохастический процесс, мы принимаем идею "экономики адаптивности".
В области ментальных процессов мы прекрасно знакомы с этим видом экономики. Основная и необходимая экономия фактически достигается за счет знакомого процесса формирования привычек. На первых порах мы можем решить заданную проблему методом проб и ошибок, но, когда подобные проблемы встречаются вновь, мы стремимся справляться с ними все более и более экономно. Мы изымаем их из сферы стохастических операций и перепоручаем их решение более глубоким и менее гибким механизмам, которые называем "привычками". Следовательно, вполне можно себе представить, что некие аналогичные феномены могут применяться для продуцирования признаков bithorax. Может быть, более экономично продуцировать их посредством жесткого механизма генетической детерминации, нежели посредством более расточительного, более гибкого (и, возможно, менее предсказуемого) метода соматических изменений.
Это могло бы означать, что в популяции мух Уоддингтона существует селективная выгода для любых наследственных линий тех мух, которые могут иметь соответствующие гены для полного или частичного фенотипа bithorax. Также возможно, что такие мухи имели бы дополнительные преимущества того свойства, что их соматическая адаптивная "машинерия" была бы готова для работы со стрессами других видов. Кажется, что при обучении, когда решение данной проблемы передано привычке, стохастические или исследовательские механизмы освобождаются для решения других проблем. Вполне можно себе представить, что аналогичные преимущества достигаются посредством передачи генному сценарию задачи по определению соматических характеристик [4].
4 Эти рассуждения несколько меняют старую проблему эволюционного эффекта употребления/неупотребления. Ортодоксальная теория могла только предположить, что мутация, уменьшающая (потенциальный) размер неупотребляемого органа, имеет ценность для выживания с точки зрения результирующей экономии тканей. Нынешняя теория предположила бы, что атрофия органа, возникающая на соматическом уровне, может создать утечку в полной адаптивной способности организма. Этой потери адаптивной способности можно избежать, если редукция органа достигается более прямым образом через генетические детерминанты.
Можно заметить, что такая модель будет характеризоваться двумя стохастическими механизмами: во-первых, более поверхностным механизмом, посредством которого достигаются изменения на соматическом уровне, во-вторых — стохастическим механизмом мутаций (или перетасовывания генных констелляций) на уровне хромосом. В длительной перспективе при условии селекции эти две стохастические системы будут вынуждены работать сообща, даже несмотря на то, что от более поверхностной соматической системы не могут передаваться никакие сообщения к зародышевой плазме. Подозрения Самюэля Батлера, что нечто вроде "привычки" могло иметь решающее значение для эволюции, возможно, отнюдь не были выстрелом мимо цели.
После такого введения мы можем продолжить рассмотрение проблем, которые гипотеза "двойного послания" и теория шизофрении ставят перед генетикой.
Генетические проблемы, выдвигаемые теорией "двойного послания"
Коль скоро шизофрения — это модификация (искажение) процесса обучения, то, задаваясь вопросом о генетике шизофрении, мы не можем просто успокоиться на генеалогии, выделив из нее госпитализированных и негоспитализированных предков индивидуума. Мы не ожидаем a priori, что эти искажения процесса обучения (высоко формальные и абстрактные по своей природе) с необходимостью проявятся в подходящем контексте, что и приведет к госпитализации. Как генетики мы будем решать не ту простую задачу, на которой концентрируются менделисты, предполагающие между фенотипом и генотипом отношения "один на один". Мы не можем просто предположить, что госпитализированные индивидуумы несут ген шизофрении, тогда как другие его не несут. Скорее, нам следует ожидать, что некоторые гены (или констелляции генов) будут изменять паттерны (или потенциалы) процесса обучения и что некоторые из результирующих паттернов при конфронтации с соответствующими стрессорами, порождаемыми окружающей средой, будут приводить к открытой шизофрении.
В самых общих терминах генетики, любое обучение (будь то усвоение единственного бита информации или базовое изменение структуры характера всего организма) является приобретением "приобретенных признаков". Это есть изменение фенотипа, на которое оказался способен этот фенотип благодаря всей цепи физиологических и эмбриологических процессов, ведущих вспять к генотипу. Каждый шаг этой ведущей вспять последовательности может быть (что вполне можно себе представить) модифицирован или прерван воздействиями среды. Однако, разумеется, многие из этих шагов будут жесткими в том смысле, что воздействие среды на этой стадии разрушило бы организм. Нас интересуют только те пункты иерархии, в которых влияние среды возможно, а организм остается в живых. Сколько таких пунктов может существовать? Нам пока неизвестно. В конечном счете, когда мы добираемся до генотипа, нам важно знать, могут или не могут варьироваться те элементы генотипа, которые нас интересуют. Существуют ли различия от генотипа к генотипу, влияющие на возможность модификации процессов, ведущих к наблюдаемому нами фенотипическому поведению?
В случае шизофрении мы, очевидно, имеем дело со сравнительно длинной и сложной иерархией. История болезни указывает, что эта иерархия — не просто цепь причин и следствий, ведущая от генного сценария к фенотипу, но что эта цепь в некоторых пунктах обусловливается факторами среды. Кажется, что при шизофрении сами факторы среды могут модифицироваться под влиянием поведения субъекта, когда бы поведение, относящееся к шизофрении, ни возникало.
Для иллюстрации этих сложностей, возможно, стоит уделить внимание генетическим проблемам, выдвигаемым другими формами коммуникативного поведения — юмором, способностями к математике или музыкальной композиции. Возможно, во всех этих случаях существуют значительные генетические индивидуальные различия для тех факторов, которые отвечают за способность к приобретению соответствующих навыков. Но сами навыки и их конкретное проявление также сильно зависят от обстоятельств среды и даже от специфического обучения. Однако дополнением к этим двум компонентам ситуации служит факт, что индивидуум, выказывающий способности, например, к музыкальной композиции, скорее всего будет "переплавлять" свое окружение в направлении, благоприятном для развития его способностей. Сам же он, в свою очередь, будет создавать для других среду, благоприятствующую их развитию в том же направлении.
В случае с юмором ситуация может быть даже еще на шаг сложнее. В этом случае совсем не обязательно, что отношения между юмористом и его окружением будут симметричными. В некоторых случаях юморист катализирует юмор у других, но во многих иных случаях возникают хорошо известные комплементарные отношения между юмористом и "прямым" человеком. И, разумеется, если юмористу удается захватить центр сцены, он может низвести других до положения получателей юмора, не вносящих собственного вклада.
Эти соображения полностью могут быть применены к проблеме шизофрении. Любой, кто понаблюдает за трансакциями, происходящими между членами семьи идентифицированного шизофреника, немедленно заметит, что симптоматическое поведение пациента согласуется с этой средой и, разумеется, усиливает у других членов те характеристики, которые вызывают шизофреническое поведение. Таким образом, в дополнение к двум стохастическим механизмам, описанным в предыдущей части, мы теперь сталкиваемся с третьим, а именно: с механизмом таких изменений, посредством которых семья постепенно организуется (т.е. ограничивает поведение своих индивидуальных членов) таким образом, чтобы соответствовать шизофрении.
Часто задают вопрос: "Если данная семья является шизофреногенной (schizophrenogenic), то как выходит, что диагноз "шизофрения" не получают все отпрыски разом?" Здесь необходимо подчеркнуть, что семья, как и любая другая организация, зависит от создаваемой ею дифференциации между своими членами. Во многих организациях есть место только для одного босса, несмотря на тот факт, что организация работает на основе предпосылок, стимулирующих у своих членов административные навыки и амбиции. Так и в шизофреногенной семье может быть место только для одного шизофреника. Случай с юмористом вполне аналогичен. Организация семьи Маркс, породившая четырех профессиональных юмористов, определенно была совершенно исключительной24.
24 Речь идет о знаменитой династии американских комиков. — Примеч. переводчика.
Обычно одного такого индивидуума достаточно, чтобы низвести других до более обыденных поведенческих ролей. Генетика может сыграть роль в решении, кто из нескольких отпрысков должен стать шизофреником или клоуном, но нет никаких свидетельств, что подобные наследственные факторы могли бы полностью определять эволюцию ролей внутри семейной организации.
Второй вопрос, на который у нас нет окончательного ответа, касается стадии шизофрении (генетической и/или приобретенной), которую следует приписать шизофреногенному родителю. Позвольте мне для целей данного исследования определить две стадии шизофренической симптоматики и отметить, что эти две стадии иногда разделяет так называемый "психотический срыв".
Более серьезная и бросающаяся в глаза стадия симптоматики и есть то, что обычно называют шизофренией. Я буду называть ее "открытой шизофренией". Лица, отягощенные ею, выказывают поведение, сильно отклоняющееся от поведения культурного окружения. Их поведение характеризуется бросающимися в глаза или преувеличенными ошибками и искажениями, касающимися природы и типизации как их собственных сообщений (внутренних и внешних), так и сообщений, получаемых ими от других. Воображение явно путается с восприятием. Буквальное путается с метафорическим. Внутренние сообщения путаются с внешними. Тривиальное путается с жизненно важным. Отправитель сообщения путается с получателем, а получатель — с полученным. И так далее. В целом эти искажения сводятся к следующему: пациент ведет себя так, как будто он не намерен нести ответственность за метакоммуникативный аспект своих сообщений. Более того, он ведет себя так, что делает это обстоятельство очевидным: в некоторых случаях он затопляет окружающую среду сообщениями, логическая типизация которых либо полностью неясна, либо вводит в заблуждение; в других случаях он открыто устраняется до такой степени, что вообще не утруждает себя никакими явными сообщениями.
В "скрытом" случае поведение шизофреника подобным же, но менее наглядным образом характеризуется постоянным изменением логической типизации своих сообщений, а также тенденцией отвечать на сообщения других (и особенно на сообщения других членов семьи) так, как будто эти сообщения имеют логический тип, отличный от намерения говорящего. В этой системе поведения сообщения vis-a-vis постоянно дисквалифицируются посредством указания либо на то, что они неадекватно отвечают на слова "скрытого" шизофреника, либо на то, что они — продукт некоторого изъяна характера или мотивации говорящего. Более того, это деструктивное поведение в целом осуществляется так, чтобы оставаться незамеченным. До тех пор, пока "скрытому" шизофренику удается делать неправыми других, его собственная патология остается в тени, а обвинения обрушиваются на этих других. Существуют свидетельства, что, если эти лица попадают в обстоятельства, вынуждающие их признать паттерн своих действий, они боятся "коллапсировать" в открытую шизофрению. В качестве защиты своей позиции они могут даже использовать угрозу: "Ты сводишь меня с ума!"
То, что я здесь называю "скрытой шизофренией", характерно для родителей шизофреников в изученных нами семьях. Такое поведение, наблюдающееся у матери, уже стало предметом многочисленных карикатур, поэтому я приведу пример, в котором центральной фигурой является отец. Мистер и миссис П. женаты около восемнадцати лет и имеют окологебефренического сына шестнадцати лет. Брак трудный и характеризуется почти постоянной враждебностью. Она — страстный садовод, и однажды в воскресенье они вместе сажали розы в ее розарии. Она вспоминает, что это было необычно приятное событие. Утром в понедельник муж, как обычно, уходит на работу, и в его отсутствие миссис П. получает телефонный звонок от незнакомого человека, который, извиняясь, спрашивает, когда миссис П. собирается выехать из дома. Это полная неожиданность. Она не знает, что с точки зрения ее мужа сообщение, представленное совместной работой в розарии, вставлено как кадр (framed) в больший контекст договора о продаже дома, заключенного им на прошлой неделе.
В некоторых случаях дело выглядит почти так, как будто открытый шизофреник является карикатурой на скрытого.
Если мы предположим, что и обширная симптоматика идентифицированного шизофреника и "скрытая шизофрения" родителей отчасти детерминированы генетическими факторами, т.е. что при соответствующих экспериментальных условиях генетика до некоторой степени делает пациента более склонным к развитию этих специфических паттернов поведения, тогда нам следует спросить, каким образом эти две стадии патологии могут взаимоотноситься в генетической теории.
Ясно, что в настоящее время ответа на этот вопрос нет, однако вполне возможно, что мы имеем дело с двумя совершенно различными проблемами. В случае с открытым шизофреником генетик должен будет идентифицировать формальные характеристики пациента, увеличивающие его шансы быть доведенным до психотического срыва из-за скрыто непоследовательного поведения своих родителей (непосредственно или в сочетании и по контрасту с более последовательным поведением людей вне семьи). Сейчас слишком рано делать догадки об этих характеристиках, но есть основания полагать, что в них будет включен некоторый вид ригидности. Возможно, лицо, склонное к открытой шизофрении, должно характеризоваться повышенной силой психологической приверженности к status quo, как оно видит это в данный момент. Эта приверженность травмируется или фрустрируется быстрыми смещениями фреймов и контекстов, производимыми родителями. Либо, возможно, этот пациент мог бы характеризоваться высоким значением некоторого параметра, определяющего отношения между решением проблем и формированием привычек. Возможно, это такой человек, который слишком легко перепоручает решения привычкам и затем бывает травмирован теми переменами контекста, которые обесценивают его решения как раз в тот момент, когда он включил их в структуру своих привычек.
В случае скрытой шизофрении перед генетиком встает другая проблема. Он должен будет идентифицировать формальные характеристики, наблюдаемые у родителей шизофреника. Казалось бы, что здесь требуется скорее гибкость, нежели ригидность. Однако на основании некоторого опыта работы с этими людьми я должен сознаться в ощущении, что они жестко привержены своим паттернам непоследовательности.
Я не знаю, следует ли свести эти два вопроса в один посредством рассмотрения скрытых паттернов просто как более мягкой версии открытых; или же они должны быть сведены под один заголовок предположением, что в двух случаях одна и та же ригидность действует на разных уровнях.
Как бы то ни было, трудности, с которыми мы здесь сталкиваемся, полностью характерны для любых попыток найти генетическую базу для любых характеристик поведения. Заведомо известно, что знак любого сообщения или поведения может инвертироваться, и, по нашему мнению, это обобщение — один из самых важных вкладов психоанализа. Если мы обнаруживаем, что сексуальный эксгибиционист является ребенком родителей-пуритан, имеем ли мы право обратиться к специалисту с просьбой отследить генетику некоторой базовой характеристики, которая находит свое фенотипическое выражение как в пуританстве родителей, так и в эксгибиционизме отпрыска? Феномены подавления и сверхкомпенсации постоянно приводят к тому затруднению, что избыток чего-то на одном уровне (например, в генотипе) может приводить к дефициту непосредственного выражения этого "чего-то" на некотором более поверхностном уровне (например, в фенотипе). И наоборот.
Таким образом, мы еще очень далеки от возможности поставить перед генетиком специфические вопросы, однако я считаю, что более широкое приложение сказанного до некоторой степени модифицирует философию генетики. Наш подход к проблемам шизофрении с методами теории уровней или логических типов обнаружил, что проблемы адаптации, обучения и их патологии должны рассматриваться в терминах иерархической системы, в которой стохастические изменения случаются в пограничных пунктах между сегментами иерархии. Мы рассмотрели три такие зоны стохастических изменений: уровень генетических мутаций, уровень обучения и уровень семейной организации. Мы обнаружили возможность взаимосвязи этих уровней, которую ортодоксальная генетика отрицает. Мы также обнаружили, что по крайней мере в человеческих сообществах эволюционная система заключается не просто в отборе на выживание тех лиц, которым удалось найти подходящую среду, но также в модификации семейного окружения в направлении, способном усилить фенотипические и генотипические характеристики индивидуальных членов.
Что есть человек?
Если бы пятнадцать лет назад меня спросили, что я понимаю под словом "материализм", я сказал бы, что это теория о природе Вселенной, и я принял бы как нечто само собой разумеющееся то мнение, что эта теория внеморальна. Я согласился бы с тем, что ученый — это эксперт, который может предоставить самому себе и другим определенные знания и техники, но не может сказать, следует ли применять эти техники. При этом я следовал бы в общем русле научной философии, ассоциирующемся с такими именами, как Демокрит, Галилей, Ньютон [5], Лавуазье и Дарвин. Я бы отбросил менее респектабельные взгляды таких людей, как Гераклит, алхимики, Уильям Блейк, Ламарк и Самюэль Батлер. Для них научное исследование мотивировалось желанием построить всеобъемлющую картину вселенной, которая показала бы, что есть человек и как он соотносится с остальной вселенной. Картина, которую пытались построить эти люди, была этической и эстетической.
Несомненно, существуют многочисленные связи между научной истиной, с одной стороны, и красотой и моралью, с другой. Если человек усваивает ложные мнения относительно собственной природы, он будет вовлечен в действия, в некотором глубоком смысле аморальные или безобразные.
5 Имя Ньютона определенно принадлежит к этому списку. Но сам человек был другой породы. Его мистическая озабоченность алхимией и апокалиптическими текстами, его тайный теологический монизм указывают, что он был не первым объективным ученым, а скорее "последним магом" (см.: Keynes, 1947). Ньютон и Блейк были похожи в том, что посвящали много времени и размышлений мистическим работам Якоба Беме.
Форма и патология взаимоотношений
Если бы сегодня мне задали тот же вопрос о смысле материализма, я бы сказал, что в моем представлении это слово означает набор правил относительно того, какого рода вопросы о природе вселенной разрешается задавать. Но я не подразумевал бы, что этот набор правил может считаться единственно правильным.
Мистик "видит мир в одной песчинке", и видимый им мир либо морален, либо эстетичен, либо то и другое вместе. Ньютоновский ученый наблюдает закономерность в поведении падающих тел и заявляет, что не делает из этой закономерности никаких нормативных выводов. Но это заявление перестает быть последовательным в тот момент, когда он начинает проповедовать свои взгляды как правильную картину вселенной. Проповедь возможна только в терминах нормативных умозаключений.
В этой лекции я затронул несколько вопросов, которые были центром полемики в долгой битве между внеморальным материализмом и более романтической картиной вселенной. Возможно, битва между Дарвином и Самюэлем Батлером отчасти была обязана своей ожесточенностью каким-то личным счетам, однако помимо этого спор касался вопроса, имевшего религиозный статус. В действительности битва шла вокруг "витализма". Это был вопрос о том, сколько жизни и жизни какого порядка можно приписать организмам. Дарвин победил в том, что хотя ему и не удалось расправиться с загадочной жизненностью индивидуального организма, он, по меньшей мере, продемонстрировал, что картина эволюции может быть редуцирована к естественному "закону".
Следовательно, было очень важно показать, что еще незавоеванная территория — жизнь индивидуального организма — не может содержать ничего, что могло бы вновь отвоевать территорию эволюции. По-прежнему оставалось загадкой, что живые организмы могут достигать адаптивных изменений в течение своих индивидуальных жизней, и любой ценой эти адаптивные изменения знаменитые "приобретенные признаки" — не должны были получить влияния на древо эволюции. "Наследование приобретенных признаков" постоянно грозило отвоеванием поля эволюции виталистской стороной. Поэтому одна часть биологии должна была быть отделена от другой. Конечно, объективные ученые заявляли о своей вере в единство природы и о том, что в конечном счете весь мир природных феноменов станет доступным для их анализа, однако на протяжении почти ста лет было удобно иметь непроницаемый экран между биологией индивидуума и теорией эволюции. "Унаследованная память" Самюэля Батлера была атакой на этот экран.
Вопрос, который интересует меня в заключительной части этой лекции, может быть поставлен разными способами. Влияют ли изменения функции, приписываемой "приобретенным признакам", на битву между внеморальным материализмом и более мистической картиной природы? Правда ли, что старый материалистический тезис в действительности базируется на предпосылке изолируемости контекстов? Изменяется ли наша картина мира, если мы принимаем бесконечную регрессию контекстов, связанных друг с другом сложной сетью метаотношений? Изменяется ли наша лояльность к воюющим сторонам вместе с предположением, что раздельные уровни стохастических изменений (в фенотипе или генотипе) могут быть связаны в большем контексте экологической системы?
Порвав с предпосылкой, что контексты всегда могут быть концептуально изолированы, я открыл дверь для картины вселенной, значительно более целостной и в этом смысле значительно более мистической, чем картина вселенной, традиционная для внеморапьного материализма. Дает ли нам достигнутая таким образом новая позиция также и новые основания надеяться, что наука могла бы отвечать на вопросы морали и эстетики?
Я полагаю, что положение дел существенно изменилось, и, возможно, самый лучший способ внести ясность — это рассмотреть предмет, о котором вы, как психиатры, думали множество раз. Я имею в виду предмет "контроля" и весь связанный с ним комплекс, ассоциирующийся с такими словами, как "манипулирование", "спонтанность", "свобода воли" и "техника". Я думаю, вы согласитесь со мной, что нет другой такой области, в которой ложные предпосылки, касающиеся природы "Я" и его отношений с другими, были бы способны производить столько разрухи и уродства, как в области идей по поводу контроля. Человеческое существо имеет очень ограниченный контроль над тем, что происходит в его отношениях с другим человеческим существом. Оно часть агрегата, состоящего из двух лиц, и контроль, который любая часть может иметь над целым, строго ограничен.
Бесконечная регрессия контекстов, о которой я говорил, — еще один пример того же феномена. Я привнес в эту дискуссию мысль, что контраст между частью и целым (когда бы он ни возникал в сфере коммуникации) — это контраст в логической типизации. Целое всегда находится в метаотно-шениях со своими частями. Подобно тому, как в логике утверждение никогда не может определять метаутверждение, так и в вопросах контроля меньший контекст никогда не может определять больший. Я отмечал (например, при обсуждении феномена фенотипической компенсации), что если уровни так связаны между собой, что образуют самокорректирующуюся систему, то в иерархиях логической типизации на каждом уровне часто происходит некоторое изменение знака. Это проявляется в виде простой схемы в иерархии "инициаторов", которую я изучал у ятмулов в Новой Гвинее. Инициаторы — естественные враги новичков, поскольку их задачей является запугивание последних. Мужчины, которые инициировали нынешних инициаторов, теперь играют роль критиков нынешних церемоний инициации, что делает их естественными союзниками нынешних новичков. И так далее. Нечто в том же роде происходит в братствах американских колледжей, где "юниоры" имеют тенденцию объединяться с "фрешменами", а "сеньоры" — с "софоморами" [6].
6 Последовательность ступеней в американских колледжах такова: сначала идут "freshmen", соответствующие нашим первокурсникам, затем "sophomores", т.е. второкурсники, затем "juniors", т.е. преддипломники, и наконец "seniors", т.е. выпускники. — Примеч. переводчика.
Это дает нам картину совершенно неисследованного мира. Некоторые из этих сложностей могут быть проиллюстрированы следующей очень грубой и несовершенной аналогией. Я думаю, что функционирование таких иерархий можно сравнить с задачей подать назад грузовик с одним или несколькими прицепами. Каждый сегмент такой системы означает инвертирование знака, и каждый новый сегмент означает радикальное уменьшение объема того контроля, который может осуществлять водитель грузовика. Если вся система параллельна правому краю дороги и водитель хочет поставить ближайший прицеп ближе к правому краю, он должен повернуть передние колеса налево. Это направит корму грузовика прочь от правой стороны дороги, а переднюю часть прицепа потянет налево. Это заставит корму прицепа развернуться направо. И так далее.
Каждый, кто пытался это проделать, знает, что объем доступного контроля быстро падает. Подать назад грузовик с одним прицепом уже достаточно трудно, поскольку существует только ограниченный диапазон углов, в котором может осуществляться контроль. Если прицеп стоит с грузовиком на одной (или почти на одной) линии, контроль возможен, но по мере уменьшения угла между грузовиком и прицепом достигается точка, в которой контроль утрачивается и попытки осуществлять его приводят только к складыванию системы подобно перочинному ножу. Если же добавляется второй прицеп, порог складывания радикально снижается и возможность контроля становится пренебрежимо малой.
По моему мнению, мир состоит из очень сложной сети (т.е. даже не цепи) сущностей, имеющих подобный тип взаимоотношений, с той только разницей, что многие из этих сущностей имеют свои собственные источники энергии и, возможно, даже свои собственные идеи о том, куда они хотели бы двигаться.
В таком мире вопросы контроля относятся скорее к искусству, чем к науке, и не просто потому, что мы склонны считать все трудное и непредсказуемое подходящим контекстом для искусства, но также и потому, что результатом ошибки скорее всего будет уродство.
Позвольте мне закончить предупреждением, что мы, социальные исследователи, очень хорошо сделаем, если будем сдерживать свое стремление контролировать мир, который так слабо понимаем. Нельзя позволить факту несовершенства нашего понимания питать нашу неуверенность и тем увеличивать потребность в контроле. Скорее, наши исследования могли бы вдохновляться более древним мотивом, который сейчас не в почете, — любопытством к миру, частью которого мы являемся. Вознаграждается такая работа не властью, а красотой.
Существует странный факт, что все великие научные прорывы — и не в последнюю очередь прорыв, достигнутый Ньютоном, — были элегантными.