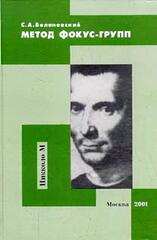XIX. Созидательная функция речи (речь в переносе)
Всякое значение отсылает к другому значению. Собеседники Улисса. Перенос и реальность. Понятие является временем вещи. Иероглифы.
Доктор Гранов хочет сделать сообщение, которое, похоже, продолжает линию наших последних обсуждений. Появление подобных инициатив я нахожу весьма уместным и вполне согласующимся с духом диалога, который я желал бы поддерживать на протяжении наших встреч, — ведь не будем забывать, что это прежде всего семинар. Я не знаю, что он подготовил для нас этим утром.
Доклад Гранова касается двух статей апрельского номера "Psycho-analytic" Review за 1954 год: "Emotion, InstinctandPainpleasure", написанной АСЬяртап Isham, а также "Astudyofdreamindepth, itscorollaryandconsequences", написанной CBennitt.
Обе эти обширные статьи, написанные на высоком теоретическом уровне, перекликаются с тем, что делаю здесь я. Однако каждая из них останавливает внимание на различных моментах.
В первой упор делается на выведении эмоции в качестве последней реальности, с которой мы имеем дело, и собственно говоря, объекта нашего опыта. Такая концепция отвечает желанию найти где-то объект, который как можно более походил бы на объекты других регистров.
Александеру принадлежит большая статья, о которой, быть может, мы поговорим как-нибудь и которая называется "Logicofemotions". Эта статья затрагивает самую суть аналитической теории.
К оглавлению
310 Речь в ней идет о том же, что и в последней статье Чэпмен Ишэма, — о введении диалектики в тот регистр, который мы привыкли считать регистром аффективности. Александер исходит из хорошо известной логико-символической схемы, где Фрейд выводит различные формы бреда в соответствии с различными способами отрицания утверждения "Я его люблю": Это не я еголюблю — Ялюблю не его — Я его нелюблю — Онменя ненавидит — Это он меня любит — что объясняет генезис различных видов бреда: бреда ревности, бреда страсти, бреда преследования, бреда эротомании и т. д. Итак, именно сложное символическое структурирование, опирающееся на хорошо отработанные грамматические преобразования, позволяет нам понять превращения, я сказал бы даже, метаболизм, имеющий место в предсознательном порядке.
Таким образом, первая статья, прокомментированная Грановым, интересна тем, что по тенденции своей она противостоит главенствующему на сегодняшний день теоретическому направлению психоанализа. Вторая статья кажется мне еще более интересной, поскольку в ней исследуется то, к какой "потусторонней" области, к какой реальности, к какой "действительности", как говорится в статье, отсылает нас значение. Это ключевая проблема.
Вы непременно окажетесь на тупиковом пути (что прекрасно демонстрируется современными тупиками аналитической теории), если не знаете, что значение отсылает всегда лишь к себе самому, т. е. к другому значению.
Всякий раз, как в анализе языка нам приходится искать значение некоторого слова, в нашем распоряжении есть лишь один верный метод — изучить все способы употребления данного слова в языке. Если вы хотите узнать значение во французском языке слова main, вы должны составить список этих способов, где учитывалось бы не только те случаи, когда оно представляет орган, кисть руки, но также его участие в словах типа татd'oeuwe (рабочая сила, рабочие руки), тсаптке (захват, порабощение), mammorte (крепостное состояние, связанное с лишением права распоряжаться своим имуществом) и т. д. Значение слова задается всей суммой его использований.
Как раз с этим-то мы и имеем дело в анализе. Нам ни к чему изнурять себя поиском дополнительных смысловых связей. Что за нужда говорить о реальности, которая была бы основой так называемых метафорических использований слова? Любое использование слова является в некотором смысле метафорическим. Метафору не следует отделять, вопреки тому, что говорит Джонс в начале своей статьи о теории символизма, от самого символа и его использования. Пусть я обращаюсь к какомунибудь существу, сотворенному или предвечному, называя его "солнце души моей", — будет ошибкой думать, подобно Джонсу, что речь здесь идет о сравнении между тем, чем являешься ты для моей души, и тем, что представляет собой солнце, и т. п. Сравнение является лишь вторичным развертыванием первичного явления на свет самого метафорического отношения, которое бесконечно богаче всего того, что я в состоянии вам сейчас по этому поводу рассказать.
Это явление на свет включает в себя все то, что может присоединиться к нему впоследствии и что я, сам того не ведая, успел сказать. Благодаря тому, что я сформулировал подобное отношение, в область символа вступаю я сам, мое существо, мое признание, моя мольба. Выражение это само собой подразумевает тот факт, что солнце согревает меня, дает мне жизнь, является центром моей гравитации и еще, что оно производит ту тусклую сторону тени, о которой говорит Валери, и что оно же слепит меня, придавая вещам ложную очевидность и обманчивое сияние. Ведь максимум света является одновременно и источником всякого мрака. Все это подразумевается символическим обращением. Появление символа буквально творит в человеческих отношениях порядок нового бытия.
Вы возразите мне, что все же существуют несводимые выражения. И кроме того, сошлетесь на то, что творческое употребление символического обращения мы всегда можем свести к уровню фактов, и что для метафоры, приведенной мной в качестве примера, всегда найдутся более простые, органические, животные выражения. Попытайтесь сделать это сами — вы убедитесь, что никогда не выйдете за пределы мира символа.
Допустим, вы станете ссылаться на органические признаки так, например, в начале "Сида" чтобы выразить свое любовное чувство по отношению к молодому кавалеру, инфанта говорит Леонору: "Приложи свою руку к моему сердцу". Что ж, ссылка на органические признаки используется внутри признания как свидетельство — свидетельство, приобретающее свою остроту лишь в той мере, как: "Я помню, унизиться в своем сане мне было все равно, что кровь пролить*. В самом деле, ровно в той мере, как она запрещает себе свое чувство, она взывает к фактическому элементу. Факт биения ее сердца приобретает свой смысл лишь внутри символического мира, вырисовывающегося в диалектике чувства, которое борется с собой или которому неявно отказано в признании той, что его испытывает.
Итак, как вы видите, мы подошли к тому, на чем остановились в прошлый раз.
Всякий раз, когда мы находимся внутри строя речи, все, что утверждает в реальности некоторую другую реальность, в пределе, приобретает свой смысл и свою остроту лишь в зависимости от самого этого строя речи. Если эмоция может быть подвергнута смещению, инвертированию, торможению, если она вовлекается в определенную диалектику, то именно потому, что она захвачена символическим порядком, исходя из которого другие порядки, воображаемое и реальное, занимают свое место и упорядочиваются.
Еще и еще раз я попытаюсь дать вам это почувствовать. Давайте сочиним одну байку.
Однажды спутники Улисса — как вам известно, с ними случалось немало всяких злоключений, и я думаю, что ни одному не удалось завершить ту их прогулку — были превращены за их постыдные склонности в свиней. Тема метаморфоз вполне справедливо вызывает наш интерес, поскольку она ставит проблему границы между человеком и животным.
Итак, они были превращены в свиней, а мы попробуем продолжить историю.
Надо полагать, они сохранили все же какие-то связи с человеческим миром, поскольку в свинарнике — а свинарник является обществом — они сообщают при помощи хрюканья о своихразличных потребностях, голоде, жажде, похоти и даже стадном чувстве. Но это еще не все.
Что можно сказать о таком хрюканье? Не является ли оно одновременно посланием, адресованным иному миру? Вот что лично я здесь слышу. Спутники Улисса хрюкают следующее: "Мы сожалеем об Улиссе, жаль, что его нет с нами, мы сожалеем о его наставлениях, о том, чем он был для нас в жизни."
Благодаря чему в хрюканье, доносящемся до нас среди шумного шуршанья щетины в замкнутом пространстве свинарника, мы распознаем речь? Не потому ли, что тут выражается некоторое амбивалентное чувство?
В данном случае мы прекрасно видим то, что в разряде эмоций и чувств мы называем амбивалентностью. Ведь Улисс в качестве проводника был своим спутникам скорее неприятен. Однако когда те были превращены в свиней, у них, конечно же был повод сожалеть об его отсутствии. Откуда и возникает догадка о том, что они сообщают.
Таким измерением нельзя пренебречь. Но достаточно ли его, чтобы сделать из хрюканья речь? Нет, поскольку эмоциональная амбивалентность хрюканья представляет собой реальность, которая по сути своей не организована.
Хрюканье свиньи становится речью лишь тогда, когда кто-либо задается вопросом, во что оно хочет заставить нас поверить. Речь является речью ровно в той мере, как кто-либо верит ей.
И во что же, хрюкая, хотят заставить нас поверить спутники Улисса, превращенные в свиней? — Да в то, что они еще сохранили нечто человеческое. И в таком случае ностальгия по Улиссу равноценна их, свиней, притязанию быть признанными в качестве спутников Улисса.
Именно к этому измерению принадлежит речь в первую очередь. Речь, по сути своей, является средством получения признания. Она уже здесь — прежде всего того, что лежит позади. И потому она амбивалентна и совершенно бездонна. Истинно ли то, что она говорит? Или нет? — Это мираж. Это первоначальный мираж, убеждающий вас в том, что вы находитесь в области речи.
Без этого измерения коммуникация представляет собой лишь некоторое средство передачи, примерно того же порядка, что и механическое движение. Я только что упоминал о шуршании щетины, о шорохе общения внутри свинарника. Да, именно так — анализ хрюканья целиком сводится к механическим терминам. Но с тех пор как хрюканье хочет нас заставить поверить во что-то и требует признания, существует речь. Вот почему, в некотором смысле можно говорить о языке животных. Язык животных существует ровно постольку, поскольку есть кто-либо, чтобы его понять.
Обратимся к другому примеру, заимствованному мной из статьи Нюнберга, вышедшей в 1951 году, "Transferenceandreality". Вопрос в ней ставится о том, что такое перенос. Все та же проблема.
Крайне забавно видеть, как далеко заходит в ней автор и насколько он запутывается. Для него все происходит на уровне воображаемого. Основанием переноса, полагает он, является проецирование в реальность чего-то, что в ней отсутствует. Субъект требует, чтобы его партнер являл собой форму, модель его отца, например.
Вначале он упоминает случай одной пациентки, которая все время сурово распекала аналитика, бранила его, упрекала его в том, что он плохо работает, что его вмешательства неумелы, что он ошибается и дурно ведет себя. Что эте^-случай переноса? спрашивает себя Нюнберг.
Любопытно, что он (имея на то свои основания) отвечает нет, здесь скорее готовность, readiness, к переносу. В этот момент в своих обвинениях пациентка дает услышать требование, первичное требование реального лица, и несоответствие реального мира в отношении требуемого как раз и движет ее неудовлетворенностью. Это не перенос, но его условие.
С какого же момента возникает перенос на самом деле? С того момента, когда образ, требуемый субъектом, смешивается для него с реальностью, в которой он находится. Весь прогресс анализа состоит в том, чтобы показать ему различие двух данных плоскостей, рассоединить воображаемое и реальное. Это классическая теория — поведение субъекта, собственно говоря, иллюзорно, и ему дают понять, насколько мало приспособлено оно к действительной ситуации.
Однако мы непрестанно замечаем, что перенос вовсе не является иллюзорным феноменом. Психоанализ не заключается в том, чтобы сказать пациенту: "Друг мой, чувство, которое вы испытываете ко мне, происходит от переноса". Так мы вряд ли что-нибудь приведем в порядок. Но, к счастью, если авторы неплохо ориентируются в своей практике, они приводят примеры, которые изобличают их теорию и доказывают, что им не чуждо определенное чувство истины. Так происходит и в случае Нюнберга. Пример, приводимый им в качестве типичного примера опыта переноса, чрезвычайно поучителен.
Нюнберг рассказывает об одном своем пациенте, который сообщал ему максимальное количество материала, искренне, доверительно и подробно излагая вещи, заботясь о полноте своего рассказа… И тем не менее, никакого движения. Ничего не менялось до тех пор, пока Нюнберг не заметил, что, как оказалось, аналитическая ситуация воспроизводила для пациента ситуацию из его детства, когда он не раз доверительно сообщал свои секреты своей собеседнице, которой была не кто иная, как его мать, приходившая каждый вечер посидеть у него в ногах на кровати. Пациент, эдакая Шехерезада, находил удовольствие в том, чтобы давать исчерпывающий отчет о своем дне, о своих поступках, желаниях, склонностях, сомнениях, упреках, никогда ничего не скрывая. Теплое присутствие его матери, переодетой на ночь, было для него источником совершенно самостоятельного, особого удовольствия от угадывания под ее рубашкой очертаний ее груди, тела. Так проходили первые в его жизни сексуальные исследования любимой партнерши.
Как это следует анализировать? Постараемся быть хоть немного последовательными. Что же это значит?
Здесь упомянуты две различные ситуации — пациент и его мать, пациент и аналитик.
В первой ситуации субъект получает удовольствие посредством словесного обмена. Мы легко можем различить здесь две плоскости: плоскость символических отношений, которые в данном случае, конечно, подчинены, искажены отношением воображаемым. С другой стороны, в анализе пациент ведет себя совершенно доверительно и совершенно добровольно подчиняется правилу. Следует ли из этого заключить, что тут присутствует удовлетворение, сходное с первичным удовлетворением? Во многом само собой напрашивается решение — ну да, конечно лее, субъект вновь ищет сходного удовлетворения. Не колеблясь, вы заговорите об автоматизме повторения и о чем угодно прочем. Аналитик будет горд тем, что обнаружил позади такой речи какое-то чувство или эмоцию, которое-де вскрывает присутствие психологической потусторонности, конституированной по ту сторону речи.
Но одумаемся! Прежде всего, позиция аналитика в точности обратна позиции матери, он сидит не в ногах, а позади него, к тому же он далек от того, чтобы источать, по крайней мере, как правило, очарование первичного объекта и располагать к тем же вожделениям. Во всяком случае, никак уж не аналогия здесь напрашивается.
Все, что я сейчас сказал, — это, конечно, азбука. Но лишь разбирая структуру по складам, и говоря простые вещи, мы можем научиться считать по пальцам элементы ситуации, внутри которой мы действуем.
Нам важно понять следующее — почему с того момента, как отношение двух ситуаций было открыто субъекту, происходит полное преобразование аналитической ситуации? Почему те же самые слова станут теперь эффективными и ознаменуют собой подлинный прогресс в существовании субъекта? Попробуем немного поразмыслить.
Речь как таковая имеет место в структуре семантического мира — мира языка. Речь никогда не ограничивается единственным смыслом, а слово — единственным употреблением. За всякой речью что-то стоит; всякая речь выполняет несколько функций, имеет несколько смыслов. Позади того, что в дискурсе сказано, существует то, что имелось в виду, а позади этого "имелось в виду" есть еще другое, и так до бесконечности — если только не прийти к убеждению, что речь обладает созидательной функцией, что она-то и приводит к появлению самой вещи, которая является не чем иным, как понятием.
Помните, что Гегель говорит о понятии: "Понятие является временем вещи". Конечно, понятие не является вещью в плане того, что есть вещь, по той простой причине, что понятие всегда находится там, где вещи нет; понятие замещает собой вещь, подобно слону, которого однажды я привел сюда через посредничество слова "слон". Если некоторые из вас были этим настолько поражены, то именно благодаря всей очевидности присутствия слона с того момента, как он был нами назван. Что же может быть здесь от вещи? Это ни ее форма, ни ее реальность, поскольку в действительности все места заняты. Гегель заявляет об этом со всей строгостью — понятие является тем, что позволяет вещи присутствовать там, где она отсутствует.
Кроме того, благодаря тождеству в различии, характеризующему отношение понятия к вещи, вещь является вещью, afact, как нам только что об этом сказали, символизируется. Мы говорим о вещах, а не о чем-то неопределяемом.
Уже Гераклит сообщает нам, что если мы утверждаем существование вещей в абсолютном движении, таком, что мировой поток никогда к прежней ситуации не возвращается, то именно потому, что тождество в различии уже достигло в вещи насыщения. А из этого Гегель делает вывод, что понятие является временем вещи.
Здесь перед нами ключ к разгадке того, что имел в виду Фрейд, сказав, что бессознательное располагается вне времени. Это верно, и в то же время не верно. Оно располагается вне времени в качестве понятия, поскольку само по себе является временем, чистым временем вещи, и может как таковое воспроизвести вещь в некоторой модуляции, материальным носителем которой может быть все что угодно. Автоматизм повторения состоит именно в этом. Это замечание имеет далеко идущие последствия, затрагивая в том числе и проблему времени, поставленную практикой психоанализа.
Вернемся к нашему примеру — почему течение анализа меняется с того момента, как ситуация переноса была проанализирована указанием на прежнюю ситуацию, когда субъект находился в присутствии объекта совершенно отличного, ни в чем не подобного объекту настоящему? Потому что настоящая речь, как и речь прежняя, заключена в скобки времени, в форму времени, если можно так выразиться. Если модуляция времени тождественна, речь аналитика оказывается имеющей ту же значимость, что и прежняя речь.
Значимость эта принадлежит именно речи. Здесь нет никаких воображаемых чувств и проекций, а г-н Нюнберг, до изнеможения выстраивая их, оказывается в безвыходной ситуации.
Для Левенштайна речь идет не о проекции, а о смещении. Вот она, мифология, весьма напоминающая лабиринт. Выбраться из него можно лишь признав, что элемент времени является конституирующим измерением порядка речи.
Если действительно понятие является временем, мы должны анализировать речь по этажам, отыскивать ее многочисленные смыслы между строк. Бесконечна ли такая работа? Нет, не бесконечна. Однако то, что вскрывается в последнюю очередь, последнее слово, последний смысл, является той временной формой, о которой мы с вами беседуем и которая уже сама по себе является речью. Последний смысл речи субъекта перед аналитиком — это его экзистенциальное предстояние объекту его желания.
Такой нарциссический мираж не приобретает в этом случае никакой особой формы, это не что иное, как то, что служит опорой отношению человека к объекту его желания и всегда оставляет его изолированным в так называемом предварительном удовольствии. Отношение это является зрительным по отношению к этой ситуации, на самом деле — чисто воображаемой, речь им как бы приостанавливается.
В такой ситуации нет ничего от настоящего, от эмоционального, от реального. Но, будучи однажды достигнута, она изменяет смысл речи, она открывает субъекту, что его речь является лишь тем, что я назвал в моем римском докладе "пустой речью', и что именно поэтому она не имеет никакого эффекта.
Все это непросто. Понятно ли вам сказанное мной? Вы должны усвоить, что потусторонность, к которой отсылает нас речь пациента, всегда является другой речью, более глубокой. Что касается предела внятности речи, то обусловлен он резонансом всех ее смыслов. В конечном счете, нам следует отталкиваться от самого акта речи. Именно значимость совершаемого в настоящем акта и делает речь пустой или полной. Анализируя перенос, мы должны понять, в какой точке ее присутствия речь является полной.
Если подобное толкование показалось вам несколько умозрительным, в качестве доказательства я могу привести вам ссылку на Фрейда; ведь целью моей является комментирование его текстов, и я нахожу уместным заметить, что в объяснениях своих я строго придерживаюсь ортодоксальной концепции.
В какой момент в творчестве Фрейда появляется слово "Obertragung", перенос? Оно появляется не в "Работах о технике психоанализа", и не в связи с реальными или воображаемыми и даже символическими отношениями к субъекту. Не связано оно и со случаем Доры и его неудачами в этом анализе — ведь он, по собственному признанию, не сумел ей вовремя сказать, что она начала испытывать к нему нежное чувство. А происходит это в седьмой главе "Traumdeutung' под названием "Психология деятельности сновидения".
Быть может, в скором будущем мы посвятим наши встречи и комментарию этой книги. Фрейд пытается в ней продемонстрировать происходящее в работе сновидения напластование значений некоторого означающего материала. Фрейд показывает нам, как речь, то есть передача желания, может давать о себе знать через все что угодно, лишь бы это "что угодно" было организовано в символическую систему. Вот где находится источник так долго остававшегося загадочным характера сновидения. И по той же причине так долго не могли понять иероглифы — их не пытались составить в их собственную символическую систему и не замечали, что крошечный человеческий силуэт мог означать человека, а мог и представлять звук "человек", входящий в состав какого-то слова в качестве слога. Сон подобен иероглифам. Как вам известно, Фрейд ссылается на Розеттский камень.
Что же Фрейд называет"'Obertragung"'? Это феномен, говорит он, обусловленный тем, что для некоторого вытесненного желания субъекта не существует никакого возможного прямого способа передачи. Желание это является в дискурсе субъекта запретным и не может добиться признания. Почему? Потому что среди элементов вытеснения есть нечто причастное невыразимому. Существуют отношения, которые никакой дискурс не может выразить, разве что — между строк.
В следующий раз мы поговорим об эзотерическом труде, "Руководстве для заблудших" Маймонида. Вы увидите, каким образом он умышленно организует свой дискурс так, чтобы то, что он хочет сказать и что само по себе неизреченно — это его слова, — могло бы тем не менее открыться. То, что не может или не должно быть сказано, он говорит посредством определенного беспорядка, определенных разрывов, интенциональной несогласуемости. Но способ организации дискурса субъекта также находит свое выражение — только нечаянное, спонтанное — в ляпсусах, брешах, умолчаниях, повторениях. Вот что должны мы уметь прочесть. Мы еще вернемся к этому, поскольку такие тексты стоит сопоставить.
Что же говорит Фрейд в своем первом определении "Ubertragung"? Он говорит нам о Tagesreste — об остатках дневной жизни, дезыинвестированных, как он говорит, с точки зрения желания. В сновидении они предстают как блуждающие формы, лишенные для субъекта всякой важности — и лишенные собственного смысла. Таким образом, это означающий материал. Означающий материал, будь он фонематическим, иероглифическим и т. д., конституирован формами, утратившими их собственное значение и задействованными в новой организации, посредством которой иной смысл стремится выразиться. Вот что именно называет Фрейд "Ubertragung".
Бессознательное, то есть невыразимое, желание находит тем не менее способ выразиться посредством алфавита, фонематики дневных остатков, которые сами по себе желанием не нагружены. Таким образом, это феномен языка в чистом виде. Вот чему Фрейд дает имя "Ubertragung", когда употребляет этот термин.
Конечно, в том, что происходит в анализе, по сравнению с тем, что происходит в сновидении, имеется дополнительное и существенное измерение — здесь присутствует другой. Но заметим также, что сновидения становятся более ясными, легче поддаются анализу по мере его продвижения. Это следствие того, что речь сновидения в большей степени становится ориентирована на аналитика. Лучшие сновидения, сообщаемые нам Фрейдом, самые богатые, красочные, сложные — это те, что возникали в ходе анализа и стремились сказать нечто аналитику.
Кроме того, здесь есть кое-что, что должно разъяснить и собственное значение термина acting-out. Если только что я говорил об автоматизме повторения и говорил о нем, главным образом, в связи с языком, то именно потому, что всякое действие во время сеанса, acting-out или acting-in, включено в контекст речи. Acting-out называют все, что бы ни происходило в процессе лечения. И это не зря. Если в ходе анализа пациенты часто стремятся совершить множество эротических действий, как, например, жениться, очевидно, что это происходит посредством acting-out. Если они действуют, то действия их адресованы аналитику.
Вот почему следует перенос и acting-out анализировать, то есть обнаруживать в акте его речевой смысл. Когда субъекту важно добиться признания, акт становится речью.
На этом мы сегодня остановимся.
16 июня 1954 года.