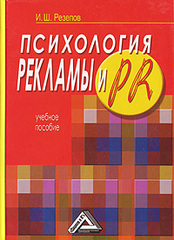III.. МОИСЕЙ, ЕГО НАРОД И МОНОТЕИСТИЧЕСКАЯ РЕЛИГИЯ
ЧАСТЬ I.
Д. ТРУДНОСТИ
Возможно, тем, что я сказал, мне удалось установить аналогию между невротическими процессами и религиозными событиями и таким образом указать на неожиданное происхождение последних. В этом. переходе от индивидуальной психологии к групповой возникают две трудности, отличающиеся по своей сущности и значению, к которым мы должны сейчас обратиться.
Первая из них заключается в том, что мы здесь имели дело только с одним примером из обширной феноменологии религии и не пролили свет ни на какие другие. Я должен с сожалением согласиться, что не способен представить более чем этот один пример, и что моих специальных знаний недостаточно, чтобы завершить это исследование. Из своей ограниченной информации я могу, возможно, добавить, что история основания магометанской религии представляется мне подобной сокращенному варианту еврейской, в качестве имитации которой она и возникла. Действительно, похоже, что сначала Пророк намеревался полностью принять иудаизм для себя и своего народа. Возврат единого великого первоначального отца принес арабам исключительное возвеличивание их самоуверенности, которая привела к большим мирским успехам, но истощилась в них. Аллах показал себя намного более благодарным по отношению к своему народу, чем Яхве к своему. Но внутреннее развитие новой религии вскоре остановилось, возможно потому, что ей не хватило глубины, которая в случае евреев возникла в связи с убийством основателя их религии. Явно рационалистические религии Востока по своей сути являются поклонением предкам, и поэтому также остановились на ранней стадии реконструкции прошлого. Если верно то, что единственным содержанием религии примитивных народов современности является признание существования высшего существа, то мы можем рассматривать это лишь как остановку религиозного развития и приравнять к бесчисленным случаям рудиментарных неврозов, которые можно наблюдать в другой области. Наших знаний в обоих случаях недостаточно, чтобы прояснить, почему в одном случае, точно так же как и в другом, дело не пошло дальше. Мы можем только приписать ответственность за это индивидуальным особенностям этих народов, направлению, которое приняла их деятельность и их общему социальному положению. Кроме того, в практике психоанализа хорошим правилом является удовлетворяться объяснением только того, что на самом деле произошло, и не пытаться объяснить то, чего не было.
Вторая сложность в отношении этого перехода к групповой психологии намного более значительна, потому что она поднимает новую фундаментальную проблему. Она поднимает вопрос: в какой форме представлено действующее предание в жизни народа — вопрос, который не возникает в отношении личностей, так как здесь он решается существованием бессознательной памяти о прошлом. Давайте вернемся к нашему историческому примеру. Мы приписали компромисс в Кадесе сохранению мощного предания среди вернувшихся из Египта. Этот случай не представляет никакой проблемы. Согласно нашей теории, предание такого типа было основано на осознанных воспоминаниях, переданных устным образом людям их предками, которые два или три поколения назад сами были участниками и свидетелями данных событий. Но можем ли мы утверждать, что то же самое верно и в отношении более поздних столетий — что Предание также основывалось на знаниях, обычно передаваемых от деда к внуку? Уже больше невозможно сказать, как это было в предшествующем случае, кто были люди, сохранявшие эти знания и передающие их из уст в уста. Согласно Ссллину, предание об убийстве Моисея всегда было достоянием священнических кругов, пока в конце концов оно не было зафиксировано на бумаге, и лишь это дало возможность Селлину обнаружить его. Но оно могло быть известно лишь немногим; оно не было достоянием широких масс. Достаточно ли этого, чтобы объяснить его воздействие? Можно ли приписать знаниям, которыми подобным образом обладали лишь некоторые люди, силу, способную вызвать такое устойчивое чувство в массах, когда они оказываются доступны им? Скорее, это выглядит так, что в самих несведущих массах также должно было присутствовать что-то, некоторым образом сродни знаниям немногих, что встретило эти знания на полпути, когда они были обнародованы.
Решение становится еще более сложным, когда мы обращаемся к аналогичному случаю из первобытных времен. Вполне определенно, что в ходе тысячелетий был забыт сам факт существования первоначального отца, обладающего известными нам чертами, и то, какова была его судьба; не можем мы также и предположить, что об этом могло существовать какое-либо устное предание, как мы можем сделать в случае Моисея. Тогда вообще каково же значение в этом вопросе предания? В какой форме оно может присутствовать?
Для того, чтобы облегчить дело для читателей, которые не желают или не готовы окунуться в сложное психологическое объяснение событий, я, забегая вперед, изложу результат исследования, которое будет представлено ниже. По моему мнению, в этом отношении между индивидуальным и групповым существует почти полное соответствие: в группе впечатления прошлого также сохраняются в бессознательных следах памяти.
Мы полагаем, что в случае индивида мы можем видеть это ясно. В его памяти сохраняется след о ранних переживаниях, но в особой психологической форме. Можно сказать, что индивид знал об этих переживаниях всегда, так же, как он знает о подавленном. Здесь мы сформулировали ряд идей, которые без труда могут быть подтверждены при помощи психоанализа, относительно того, как что-то может быть забыто, и как спустя некоторое время оно может появиться вновь. То, что забыто, не уничтожается, а только «подавляется»; его следы совершенно отчетливо присутствуют в памяти, но они изолированы «антикатексами». Они не могут вступить в контакт с другими интеллектуальными процессами; они бессознательны — недоступны сознанию. Может быть также, что некоторые части подавленного, избежав [подавления], остаются доступными воспоминанию и иногда всплывают в сознании; но даже в этом случае они изолированы, подобно чужеродным телам, и не имеют никакой связи с остальными. Это возможно, но не обязательно; подавление также может быть и полным, и именно с этой альтернативой мы будем иметь дело дальше.
Подавленное сохраняет свои побуждения выйти наверх, усилия прорваться в сознание. Оно достигает своей цели при наличии трех обстоятельств:
(1) если сила антикатексов ослаблена патологическими процессами, которые охватывают другую часть [психики], ту, которую мы называем Я, или другим распределением катексной энергии в Я, что постоянно происходит во сне;
(2) если инстинктивные элементы, связанные с подавленным материалом особым образом усиливаются (лучшим примером этого является процесс во время полового созревания); и
(3) если в последнее время имели место впечатления или переживания, которые так близко напоминают подавленное, что могут пробудить его. В последнем случае недавние переживания усиливаются латентной энергией подавленного, и подавленное выходит наружу вслед за недавним переживанием и с его помощью.
Ни при одной из этих тех альтернатив то, что было подавлено, не входит в сознание беспрепятственно и в неизменном виде; ему всегда приходится мириться с искажениями, которые свидетельствуют либо о воздействии сопротивления (которое было преодолено не полностью), вызванного антикатексами, либо о модифицирующем влиянии недавних переживаний, либо о том и другом вместе.
Различие, сознательный это психический процесс или бессознательный, служило нам в качестве критерия и средства определения нашего положения. Подавленное является бессознательным. Дело было бы приятным образом упрощено, если бы это утверждение допускало обратное — то есть, если бы различия между свойствами сознательного и бессознательного совпадали с различиями между «относящимся к Я и «подавленным»[129]. Открытие существования изолированных и бессознательных элементов подобного рода в нашей психической жизни было бы достаточно новым и значительным. Но на самом деле положение вещей оказывается более сложным. Действительно, все подавленное является бессознательным, но далеко не все, относящееся к Я, является сознательным. Мы замечаем, что сознание — свойство скоротечное, которое сопутствует психическим процессам только эпизодически. Поэтому для наших целей мы должны заменить «сознательное» на «способное быть сознательным» и мы называем это свойство «предсознательным». И тогда мы можем более точно указать, что Я главным образом является предсознательным (в сущности сознательным), но некоторые части Я — бессознательны.
Установление этого последнего факта показывает, что свойств, на которые мы до сих пор полагались, недостаточно для того, чтобы определить наше положение в тумане психической жизни. Мы должны ввести другое разграничение, которое теперь уже будет не качественным, а топографическим и — что придает ему особую ценность — в то же время генетическим. Теперь мы различаем в нашей психической жизни (которую рассматриваем как структуру, состоящую из нескольких участков, областей или сфер) один участок, который называем собственно Я и другой, который мы называем Оно. Оно — более древнее; Я развилось из него, как кортикальный слой, под воздействием внешнего мира. Именно в Оно функционируют все наши первичные инстинкты, все процессы в Оно происходят бессознательно. Я, как мы уже говорили, совпадает с областью предсознательного; включает в себя части, которые обычно остаются бессознательными. События, происходящие в Оно, и их взаимные воздействия друг на друга подчиняются совершенно другим законам, чем те, которые господствуют в Я. Фактически, именно открытие этих различий обусловило наш новый взгляд и оправдывает его.
Подавленное следует отнести к Оно и считать подчиняющимся тем же механизмам; оно отличается от него только в отношении своего происхождения. Дифференциация происходит в самый ранний период жизни, в то время, когда Я развивается из Оно. В это время часть содержимого Оно принимается в Я и поднимается до уровня предсознательного; на другую часть это перемещение не оказывает влияния, и она остается в Оно как собственно бессознательное. Однако, в ходе дальнейшего формирования Я некоторые психические отпечатки и процессы Я исключаются [т. е. изгоняются] из него процессом защиты; они теряют характер предсознательного и снова превращаются в части Оно. Это и есть «подавленное» в Оно. Следовательно, относительно обмена между двумя психическими сферами можно считать, что с одной стороны, бессознательные процессы в Оно поднимаются до уровня предсознательных и включаются в Я, и что, с другой стороны, пред сознательный материал в Я может последовать по обратному пути и вернуться обратно в Оно. То, что предсознательный материал, относящийся к другой сфере — сфере Сверх-я — отделяется от Я, не входит в круг наших настоящих интересов[130].
Все это может выглядеть совсем не просто[131]. Но когда начинаешь привыкать к этому непривычному пространственному взгляду на психический аппарат, то это перестает казаться особенно трудным. Я добавлю еще одно примечание, что психическая топография, которую я здесь изложил, не имеет никакого отношения к анатомии мозга и фактически касается ее лишь в одном моменте[132]. То, что не удовлетворяет нас в этой картине — и я понимаю это не хуже, чем кто-либо другой — обусловлено нашим полнейшим незнанием динамической природы психических процессов. Мы говорим себе, что то, что отличает сознательную мысль от предсознательной, а последнюю от бессознательной, может быть лишь модификацией или, возможно, иным распределением психической энергии. Мы говорим о катексах и гиперкатексах, но кроме этого мы ничего не знаем об этом вопросе, и у нас нет даже никакой исходной точки для построения удовлетворительной рабочей гипотезы. В отношении феномена сознания мы, по крайней мере, можем сказать, что первоначально оно было связано с восприятием. Все ощущения, которые берут свое начало от восприятия болевых, тактильных, слуховых или зрительных раздражителей, становятся сознательными легче всего. Мысленные процессы и все то, что может соответствовать им в Оно, сами по себе являются бессознательными и достигают сознания, соединившись с мнемоническими отпечатками зрительного и слухового восприятия, посредством функций речи[133]. У животных, которые не обладают речью, этот путь должен быть более простым.
Отпечатки ранних травм, с которых мы начали, или переводятся в предсознательное, или быстро возвращаются обратно, подавляясь и возвращаясь в Оно. Их мнемонические следы в этом случае являются бессознательными и действуют из Оно. Мы полагаем, что легко можем проследить их дальнейшие изменения в том случае, если вопрос касается пережитого самим субъектом лично. Но возникает новое осложнение, когда мы начинаем осознавать, что, вероятно, то, что действует в психической жизни индивида, может включать в себя не только пережитое им лично, но также и то, что присутствовало в нем изначально с рождения, элементы филогенетического происхождения — архаичное наследство. Тогда встает вопрос: в чем оно заключается, из чего состоит, и что доказывает его существование?
Немедленным и самым верным ответом является то, что оно заключается в определенных [врожденных] склонностях, которые являются характерными для всех живых организмов: то есть в способности и склонности следовать определенному пути развития и реагировать особым образом на определенные возбуждения, впечатления и раздражители. Так как опыт показывает, что в этом отношении между человеческими индивидами существуют различия, то архаичное наследство должно включать эти различия, они представляют собой то, что мы определяем как конституциональный фактор индивида. Теперь, так как все люди, по крайней мере в свои первые дни, встречаются приблизительно с одним и тем же, то и реагируют на это одинаково; в связи с этим возникло сомнение: не должны ли мы включить эти реакции, вместе с их индивидуальными различиями, в архаичное наследство. Это сомнение не имеет большого значения: наши знания об архаичном наследстве не расширяются фактом этого сходства.
Тем не менее психоаналитические исследования дали некоторые результаты, которые заставляют задуматься. Во-первых, существует универсальность символов языка. Символическое представление одного предмета другим — то же самое относится и к действиям — знакомо всем детям и приходит к ним, так сказать, как само собой разумеющееся. Мы не можем выяснить, как они научились этому и должны согласиться, что во многих случаях научиться этому невозможно. Это — вопрос изначальных знаний, которые взрослые впоследствии забывают. Верно, что взрослый использует эти же символы в своих сновидениях, но он не понимает их, пока психоаналитик не интерпретирует их, и даже тогда он неохотно верит этому толкованию. Если он употребляет один из очень распространенных оборотов речи, в котором отражен такой символизм, то вынужден признать, что совершенно не улавливает его истинного смысла. Более того, символизм игнорирует языковые различия, исследования, вероятно, могут показать что он повсеместен — одинаковый для всех людей. Значит, здесь мы, похоже, имеем вполне оправданный пример архаичного наследства, относящегося к периоду развития языка. Но можно попробовать применить еще одно объяснение. Можно сказать, что мы имеем дело с мысленными связями между представлениями — связями, которые установились в ходе исторического развития речи, и которые теперь необходимо повторить каждый раз, когда индивид проходит через развитие речи. Таким образом, это был бы случай унаследования интеллектуальной склонности, сходный с обычным унаследованием инстинктивных склонностей — и снова это не было бы вкладом в нашу проблему.
Однако практика психоанализа выявила что-то еще, превосходящее по своему значению то, что мы до сих пор рассматривали. Когда мы изучаем реакции на ранние травмы, то довольно часто оказываемся удивлены, обнаружив, что они не строго ограничены тем, что на самом деле пережил субъект, а отклоняются таким образом, что начинают намного более четко соответствовать модели филогенетического события, и в общем, могут быть объяснены лишь таким влиянием. Поведение невротических детей в отношении своих родителей при комплексе Эдипа и кастрационном комплексе изобилует такими реакциями, которые в индивидуальном случае кажутся неоправданными и становятся понятными только филогенетически — своей связью с опытом предшествующих поколений. Было бы неплохо собрать вместе материал, на который я могу ссылаться, и в такой форме представить его публике. Его доказательная ценность кажется мне достаточно высокой, чтобы я отважился на следующий шаг и сделал утверждение, что архаичное наследство человека включает в себя не только склонности, но и конкретное содержание — мнемонические следы опыта предшествующих поколений. Таким образом, как границы, так и значение архаичного наследства будут значительно расширены.
После некоторых размышлений я должен согласиться, что в течение длительного времени поступал так, будто наследование мнемонических отпечатков опыта наших предков, независимо от прямого общения и влияния через конкретные примеры, было установлено вне всяких сомнений. Когда я говорил о сохранении предания народом или о формировании характера народа, я в основном подразумевал унаследованное предание этого типа, а не переданное при непосредственном общении. Или, по крайней мере, не делал различия между ними, и ясно не представлял дерзости подобного пренебрежения. Мое положение, без сомнения, еще более затрудняется современной позицией биологической науки, которая ничего не хочет слышать о наследовании признаков, приобретенных предшествующими поколениями. Я должен, однако, со всей скромностью признаться, что тем не менее, не могу обойтись без этого фактора в биологической эволюции. В действительности в этих двух случаях речь идет о разных вещах: в одном — это вопрос приобретенных признаков, которые являются чем-то неосязаемым; в другом — мнемонические отпечатки внешних событий — что-то, так сказать, ощутимое. Но вполне может быть, что в сущности мы не можем представить одно без другого.
Если мы допустим возможность сохранения этих мнемонических отпечатков в архаичном наследстве, то наведем мост над пропастью между индивидуальной и групповой психологией: мы сможем относиться к людям в массе точно так же, как к отдельным невротикам. Мы признаем, что на данный момент у нас нет более сильного доказательства наличия мнемонических отпечатков в архаичном наследстве, чем выявленные в ходе психоанализа и оставшиеся без объяснения явления, объяснение которых требует признать их филогенетическое происхождение; и все же это доказательство кажется нам достаточно веским, чтобы постулировать это как факт. Если это не так, то мы не продвинемся дальше ни на шаг по пути, на который ступили, ни в психоанализе, ни в групповой психологии. Дерзости избежать нельзя.
Это предположение способствует и кое-чему еще. Оно уменьшает пропасть между человечеством и животными, которую предшествующие периоды человеческого высокомерия слишком углубили. Если будет найдено какое-либо объяснение того, что называется инстинктами[134] животных, которые позволяют им с самого начала вести себя в новой жизненной ситуации так, как будто она старая и знакомая — если вообще будет найдено какое-либо объяснение инстинктивной жизни, то оно может заключаться только в том, что в свое собственное новое существование они приносят опыт всего вида — то есть, что они сохранили память о том, что было пережито их предками. Положение человека по сути не отличается. Его собственное архаичное наследство соответствует инстинктам животных, даже если оно и отличается по своим масштабам и содержанию.
После этого обсуждения я, не колеблясь, заявляю, что люди всегда знали (таким особым образом), что когда-то имели первоначального отца и убили его.
Теперь необходимо ответить на два следующих вопроса. Первый: при каких условиях подобные воспоминания входят в архаичное наследство? И второй: при каких обстоятельствах они могут стать активными — то есть, могут добраться до сознания из своего бессознательного состояния в Оно, пусть даже в искаженной и измененной форме? Ответ на первый вопрос сформулировать легко: воспоминания входят в архаичное наследство, если событие было достаточно важным, или довольно часто повторялось, или то и другое вместе. В случае отцеубийства выполняются оба условия. По второму вопросу можно сказать следующее. Здесь может быть задействован целый ряд влияний, не все из которых обязательно являются известными. Возможно также и самопроизвольное развитие, по аналогии с тем, что происходит при некоторых неврозах. Но что, однако, несомненно имеет решающее значение, так это пробуждение забытого мнемонического следа недавним реальным повторением события. Повторением такого типа было убийство Моисея, и позже, предполагаемое узаконенное убийство Христа: таким образом эти события стали основными причинами. Похоже, рождение монотеизма не могло обойтись без этих происшествий. Это напоминает нам слова поэта:
Was unsterblich im Gesang soil leben,
Muss im leben untergehn[135].
И наконец, замечание, которое содержит психологический аргумент. Предание, которое было основано только на устных источниках, не могло иметь принудительного характера, свойственного религиозным явлениям. Оно было бы выслушано, оценено и, возможно, отвергнуто, как и любой другой фрагмент внешней информации; оно никогда бы не добилось привилегии быть освобожденным от рамок логического мышления. Оно должно подвергнуться подавлению, пережить длительный период существования в бессознательном, прежде чем в свою очередь сможет демонстрировать такое мощное влияние, очаровывать массы, что мы с удивлением и до сих пор безо всякого понимания наблюдали в случае религиозных преданий. И это соображение значительно перевешивает чашу весов в пользу нашего убеждения, что все действительно произошло так, как мы пытались изобразить, или, по крайней мере, каким-то подобным образом[136].