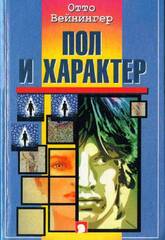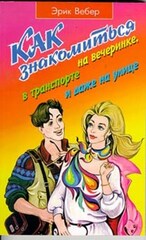ИСТИНА И БЕЗУМИЕ
II
В книге «Истина и реальность» Отто Ранк писал:
С истиной жить невозможно. Для жизни человеку нужны иллюзии, не только внешние иллюзии, такие как искусство, религия, философия наука и любовь, но внутренние иллюзии, которые обуславливают внешние. Чем больше человек может принимать реальность за истину, видимость за сущность, тем он более стабилен, приспособлен и счастлив. В тот момент, когда мы начинаем искать истину, мы разрушаем реальность и наши с ней отношения.
<…> Из сформулированной мною концепции вырастает парадоксальное, но более глубокое понимание сути невроза. Если человек тем более нормален, чем более он способен принимать видимость реальности за истину, то есть чем более успешно он может вытеснять, смещать, отрицать, рационализировать, драматизировать и обманывать себя и других, отсюда следует, что страдание невротику причиняет не болезненная реальность, а болезненная истина, которая уже затем делает невыносимой реальность [Ранк, 2004: 274–275].
Здесь нас будет интересовать соотношение между невротиком и творческим человеком, который, по Ранку, тоже живет в истине, но которую он сам формирует и она в отличие от невротической истины, не является для него невыносимой.
Но проблема соотношения истины и творчества и — более узко — истины и вымысла чрезвычайно сложна. В аналитическом ключе ею занималось целое направление аналитических философов, и она была обобщена в нашей книге «Прочь от реальности» [Руднев, 2000]. В двух словах проблема заключается в том, что художник, занимающийся производством вымышленных миров, находится с истиной в сложных отношениях, в каком-то смысле можно сказать, что он ее игнорирует. Так, писатель-беллетрист имеет дело чаще всего с предложениями, которые не являются ни истинными, ни ложными. Мы имеем в виду фразы типа «Все смешалось в доме Облонских» или «Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова». Здесь не может идти речь об истинности или ложности, потому что речь идет о несуществующих в реальной жизни предметах. То есть с точки зрения стандартных логических семантик типа фрегевской данные фразы являются бессмысленными.
Тем не менее, в каком-то смысле мы все же готовы разделить ранкианскую позицию, в соответствии с которой художник создает новую истину из несуществующего бессмысленного вымысла, и в этом он ближе невротику (невротик является как бы его оборотной стороной), нежели среднему человеку. В каком же смысле?
Рассмотрим несколько предложений.
Сейчас идет дождь.
Все смешалось в доме Облонских.
Сегодня дурной день.
Я стена, девушке трудно быть стеной.
Предложение 1 — обыденная фраза среднего человека. Она выражает некую стандартную бытовую истину, то есть является истинной в том случае, если действительно идет дождь, в любой логической семантике (и ложной, если дождь на самом деле не идет). Можно ли и в каком смысле сказать что «средний человек», который наблюдает выпадение дождя и утверждает «Сейчас идет дождь», пребывает, с точки зрения Ранка, в иллюзии? С философско-аналитической точки зрения можно сказать, что данная фраза является неполной, потому что в ней не установлены прагматические пространственные параметры выпадения дождя. То есть человек, глядя в окно, действительно видит, что идет дождь. Но, говоря «Сейчас идет дождь», он должен был бы уточнить, где именно идет дождь — в Москве или на такой-то улице, или просто очертить прагматическую рамку своего высказывания, сказав: «Я смотрю в окно, и там идет дождь».
Но допустим, все это проделано. Можно ли сказать, что и фраза «Я смотрю в окно, и там идет дождь» в смысле Ранка иллюзорна? Возможно, если бы Ранк должен был бы ответить на этот вопрос, он сказал бы нечто в таком духе, что человек, говорящий, что идет дождь, даже если его информация абсолютно достоверна, тем не менее, высказывает лишь поверхностную истину. Ведь человек всегда что-то хочет сказать, он никогда не говорит просто так. Так вот, средний человек говорит как бы просто, не вдумываясь в глубинный смысл своего высказывания. Надо спросить такого человека: «А что ты этим хочешь сказать?» или «А зачем ты это говоришь?». И он ответит: «Да ничего не хочу сказать. Я сказал это просто так». Невротик, говорящий: «Сейчас идет дождь», никогда так не ответит. Он развеет иллюзию поверхностной истины. Он скажет нечто вроде «Идет дождь, и это отзывается грустью в моей душе».
Как можно ответить на вопрос о фразе 2? В каком смысле с точки зрения Ранка может быть истинной фраза «Все смешалось в доме Облонских»? По-видимому, в том смысле, что эта фраза задает некий новый возможный мир, создает новую истину. Но, говоря так, не вкладываем ли мы в понятие истины разные смыслы. Логический, с точки зрения которого эта фраза не может быть истинной, поскольку никаких Облонских никогда не существовало; и какой-то особый ранкианский смысл, в котором все же стоит говорить, что эта фраза выражает истину? В чем же состоит это ранкианское понимание творческой истины? По-видимому, именно на этом надо заострить внимание.
Наш вопрос следовало бы переформулировать как «В чем истинность фразы: «Все смешалось в доме Облонских» в контексте романа Льва Толстого «Анна Каренина»?» И на этот вопрос можно было бы ответить, скажем, так: «Истинность романа в верном и значительном показе того, что происходит, когда мужья изменяют женам, а жены мужьям, какие страдания они приносят себе и своим близким и как они грешат этим против религии и нравственности». «Все смешалось в доме Облонских» в этом контексте истинно в том смысле, что измена и ее обнаружение вселяет в семью хаос, энтропию, нарушает гармоничный порядок течения семейных событий.
Как можно проанализировать предложение 3 «Сегодня дурной день»? Ясно, что это высказывание принципиально омонимично, оно может быть воспринято просто как обыденная констатация плохой погоды, или неудачного течения дел, а может — как первая строка стихотворения Мандельштама. В своем первом, обыденном употреблении это высказывание практически ничем не отличается от высказывания «Сейчас идет дождь», может быть только некоторой своей обобщающей аксиологичностью. В качестве первой строки стихотворения эта фраза может нести творческую истину.
В чем заключается поэтическая Истина высказывания «Сегодня дурной день»? Опять-таки, как в случае с предложением Толстого, в учет должен браться весь художественный контекст или хотя бы значительная часть его.
Кузнечиков хор спит.
И сумрачных скал сень
Мрачнее гробовых плит.
Мелькающих стрел звон
И вещих ворон крик.
Я вижу дурной сон,
За мигом летит миг.
Явлений раздвинь грань,
Земную разрушь твердь,
И яростный гимн грянь,
Бунтующих тайн медь.
О, маятник душ строг.
Качается, глух, прям,
И тщетно стучит рок
В закрытую дверь к нам.
Вот это стихотворение целиком, оно отражает некий не слишком приятный, мрачноватый, жутковатый, несколько даже мистический эмоциональный опыт. Можно сказать, что это стихотворение о границе между реальностью и иллюзией. В этом смысле истинность первой строки можно сформулировать как — «В дурной день открывается такое душе, что закрыто в хороший день». Мы совершенно не настаиваем именно на этой интерпретации, но поскольку наша цель — не изучение поэтики Мандельштама, то сойдет и такая. Можно ли сказать, что в таком понимании содержится некая трансгрессивная бытовому опыту истинность? По-моему, можно. Обычно среднее сознание любит хорошие дни и стремится не замечать дурных, а тем более делать из них какое-то полумистическое обобщение. Можно также сказать, что смысл строки «Сегодня дурной день» в сознании носителя языка складывается (в духе лингвистики языкового существования Б. М. Гаспарова) на пересечении обыденного употребления и аллюзии на мандельштамовский текст. Допустим, человек, который знает стихотворение Мандельштама, смотрит в окно и, наблюдая идущий дождь или сильный неприятный ветер, туман и так далее, говорит человеку, который предположительно также знает мандельтштамовский контекст: «Сегодня дурной день». Такое творческое постмодернистское (и тем самым шизотипическое) употребление данной фразы может означать нечто трансгрессивное ее обыденному употреблению. Возможно, говорящий, который произносит эту фразу, хочет сказать нечто вроде: «Сегодня дурной день, в такие дни полнее чувствуешь зыбкую грань явлений, зыбкую границу между реальностью и иллюзией. В яркий солнечный день мы окружены иллюзией того, что нас окружает подлинная действительность. В такой дурной день действительность кажется какой-то нереальной». Слушающий может подхватить интертекстуальное настроение собеседника и сказать что-нибудь вроде: «Да, недаром «петербургский миф» родился в городе именно с такой погодой, и особенностью этого мифа, частью которого можно считать стихотворение Мандельштама как петербургского поэта, является фундаментальность осознания зыбкости границ внешней реальности, ее сновидность, если угодно». Такой диалог несомненно уводит разговор от обычного повседневного обмена репликами типа — «Сегодня дурной день» — «Да, погодка не подфартила!» — и делает его творческим в том смысле, который придавал этому понятию Отто Ранк, то есть трансгрессивным обыденному употреблению.
В этом смысле можно задаться вопросом, как бы сложилась судьба этого диалога, если бы мы решили понять его и не в повседневном, и не в творческом ключе, а в невротическом? Допустим, это разговаривают истерик и ананкаст.
Истерик говорит: Сегодня дурной день.
Ананкаст хочет уточнить: В каком смысле дурной день? Разве сегодня 13-е число или понедельник?
Истерик: Да нет, ты посмотри, как все небо обложило тучами, в такие дни только писать стихи или плакать.
Ананкаст: Какое сегодня число?
Истерик. Да не знаю я, какое сегодня число, разве важное, какое число? Важно, что день отвратительный. Ужасный день! Ни одного луча солнца, ни одной краски на небе, как будто все погрузилось в серую болотную тину.
Ананкаст: Главное, чтобы не пошел дождь, я забыл захватить зонтик. Ты мне дашь свой зонтик?
Истерик: Да бери хоть все зонтики. Но почему ты уходишь? Все меня бросают в этот дурной день!
Ананкаст: Я пока не ухожу, я еще могу побыть у тебя тринадцать минут?
Истерик (иронически): А четырнадцать?
Ананкаст: Дело в том, что в шесть сорок пять мне надо быть на станции метро «Сокол».
Истерик: Сокол, ястреб, орел… курица. Ты низко летаешь, друг мой.
И так далее.
Что в этом разговоре отличает его от обыденного обмена репликами. Прежде всего, акцентуированность обоих характеров. Истерик эмоционально напряжен. Ему важно чувствование себя в этот неприятный день. Ему важно, чтобы его пожалели, чтобы его не оставляли одного в такой дурной день. Его заботит, что день серый, унылый, что в нем не хватает красок, так нужных ему в его истерической реальности. Ананкаста беспокоит совсем другое. Не «плохое» ли сегодня число, не идет ли дождь, ведь он забыл зонтик, успеет ли он на назначенную встречу в точно отведенное для нее время?
В каком смысле можно сказать, что в этом диалоге больше истины, в то время как предполагаемый обыденный обмен репликами иллюзорен. В том смысле, что он заполняется невротической истиной о самих людях, которые ведут разговор. Сами не замечая этого, они раскрывают в этом незначительном диалоге свои характеры. Для истерика дурной день — это серый неприятный день, для ананкаста дурной день это совсем другое — это определенное число или день недели, это дождь, если он не взял зонтика, это возможность нежелательного опоздания и т. п. То есть в незначительном разговоре они раскрывают истину о самих себе, при этом совершенно не замечая, что речь может идти о художественном дискурсе. Ведь невроз находится на противоположной стороне от творчества.
Что мы можем сказать в этом плане о психотическом высказывании «Я стена. Девушке трудно быть стеной». На уровне повседневной логики эта фраза является, конечно, ложной — человек не может быть стеной в неметафорическом смысле. Да и если бы он в метафорическом смысле сказал бы о себе, что он чувствует себя стеной, он бы как минимум был уже невротиком, если не пограничной личностью. Ощущение отсутствия живости, мертвенность — вот что он хотел бы передать этой фразой. Но девушка, которая произносит эту фразу у Лэйнга, имеет в виду нечто другое. Может быть, это в прямом смысле галлюцинаторно-бредовое ощущение себя стеной? Что в этом истинного? Может ли быть истинным бредово-галлюцинаторный комплекс? «Я стена» — означает «я мертва». Я трансгредиентна по отношению к повседневной живой жизни. И этот груз тяжел для формально живого человека, тем более для девушки. Может быть, она имела в виду, свою девственность. Стена как нечто, не пробитое фаллосом. Психотической девушке трудно носить свою девственность Она полагает, что никто не хочет ее дефлорировать. «Я стена» — означает «я — безжизненное даже не тело, а антитело, которое давит на мое исчезающее Собственное Я». Но психоз сродни творчеству, поэтому высказывание этой девушки очень легко может стать началом стихотворения, стихотворения о том, как тяжело быть девушке стеной.
Я стена. Девушке трудно быть стеной.
Никто не хочет опереться на стену.
Никто не хочет пробить дверь в моей стене.
Я одинокая стена заброшенного дома,
Дома, где никто не живет,
Дома, из которого ушли все его обитатели.
Я покосившаяся стена заброшенного мертвого дома.
Здесь творческое начало сказывается в переработке своего психотического тотального одиночества и мертвенности, в этом смысле такая переработка, безусловно, несет в себе некий заряд поэтической истинности.
Что же такое само творчество — истина или иллюзия? В той мере, в какой творчество ближе к повседневной жизни, оно иллюзорно. В той мере, в какой оно ближе к безумной диалектике, описанной выше, оно является проявлением истины. Можно сказать, что сама творческая интенция как преодоление невроза или психоза не в сторону обыденной жизни, а в сторону «священного безумия», является чем-то истинным, но творчество, которое уже появилось на свет, состоялось, является моментом обыденной жизни и, стало быть, оно иллюзорно. В этом смысле, чем больше в творчестве бессмысленного, тем оно более истинно, чем более творчество осмысленно, тем оно иллюзорней. На крайних точках здесь будут поэтика абсурда как проявление истинного безумия — с одной стороны (например стихи обэриутов), и так называемый реализм как нечто иллюзорное, близкое к обыденной жизни — с другой.
Но здесь вступает в силу новое противоречие. Реализм, как мы показали в книге [Руднев, 2002], есть функция депрессивности, то есть душевной патологии. Как же тогда мы говорим, что реализм это проявление иллюзии? Здесь необходимо разобраться более подробно.
Проблема реализма в искусстве тесно связана с проблемой депрессивного взгляда на мир. Основным пафосом и сутью художественного реализма, как он зародился в 1940-х годах в рамках натуральной школы, было изображение реальности такой, какова она есть, без обычных условностей искусства, то есть наименее семиотизированно и тем самым обессмыслено.
Ранний русский реализм («физиологический очерк» — характерен этот редукционистский в семиотическом смысле термин) изображал мир, пытаясь отказаться от романтических и вообще акцентуированно литературных художественных штампов — занимательности, увлекательной интриги, жесткого распределения ролей героев, ярких описаний и стилистической маркированности. Реализм изображал мир тусклым и неинтересным, таким, каким видит его человек, находящийся в депрессии.
Здесь важно также помнить о принципиальной соотнесенности депрессивного и гипоманиакального взгляда на мир и соответствующего искусства. Депрессия и гипомания суть противоположные стороны одной медали. То есть, казалось бы, если при депрессии господствует бессмысленность, то при гипомании — гиперосмысленность. Это в определенном смысле так и есть. Но это не та символическая осмысленность, которую мы имеем при шизоидном взгляде на мир, где все предметы суть символы запредельного, «вечного и бесконечного смысла» [Бурно, 1996], или при паранойяльном взгляде на мир, где все предметы обозначают одно и то же, например, измену жены (подробно о паранойе см. соответствующую главу нашей книги [Руднев, 2002]). При гипомании господствует совершенно иная, земная осмысленность, это осмысленность, которую принимает мир человека, у которого хорошее настроение, – все интересно, любопытно, увлекательно. Но стоит вновь подступить депрессии, как краски мира блекнут и осмысленности приходит конец. То есть гипоманиакальная осмысленность это в каком-то смысле тоже не семиотическая, сугубо вещная и в определенном смысле ложная осмысленность. Такая осмысленность в метафизическом плане не многого стоит — она ничего не раскрывает, она не трансгредиентна окружающей действительности, но полностью погружена в нее. Уточняя сказанное, можно говорить о соотношении шизоидной символической осмысленности и шизофренического постсимволического абсурда (конструктивного в плане творчества и истины — например, творчество обэриутов), и о соотношении гипоманиакальной вещной осмысленности мира и столь же вещной его обессмысленности при депрессии.
Бывает не только депрессивный реализм, но и гипоманиакальный реализм. Например, роман гипоманиакального сангвиника Александра Дюма-отца «Три мушкетера». Здесь все интересно, динамично, подвижно (и в этом смысле осмысленно) — но никакого проникновения в истину здесь искать не приходится. По контрасту с депрессивным романом, например «Обломовым», где редуцирована интрига и в узком литературном смысле ничего не происходит, в гипоманиакальном романе интрига наоборот играет самую важную роль — сюжет qui pro quo, где все время одно принимается за другое, где один обманывает другого, а другой — первого, где плетутся увлекательные интриги и т. д. – вот это настоящее гипоманиакальное «реалистическое искусство». Оно близко к массовому искусству, тогда как депрессивный реализм тяготеет к фундаментальному нарративу, так как на отсутствии интриги и редуцированном повествовании массового искусства не построишь. Потому-то гипоманиакальная осмысленность в метафизическом плане дальше от смысла и истины, чем депрессивная бессмысленность. Гипоманиакальное искусство ближе к языковой и социальной норме, поэтому оно полностью иллюзорно. Лишь в каких-то своих высших проявлениях оно приобретает хоть некоторую возможность подлинного смысла, как, например, у гипоманиакального Моцарта, да и то больше в тот момент, когда он все же грустит в своей музыке, чем когда он веселится.
Итак, подлинный реализм это депрессивный реализм, реализм «Обломова» и «Отцов и детей», где господствует мрачный взгляд на мир, обессмысливающий его. Депрессивный реализм потому и ближе к истинному творчеству, что в нем больше подлинной депрессивной бессмысленности, нежели в дутой гипоманиакальной осмысленности. Поэтому депрессивный реализм в каком-то смысле есть большее нахождение в истине, чем гипоманиакальный «реализм», тяготеющий к массовой квазиосмысленности. Массовое искусство — это пребывание в иллюзорности литературных штампов. Лишь в постмодернистском массовом искусстве, которое несколько шизофренизированно, пробиваются ростки подлинного смысла и подлинной истинности, как например в фильме «Матрица», где помимо чисто развлекательного интригующего квазисмысла имеется хоть и не очень глубокий, но все же глубинный шизотипический слой — осмысление событий фильма в духе травмы рождения Ранка, Эдипова комплекса и мифа о Спасителе (подробно о «Матрице» см. соответствующую статью нашего словаря [Руднев, 2001а]).
Итак, в каком смысле можно сказать, что депрессивный реализм ближе к истине? В таком же смысле, в каком депрессивное высказывание о мире как о чем-то бессмысленном ближе к истине, чем наполнение мира квазисмыслом, как это происходит в гипоманикальном массовом искусстве. Когда Обломов лежит на диване и ему ничего не интересно, то он находится в каком-то фундаментальном плане ближе к истинности о мире, чем деятельный гипоманиакальный Штольц, живущий квазисмыслами. Об Обломове сказано в романе, что он как бы хранил в себе смысл так, как золото хранится глубоко в земле, хотя это золото смысла так и не вышло на поверхность. У Штольца этого запрятанного вглубь смысла-золота нет, поэтому ему так и дорог Обломов. Штольц чувствует интуитивно, что Обломов в чем-то как личность богаче его, поэтому он в конце романа живет воспоминаниями о своем покойном друге, который, на первый взгляд, как будто не представлял собой ничего интересного.
В этом была удача, но и иллюзия, в частности, русского депрессивного реализма, что он был по-своему, по-депрессивному глубок, в чем-то даже не менее глубок, чем предшествующий ему шизоидный романтизм, но, конечно, гораздо менее глубок, чем последующий модернизм. Да, реализм все время и делал шаги в сторону модернизма, то есть шизотипического искусства, что, прежде всего, касается Достоевского и Толстого, которые сами как личности не были меланхоликами, а были эпилептиками, то есть характерологически более сложными мозаиками. Поэтому их искусство гораздо психопатологичнее и тем самым глубже и истиннее, чем реализм их современников Тургенева и Гончарова (подробнее о русском реализме см. соответствующую главу книги [Руднев, 2000]).
Итак, душевная болезнь, творчество и истина становятся чрезвычайно близки друг другу. Повторим сказанное вначале Ранком. Нормальный человек живет в иллюзии, ибо он видимую реальность принимает за истину. Невротик (психотик) искажает (отрицает) эту видимую реальность и пред ним открывается истина. Истина эта, однако, почему-то невыносима, потому увидевший ее сразу регрессирует в болезнь, он «не может ее удержать», по словам Фуко. Удержать истину может творческая личность, которая по Ранку, является противоположной как нормальному человеку, так и невротику (психотику). Здесь возникает некоторое не то что противоречие, но недоговоренность, непроясненность.
Обычный нормальный человек не творит — он живет повседневной жизнью — набивает себе брюхо, копит деньгу, в лучшем случае что-то шьет, чинит или паяет. Но и невротик не творит — он живет в болезни, невдалеке от так ужаснувшей его истины. Лишь творческий человек не боится истины и смело идет ей навстречу. Но, во-первых, со времен Лоброзо и Кречмера творчество и душевная болезнь, «гениальность и помешательство» идут рядом. То есть не все душевно больные — гении, но все гении — душевно больные. Во-вторых, возникает вопрос, чем же так ужасна эта истина, которой так боится душевнобольной и благодаря которой творит творческий человек.
Первое затруднение, я думаю, можно объяснить так. Как известно по воспоминаниям современников, Отто Ранк был сам латентным психотиком (см. предисловие к книге [Ранк, 2004]). Что такое латентный психотик? Это либо человек, который время от времени скатывается в психоз, а потом из него выбирается (как Ньютон), либо человек, всю жизнь живущий на границе между реальностью и ее психотической трансгрессией. Мне кажется, что последняя категория преобладает среди творческих людей. Собственно, получается, что «творческая личность» Ранка это и есть латентный психотик. И тогда понятно, почему Ранк говорит о преодолении видимой реальности невротиком и творческим человеком. Невротик ее не преодолевает из естественного страха перед безумием, психотик (знак равенства) творческий человек преодолевает, то есть осуществляет хрестоматийный психотический отказ от реальности. В случае творческого человека этот отказ может принимать не строго клиническую форму, а сублимироваться в творческую энергию преодоления обыденной реальности и создание новой вымышленной реальности. В отличие от клинического психотика, который полностью теряет связь с обыденной семиотической реальностью (при этом он может быть талантлив, как Даниэль Шребер), творческий парапсихотик все же остается тонкой нитью связан с обыденной реальностью. Эта нить может быть очень тонкой, как у художников-психотиков — обэриутов, Хлебникова, Стриндберга, Ван Гога и подобных им, она может быть достаточно крепкой, как у шизотипистов, которые, как правило, не впадают в клинический психоз, но всю жизнь живут в опасной близости от него, как Босх, Булгаков, Сальвадор Дали, Бунюэль и многие другие (см. нашу книгу [Руднев, 2003]).
Но гораздо сложнее вопрос о природе и сути той страшной истины, которую не может пережить обычный невротик и которую успешно сублимирует творческий тип Ранка (латентный психотик-шизофреник или эпилептик, шизотипическая личность).
Приведу клинический пример. Пациентка психоаналитика, женщина сорока лет шизотипического склада, существующая достаточно успешно на уровне, приближающемся к рабочему субдепрессивному, художница, вдруг встречает свою подругу, приехавшую из-за границы, которую она не видела несколько лет и с которой до отъезда была духовно очень близка. Подруга привозит из-за границы нового мужа, философа-американца из русских эмигрантов. Что же происходит? Они все трое сближаются. Вначале все идет хорошо, но потом пациентка начинает чувствовать странное беспокойство. Ей начинает казаться, что эти годы разлуки, когда она вовсе и не думала о своей подруге, были совершенно пустыми никчемными годами. И она чувствует, что жить прежней жизнью с мужем-филологом и двумя детьми она не может. Ее непреодолимо влечет к новым друзьям — к приехавшей подруге и ее мужу. В решающий момент ей снится сон, в котором она вступает в интимные отношения с мужем своей подруги, но лишь для того, чтобы вернуть или восстановить потерянного во сне их ребенка. Пациентка рассказывает свой сон аналитику. Тот дает следующую интерпретацию. Пациентка хочет стать дочерью своей подруги и ее мужа, для этого во сне и теряется дочь подруги, она хочет стать на ее место, но затем лишь, чтобы стать Эдиповой дочерью, то есть вступить в интимную связь с матерью-подругой. Пациентка принимает эту интерпретацию. Но в какой-то момент, общаясь с своими новыми «родителями», она обнаруживает, что ей просто невозможно от них уйти, она просто не может заставить себя встать, сесть в свою машину и уехать к своей семье. Подруга и ее муж не знают, что делать, предлагают пациентке остаться ночевать. Говорят, что она может видеть их так часто, как она хочет, но она чувствует, что это не то. В смятении она заставляет себя все же сесть в машину и уезжает к своей семье, но на следующий день у нее начинается тяжелый околопсихотический приступ, который приходится купировать основательной фармакологической терапией. Через некоторое время, выйдя из этого состояния, пациентка сообщает психоаналитику, что в тот момент, когда ей казалось, что она не может оторваться от своих новых психотических родителей, она как будто видела истину, оковы «согласованного транса» (термин Чарльза Тарта [Тарт, 1997]) обыденной реальности на какие-то несколько минут с нее спали, она «поняла», что она действительно дочь своих новых родителей и ее старая семья для нее не существует, но вид этой истины был нестерпим и, конечно, социально неприемлем; остатками сознания она понимала: то, что ей думалось, не может стать реальностью — и у нее, и у них своя жизнь, она — взрослый человек и должна вернуться к своей повседневности. Она преодолевает на некоторое время открывшееся ей неприемлемое безумно-истинное положение вещей, возвращается в семью, и организм ее реагирует на это тяжелым психическим срывом. Не будучи гениально одаренной личностью, она не может сразу же претворить ужасную психотическую истину в приемлемые формы актуального для нее искусства. Более того, она на несколько месяцев лишается возможности творчества. Лишь проработав это событие на десятках психоаналитических сессиях, она через некоторое время вновь возвращается к своему творчеству.
Что же такое здесь было безумной истиной и как можно было бы избежать тяжелого срыва?
Безумная истина во многом сродни тому, что мы назвали «бессознательным психотика» (в соответствующей главе книги [Руднев, 2004]). Бессознательное психотика не кроется где-то в глубинах, как у невротика и нормального. Психический аппарат в этой ситуации утрачивает возможность осуществления наиболее фундаментального механизма защиты — вытеснения. У невротиков и в меньшей степени у пограничных и шизотипов неприемлемые констелляции вытесняются из сознательного в бессознательное. Сознательная часть личности — это та часть, которая воспринимает внешнюю реальность и чаще всего отождествляет себя с этой реальностью. Бессознательная часть (не психотического типа) не является реальностью, оно является глубоко скрытой истиной. При излечении невротика, во всяком случае, в традиционной психоаналитической модели такого излечения, вытесненный в бессознательное неприемлемый материал прорабатывается на психоаналитических сессиях и вновь, уже в приемлемом виде переходит в сознание, после чего наступает облегчение. На место Оно становится Я — знаменитая Фрейдова формула психоаналитической терапии.
Но в случае психоза так не получается, потому что при психотическом отказе от реальности место реальности полностью занимает бессознательное, которое затопляет собой всю ментальную сферу субъекта, и он уже не может отличить, где внутреннее, где внешнее. Поэтому если психоаналитическое лечение психотика возможно, то оно, схематически говоря, происходит следующим образом. Сначала психотику вновь создают утраченную оппозицию сознательного и бессознательного, приоткрывают ему хотя бы чуть-чуть сознательную часть (о том, как это делается, см., например, блестящую книгу Вэйкко Тэхкэ [Тэхкэ, 2001]). Постепенно эта сознательная часть наращивается путем различных тончайших психоаналитических процедур с той целью, чтобы бессознательное хотя бы немножко отступило и приняло на себя традиционную роль «сточной канавы» вытесненного неприемлемого материала. Как только психотик приобретает возможность вытеснять, значит, дело пошло на лад, по крайней мере, к частичному выздоровлению. Тогда он будет функционировать хотя бы на пограничном уровне, то есть пусть плохо, диффузно, но все же разграничивать собственное Я, внешнюю реальность и значимые объекты вокруг себя.
В случае пациентки, о котором шла речь, психоз почти наступил в том смысле, что она потеряла возможность или способность вытеснять неприемлемый материал (тот факт, что она регрессировала на эдипальный уровень и т. д.), поскольку ее бессознательное расширилось и почти поглотило ее Эго. Еще чуть-чуть, и она бы вообще перестала различать, кто, что и зачем. Этого, к счастью для нее, не произошло. Для нее, но не для нас. Если бы она попала в психоз, то есть действительно регрессировала бы до сознания маленькой девочки, которая хочет к новым хорошим папе и маме, мы имели бы интереснейший материал для размышлений. Но этого не произошло — остатками своей сознательной части пациентка чуть-чуть отодвинула от себя страшную бессознательную истину — собственно говоря, это и была истина — что она регрессировала до уровня эдипального ребенка. Хорошо хоть, всего лишь эдипального, поэтому ее так сравнительно легко удалось вытащить из ее состояния; если бы речь шла о подлинном психозе, ни о каком традиционном эдипальном уровне, конечно, не могло бы идти речи — регрессия была бы значительно глубже, неизвестно как глубоко, то есть это мог бы быть тоже функционально эдипальный уровень, но сугубо архаического порядка, то есть тот, который Мелани Кляйн и ее ученики приписывают младенческому возрасту (см. [Кляйн, 2001]).
Мы разобрали ситуацию, при которой нестерпимая, неприемлемая бессознательная истина одерживает верх в том смысле, что наступает или почти наступает психоз. Каким бы мог быть противоположный случай, случай «творческой личности»? В той точке, когда пациентка собралась с силами и доехала на машине к себе домой, могло произойти нечто противоположное тому, что произошло на самом деле. Она бы могла креативно проработать и избыть тот шок неприемлемой истины, которую ей довелось увидеть. Что же это был бы за механизм, который позволил бы не только избежать психоза, но и, например, создать значительное произведение искусства?
Здесь придется вновь вспомнить экономику распределения векторов и сил Суперэго и Ид. В момент осознания неприемлемой истины Ид вот-вот готово было взять вверх над Суперэго и полностью подавить его. Представим себе, что пациентка, скажем, поддалась бы уговорам хозяев и осталась бы у них ночевать. Что бы с ней произошло на следующее утро, неизвестно. Скорее всего, то же самое, что и произошло на самом деле, то есть тяжелый срыв, и в той предполагаемой ситуации скорее и произошел бы настоящий психоз и глубокая регрессия. Интуитивно чувствуя, что нельзя оставаться в психозогенной обстановке, пациентка позволила своему Суперэго в какой-то момент пересилить Ид, и она бежала из опасной обстановки. Можно сказать, что Суперэго, будучи в состоянии навязать ей хотя бы на короткое время спасительные иллюзорные прописные истины, спасло ее от подлинного психоза. Но спокойно и сохранно существовать в старой привычной обстановке она тоже не смогла и отреагировала компромиссным парапсихозом. Но бывают разные Ид и разные Суперэго. В данном случае у пациентки было традиционное Суперэго и традиционное Ид. Традиционное Суперэо диктовало ей социально приемлемые нормы вроде «надо возвращаться в семью», «нельзя быть такой назойливой» и т. д. Традиционное Ид-желание влекло ее в противоположном направлении, то есть прямо к этим людям. Но еще существуют творческое Суперэго и творческое Ид. Что же они собой представляют?
Начнем с Суперэго. Оно, как известно, складывается, по крайней мере, из двух составляющих — материнской и отцовской. При этом ясно, что материнское Суперэго является в физиологическом и психологическом смысле более фундаментальным и более архаичным, так как мать — первый и до поры до времени единственный значимый объект в жизни младенца. Я полагаю, что не скажу ничего нового, хотя, возможно, в явном виде эта мысль и не высказывалась, что материнское Суперэго не является творческим. Оно является Суперэго выживания, так как на самых ранних стадиях младенчества ни о каком творчестве не может быть речи; речь может идти только о выживании. С другой стороны, именно материнское Суперэго, если вспомнить Мелани Кляйн и выделяемые ею шизоидно-параноидную и депрессивную младенческие позиции, это очень опасное и психозогенное Суперэго. Именно от матери в первую очередь (если разделять эти взгляды) зависит будущее психическое здоровье младенца, в частности, возможность или предрасположенность к шизофрении или маниакально-депрессивному психозу (соотносящимся соответственно с шизоидно-параноидной и депрессивной позицией). Поэтому можно с достаточной долей уверенности сказать, что нетворческий психотик — это субъект с преобладающим материнским Суперэго. Это достаточно хорошо соотносится с взглядами Грегори Бейтсона и его последователей на этиологию психоза, где основополагающим понятием является понятие шизофреногенной матери [Бейтсон, 2000], но скорее противоречит взглядам Лакана, который опирался в своих концепциях психоза на понятие Имени Отца, то есть на отцовское Суперэго [Лакан, 1997]. Каким же может быть отцовское Суперэго? В первую очередь о нем можно сказать, что оно формируется в большинстве случаев тогда, когда уже сформировано материнское Суперэго, то есть, попросту говоря, ребенок начинает общаться с отцом и воспринимать его императивные энграммы, уже пройдя шизоидно-параноидную и депрессивную позицию, то есть после года, когда он начинает овладевать человеческим языком. Поэтому можно сказать, что в то время как материнское Суперэго — это немое, скорее тактильное, оральное, телесное, эмоциональное и в каком-то важном смысле досемиотическое Суперэго, отцовское суперэго — это в первую очередь говорящий Другой Лакана. (Тело отца играет в формировании личности человека значительно меньшую роль, чем тело матери.) Что же говорит этот Другой, и какую роль в свете развиваемых здесь идей играет отцовское Суперэго, или Имя Отца, в личности психотически ориентированного субъекта?
По-видимому, уместно предположить, что отцовское Суперэго может быть двух типов (так же, как, собственно, и материнское — но там все проще: материнское Суперэго, материнский голос — это либо привлекающий, либо отталкивающий и депривирующий, то есть мать может быть «хорошей матерью» или плохой, то есть шизофреногенной матерью). Первый тип отцовского Суперэго — это традиционное авторитарное, запрещающее Суперэго, это глас неумолимого Закона. Такое Суперэго было несомненно у Кафки, и все его творчество — это борьба, преодоление этого жесткого брутального Имени Отца. Я думаю, именно о такого рода Имени Отца говорил Лакан. Гениальность Кафки спасла его от психоза, но все его произведения — это воплощение идеи отцовского Суперэго и способов борьбы, как правило, неудачной, с ним. Но пример Кафки, как нам представляется, скорее счастливое исключение. Второй тип отцовского Суперэго — это обучающее, творческое Суперэго. Такой тип отцовского Суперэго формируется тогда, когда отец с раннего возраста становится руководителем, учителем, наставником сына, а не просто воплощением непреклонного Закона. Именно такое творческое отцовское Суперэго, вопреки мнению Лакана, не отвлекает, а спасает субъекта от психоза. Как же оно это делает? Что такое вообще творчество и пребывание в творчестве? Можно сказать, что это пребывание в сознании онтологизации возможных миров. Это означает, что для творческой личности становится возможным преодоление одного-единственного действительного мира, в котором он живет в повседневной реальности и возможность построения альтернативных возможных миров и в каком-то метафизическом смысле онтологизация этих миров. Это означает возможность построения такой системы событий, которая была бы спасительной альтернативой тому действительному миру, в котором живет субъект и тому положению вещей, в котором он пребывает. В частности, при пограничной ситуации возможного перехода в психоз такая счастливая возможность предоставляет субъекту выбор — или продолжать существовать в реальном мире, который, хотя и отрицается психозом, но, отрицая, тем самым подтверждает его (вспомним фрейдовское понятие Verneinug — высказывание «Это была точно не моя мать» в устах невротика означает «Это была точно моя мать» [Freud, 1981]). Альтернативой психозу является творческая проработка событий, которая состоит в построении альтернативного возможного мира с другим течением событий. То есть творческий субпсихотик это такой субъект, который находит мужество себе сказать: «А предположим, что все было бы не так, а совершенно иным образом». Как же формируется творческое Суперэго в детстве, и как все сказанное может быть приложено к разбираемому нами клиническому случаю пациентки, которая хотела стать маленькой девочкой и обрести новых родителей в лице своих друзей?
Формирование возможности пребывания в творчестве и тем самым в альтернативных возможных мирах соответствует обучению понятию художественного вымысла, fi ction. Что это значит? Это значит, в первую очередь, что субъект должен усвоить то, что можно назвать модальным мышлением или логикой вымысла. То есть он должен понимать функцию пропозициональных установок, или модальных операторов, типа «в художественном мире такого-то автора истинно или ложно то-то и то-то», «в романе Толстого «Война и мир» истинно то-то и то-то, в «Сказке о царе Салтане истинно то-то и то-то», и при этом сущность такого усвоения равнозначна пониманию того, что истинность в художественном мире не совпадает с истинностью в мире повседневном, то есть то, что истинно или ложно в художественном дискурсе, вообще может не иметь значений истинности применительно к обыденной жизни. Фундаментальную роль в этом постижении художественных миров играет, прежде всего, рассказывание ребенку вымышленных историй, например, сказок. Вероятно, можно предположить, что с очень раннего детства ребенок приобретает способность воспринимать художественный нарратив. Трудно сказать, в каком именно возрасте это происходит, так как сказки начинают рассказывать детям с грудного возраста, однако мне представляется, что решающую роль здесь играет именно отцовское, а не материнское начало. Почему? Ведь логично предположить, что первые вымышленные нарративы до ребенка доносит именно мать. Но материнские нарративы служат иной цели, зачастую не имеющей прямого отношения к формированию понятия альтернативных возможных художественных миров — эти цели имеют дологический смысл — успокаивание, отвлечение, убаюкивание, просто приучение к звучащему слову. Но когда рассказывает сказки отец, чья личность в глазах ребенка олицетворяет собой закон и творческое начало, то в этот период ребенок должен уже понимать, что то, что происходит в сказке или детской истории, никогда не происходило в реальной жизни. И что интерес истории не в том, истинна она или ложна в целом, а в ее нарративной занимательности, в нарративном наслаждении. Как это связано и связано ли вообще с функцией Суперэго, с предрасположенностью к психозу и вообще с проблемами, рассматриваемыми в этой главе?
Анна Фрейд когда-то проницательно писала, что родители часто прививают ребенку отрицание реальности, то есть психотическое мышление, когда говорят, например: «Ты уже совсем большой, совсем, как папа» [Фрейд Анна, 1999]. Это мифологическое по своей сути отождествление с родителем в духе партиципации Леви-Брюля в больших дозах, по-видимому, достаточно опасное дело. Нарративизация сознания служит противоположному — она является предохранительным клапаном против психоза. Потому что в вымышленной истории, которая не является отрицанием реальности, а альтернативным возможным миром, то есть чем-то фундаментально противоположным психотическому бредово-галлюцинаторному миру, могут происходить самые удивительные вещи, и этим подчеркивается, что есть другой мир с другими правилами и законами, мир сказок, легенд, былин, песен и т. д. Когда-то Ю. М. Лотман писал, что в жизни любого народа с самого раннего периода его развития всегда развивалась поэзия, несмотря на то, что людям приходилось выживать в достаточно трудных условиях. То есть нарративная вымышленная область играет важнейшую роль. Без нее не обходится ни одна культура. Я думаю, что связь с функцией Суперэго здесь прежде всего предохранительная. Отец не только учит тому, как надо поступать в тех или иных обстоятельствах и как нельзя поступать ни при каких обстоятельствах — эта жесткость отцовского Суперэго может привести субъекта с отклонениями в раннем развитии к психозу потому что в экстремальной психозопрождающей ситуации у него нет механизма безопасного отреагирования на эту ситуацию. Когда невоможно поступить, как должно, или выполнить необходимые предписания Суперэго, человек может попасть в психологический капкан, путь из которого лежит через тяжелую регрессию. (С этим моим предположением, как мне кажется тесно связана теория double bind Грегори Бейтсона, когда субъекту дают два логически противоположных послания и он попадает психоз [Бейтсон, 2000]. Этой регрессии, то есть психозу, можно противостоять, если наряду с функцией Символического, по Лакану то есть наряду с запретами и предписаниями Суперэго, формируется функция Воображаемого, то есть то, как могло бы быть при других обстоятельствах. Человек, которому прививалось не только жесткое повелительное Суперэго, но и мягкое творческое Суперэго, оказывается в экстремальной ситуации не в ловушке, а перед распутьем — можно поступить так, можно иначе; можно пойти направо или налево. Художественный вымысел служит для того, чтобы человек понимал, что его путь не жестко запрограммирован, что есть иные варианты продолжения событий.
В доказательство того, о чем здесь говорится, можно привести интересный, на наш взгляд, культурный факт — соотношение культур первой и второй половин XX века: довоенной серьезной модернистской культуры и послевоенной постмодернистской культуры. Одним из «завоеваний» первой была шизофрения, специфический психоз первой половины XX века. Тогда же формировалась фундаментальная психотическая художественная культура — живопись сюрреалистов, поэзия обэриутов, проза Кафки, фильмы Бунюэля (подробно см. главу «Шизофренические миры» книги [Руднев, 2004]). Несомненным завоеванием постмодернистской модели культуры стало падение частотности больших психозов, в частности, большой шизофрении, и актуализация малой амбулаторной шизофрении — шизотипического расстройства личности, в котором как и в постмодернизме, все скроено из осколков, и Суперэго которого носит тотально творческий характер — можно изменить финал произведения, можно проанализировать его тысячью различных способов и т. п. Релятивизация самого понятия истины в постмодернистской культуре способствует более гибкому реагированию на стрессовые ситуации. Конечно, шизотипическое расстройство личности — это не бог весть какое приобретение, и жить с ним субъекту достаточно трудно, но оно все же не отрицает реальности, не психотизирует личность именно в силу вступления закона альтернативных возможных миров в фазу своей фундаментальности (не случайно, конечно, что и сама семантика возможных миров сформировалась именно в постмодернистскую эпоху).
Как же могло помочь творческое шизотипическое сознание нашей пациентке, если бы оно было развито у нее в большей степени? Но вначале для простоты можно рассмотреть случай, как если бы у пациентки была нормальная (знак равенства) невротическая структура личности, а не погранично-шизотипическая. Допустим, если бы она была обыкновенной истеричкой, она бы попыталась просто соблазнить мужа своей подруги, а, соблазнив, показала бы ему на дверь, так как ее желание было бы исполнено. Если бы она была обсессивно-компульсивной структуры, то она, скорее всего, не довела бы до такого положения вещей, какое было в настоящем случае, то есть не пришла бы в гости к своим друзьям, а придя, ушла бы гораздо раньше, чем она это сделала на самом деле. Суперэго истерика — очень мягкое и податливое, Суперэго обсессивного — достаточно жесткое, но ясное, оно не допустило бы самой возможности фрустрации, испугавшись этой возможности. Если бы наша пациентка была шизоидной личностью, то она достаточно хорошо компенсировалась бы в своем замкнуто-углубленном мире, наделив эту парочку друзей какой-нибудь символической идеализацией, писала бы им письма, вела бы дневник, а потом бы и успокоилась.
Но наша пациентка — личность шизотипического склада. В ней сочетаются шизоидное, циклоидное, обсессивно-компульсивное и истерическое начала. Все эти голоса зазвучали вдруг разом, когда было уже поздно. Перед этим теплое циклоидное начало позволило ей орально-младенчески отождествиться с новыми «родителями», шизоидное — вмиг идеализировало их, представив в виде идеальной Эдиповой пары; истерическое начало, возможно, на некоторое мгновение подумало об адюльтере, но обсессивно-компульсивное тут же его одернуло. Затем грянул шизотипический оркестр без дирижера, сумбур вместо музыки — у пациентки случился тяжелейший депрессивный взрыв. Но ведь она была не психотического, а именно шизотипического склада. Чего-то не хватало в структуре ее личности, чтобы повернуть дело так, чтобы не обошлось без большой психиатрии. Авторитарный отец, пресловутое Имя Отца, жесткое в целом Суперэго и недостаточное присутствие творческого начала не позволили сделать этого. Сделать чего? Наивно думать, что человек, строящий свою жизнь в альтернативных творческих возможных мирах, спокойно приехал бы домой и написал картину «Новые папа и мама» или что-нибудь в таком духе. Если бы она была ученым, она бы могла написать статью подобную той главе, которую мы сейчас заканчиваем. Если бы она была Лаканом, она проанализировала бы свои структуры желания как нехватку в Другом. Много чего мог бы сделать поистине творческий человек. Она могла бы, в конце концов, творчески проработать создавшуюся ситуацию у психоаналитика.
Но ведь главное в творческом подходе к жизни другое. Это возможность взглянуть на ситуацию другими глазами и увидеть иное продолжение событий. Она могла бы проиграть мысленно (ее шизотипическая конституция ей это позволяла) и ситуацию адюльтера, и ситуацию некой странной экстравагантной жизни втроем, к которой косвенно приглашали ее друзья, она могла бы нарративно проработать случившееся при помощи не так в лоб поданного отражения ситуации, но как-то иначе, тоньше. Она бы могла творчески обратиться к своему детству и с помощью аналитика или самостоятельно взглянуть новыми глазами на своих настоящих покойных родителей или проанализировать положение в собственной семье, которое у нее было отнюдь не гладким. Ей могли бы открыться неограниченные возможности творчества, которые может давать повторное прохождение такой фундаментальной структуры развития, как Эдипов комплекс. Не каждому в жизни, во взрослой жизни представляется случай пережить, что это такое: быть влюбленным в отца и пытаться устранить мать. Ситуация постмодернистской эпистемической вседозволенности вполне позволяло все это. Но ясно, что недостаточно пребывать в постмодернизме и быть шизотипической личностью. Нужен еще талант, который не гарантируется ни первым, ни вторым. Талант, который позволил бы создать десять правд о случившемся, каждая из которых отличалась бы одна от другой и каждая была бы по-своему прекрасной и истинной. Но нужно быть Борхесом, чтобы написать «Три версии предательства Иуды», и Павичем, чтобы создать «Хазарский словарь».