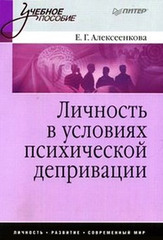МАГИЯ ЧИСЕЛ
Ограниченность объема непосредственной, или кратковременной, памяти была известна давно. В трудах английских психологов XIX века мы находим упоминания об опытах, в которых испытуемым предлагалось перечислять предметы, показываемые им перед тем на несколько секунд. Но из полученных результатов, кроме общей констатации факта ограниченности непосредственной памяти, никаких закономерностей выведено не было. В отличие от своих предшественников, Миллер руководствовался практическими задачами: надо было измерить «пропускную способность» оператора и выбрать самый удобный код для предъявления ему информации о работе технических устройств. Проведя опыты, Миллер обнаружил, что человек способен с одного раза удержать в памяти в среднем девять двоичных чисел (7+2), восемь десятичных чисел (7+1), семь букв алфавита и пять односложных слов (7 — 2). Все вертелось вокруг семерки. Но не в одной семерке было дело. По теории информации получалось, что каждая из предъявленных групп обладала неодинаковой информативной ценностью. Девять двоичных чисел равноценны 9 двоичным единицам информации (битам), восемь десятичных — 25. семь букв — 33, а пять слов — 50 единицам. Из этого Миллер заключил, что объем непосредственной памяти ограничен не количеством самой информации, а количеством ее «кусков». Эту память интересует не смысловое содержание информации, а ее чисто внешние, физические характеристики: форма, освещенность, соотношение фигуры и фона и т. п. Смыслом интересуется долговременная память, которой надлежит оценить то, что преподнесет ей память кратковременная, и отобрать для будущего все необходимое. В наш кошелек, говорил Миллер, помещается только семь монет. Доллары это или центы, кратковременной памяти безразлично. Их стоимость оценивает память долговременная.
Миллер натолкнулся на семерку в опытах со зрительным восприятием. Затем семерка всплыла наружу при исследовании восприятия слухового. Обнаружила ее сотрудница ленинградской лаборатории инженерной психологии И. М. Лущихина. Она искала способ помочь авиационным диспетчерам, которые получают информацию от нескольких источников одновременно да еще напрягаются изо всех сил, чтобы отделить ее от помех. Лущихиной надо было узнать, как влияют на восприятие длина и глубина фразы. По правилам структурной лингвистики длину она определяла количеством слов, а глубину — соотношением частей, или ветвей: структура фразы изображалась в виде древа. Каждая ветвь получала номер, номера складывались, и выходила оценка глубины. Вот тут-то и появилась семерка. Ветвь фразы соответствовала куску информации — одной монете. Если кусков было больше семи, авиадиспетчер не мог ни схватить всю фразу целиком, ни восстановить ее части, разрушенные помехами.
Число семь следует по пятам не за одними психологами. Многие люди замечают необычайную распространенность этого числа. «Семь раз примерь, один отрежь». «Семь бед — один ответ». «Семеро с сошкой — один с ложкой». «Семеро одного не ждут». «Было у тещи семеро зятьев». Семь дней творения встречаем мы в Ветхом завете, семь коров тучных и семь тощих, семь смертных грехов… Семь мудрецов было у древних греков и семь чудес света. Когда одно из чудес обращалось в прах, падал Колосс Родосский или сгорала библиотека в Александрии, его место занимало другое, но число чудес не менялось. Судьбами шумеров распоряжалось семь богов и богинь, а когда шумер умирал, он входил через одно из семи врат в подземное царство, где его ожидал один из семи судей. Чем дальше в глубь веков, тем больше семерок. В эпоху палеолита человек, кажется, и шагу не мог ступить без них. Вот перед нами знаменитая бляха со стоянки Мальта, на берегу Ангары. Сложный ее узор из ямок и спиралей построен на ритмическом повторении семерки. Вот фрагмент дротика из Западной Грузии: на двух его плоскостях вырезано по семь стреловидных знаков. Вот женские головки. Одна найдена на Дону, другая на Дунае, и на обеих рисунок из семи деталей. А с фресок пещеры Ласко, во Франции, семерки сыплются как из рога изобилия. Десятки тысяч километров отделяли друг от друга немногочисленные племена охотников на мамонтов. В племенах бытовали разные культурно-этнические традиции, племена принадлежали к разным расам и говорили на разных языках. Но магия у всех была одна, все одинаково почитали семерку. Она и сейчас еще жива у народностей, приобщившихся к цивилизации сравнительно недавно. Кеты, живущие в Восточной Сибири, уже не верят ни в чудеса, ни в богов. Кеты верят в самолеты и в транзисторы. Но говорят они так: «В селении этом живет четыре раза по семь человек и еще трое». Орочский охотник знает, что основателей его рода было семеро, а старуха нганасанка убеждена в том, что существует семь трав, исцеляющих от всех болезней. Те же верования и ту же манеру говорить можно встретить у народностей Южной Америки, Африки, Океании. Анализ этих верований, языка и археологических находок заставляет многих ученых думать, что семерка ровесница не только первобытного искусства, но и самого Ноmо sapiens.
Часть исследователей считает, что магия семерки родилась из наблюдений за движением светил и закрепилась в ту эпоху, когда люди учились считать и измерять время. Семь движущихся светил видно на небе; количество дней, в которое укладываются фазы Луны, делится на семь. Но если с космическими семерками можно связать и семь небес в ойротских и кетских мифах, и семь дней творения в Ветхом завете, и даже семь чудес света, то происхождение других семерок, относящихся к сфере быта, искусства, ремесел, влиянием одной астрономии объяснить трудно. Гораздо правдоподобнее выглядит иное объяснение. В процессе эволюции наряду со многими психофизическими константами, вроде известных порогов чувствительности или минимального времени реакции, у человека выработалась и такая постоянная величина, как объем непосредственной памяти. Тысячелетие за тысячелетием эта константа оказывала свое влияние па выработку жизненного уклада и культурных традиций, начиная с приемов охоты и способов постройки жилищ и кончая языковыми схемами и мифологическими сюжетами. Человеку было удобнее всего думать об однородных вещах, если их число не превышало семи, и он стал инстинктивно стремиться к этому числу. Так уж распорядилась природа, которой для ограничения объема непосредственной памяти надо было что-то выбирать. Выбор был невелик. Десятка и пятерка уже украшали собой конечности; этим числам предназначено было положить начало системе счисления. Тройки и четверки показалось, видно, маловато, шестерка была ни то, ни се… Что же касается самого ограничения, то его причину, по-видимому, следует искать в устройстве нервной системы и в особенностях человеческого мышления. Во всяком случае, его целесообразность не подлежит сомнению. Если бы перед нашим мысленным взором толпилось бесчисленное количество образов и представлений, мы бы просто не могли думать. Мы были бы не в состоянии сравнивать новую информацию со старой, улавливать признаки нового, давать им оценку и превращать медные монеты в серебряные перед тем, как опустить их в копилку нашей долговременной памяти. Благодаря магической семерке процессы запоминания, воспроизведения и мышления идут у нас в оптимальном, а не в критическом режиме.
Бывают, правда, обстоятельства, при которых они переходят на критический режим, и кошелек непосредственной памяти растягивается до фантастических размеров. Получается это благодаря нервному напряжению и мобилизации физиологического аппарата, с которым связано преобладание того или иного типа памяти. В XIX веке английский психолог и физиолог Карпентер описал такой случай. Некий актер, обладавший великолепной зрительной памятью, выручая заболевшего товарища, выучил за ночь его роль, запомнив и все реплики его собеседников, на другой день с блеском выступил в спектакле, но, едва опустился занавес, как все реплики и монологи вылетели у него из головы до единого словечка. С тех пор в аналогичном положении побывали, и не раз, тысячи и тысячи отчаянных студентов, которые проглатывали за ночь целый учебник, а то и два, но, выйдя от экзаменатора, и даже с приличной отметкой, мгновенно позабывали все от корки до корки. Не позабыть проглоченный за ночь учебник едва ли возможно: такая порция не переваривается. Кошелек растягивается благодаря тому, что из сознания устраняется весь предшествующий опыт и подавляются все поползновения осмыслить прочитанное. Но это подавление и лишает прочитанное опоры: не подвергшееся ассимиляции с прошлым опытом и не тронутое мыслью содержимое кошелька исчезает как сон, как утренний туман. Что касается нашей долговременной памяти, то ее объем измерить еще никому не удалось, да и вряд ли удастся. Она способна вместить не поддающееся учету количество информации и хранить ее всю жизнь. И самое замечательное, что наша память хранит все впечатления не только в их первоначальной форме, но и в тех формах, которые они принимали в процессе сгущения и переосмысливания. Как писал Фрейд, отмечая это свойство, любое состояние, в котором когда-либо находился хранящийся в памяти материал, теоретически может быть восстановлено, даже если все отношения, в которых его элементы находились сначала, будут заменены новыми. Фрейд называл это свойство странным, мы же находим его вполне естественным. Если бы мы запоминали только первоначальные формы, наш ум и характер пребывали бы в состоянии полного застоя, а наша историческая память изобиловала бы провалами. Сохранение всех форм — одно из важнейших условий единства нашей личности и возможности ее развития.
Но если объем долговременной памяти и не поддается измерению, то ее «пропускную способность» измерить можно. На XVIII Международном конгрессе психологов харьковский психолог П. Б. Невельский рассказывал о своих исследованиях запоминания. Он пользовался теми же методами, что и Миллер, и у него получилось, что из равных по величине сообщений лучше запоминаются те, в которых содержится меньше новой информации. Сознательная долговременная память весьма чувствительна к перегрузкам. На это обстоятельство, впрочем, не раз указывали классики психологии Анализ, проведенный Невельским, дал подтверждение к традиционному взгляду на причины, по которым долговременная память охотмо впитывает одно и противится другому: легче всего усваивается то, что связано с прошлым опытом, и труднее то, что не связано.
«Бывают случаи настолько необычные,- замечает Честертон в рассказе «Причуда рыболова»,- что запомнить их именно поэтому просто невозможно. Если событие совершенно выпадает из общего порядка вещей и не имеет ни причин, ни следствий, ничто в дальнейшем не воскрешает его в памяти… Оно ускользает, как забытый сон…» У людей открыты глаза лишь на те стороны явлений, которые они уже научились различать, которые уже пустили корни в их душе. Дарвин рассказывал, что жители острова Фиджи, которых он наблюдал, выказывали изумление при виде маленьких лодок европейцев, но словно бы совсем не замечали больших кораблей. У фиджийцев имелись свои лодки, только другой формы, корабли же были им не то что в диковинку: они никогда не имели с ними дела, и, воспринимая их как грезу; смотрели на них, как на пустое место. «Каждый новый факт мы относим под известную рубрику, обнимающую группу минувших впечатлений, и неохотно перекраиваем установившиеся рубрики в угоду новым фактам,- комментирует Джемс рассказ Дарвина.- Явления, идущие вразрез с привычными рубриками, мы рискуем либо забыть, либо истолковать ошибочно. Но, с другой стороны, ничего не может быть приятнее умения ассимилировать новое и старое, разоблачать загадочность необычного и связывать его с обычным. Победоносное ассимилирование нового со старым есть типичная черта всякого интеллектуального удовольствия. Жажда такого ассимилирования и составляет научную любознательность». Заметьте: не жажда новизны, а жажда ассимилирования! Сопоставьте этот самоанализ ученого с признаниями тех меломанов, которые утверждают, что истинное наслаждение от музыки они получают тогда, ( когда им удается предвосхитить своей интуицией развитие музыкальной темы, и вы получите строгую закономерность. Абсолютная новизна озадачивает и тяготит память, постижение нового только тогда доставляет удовольствие и приносит хорошие плоды, когда его можно сравнивать со старым и хотя бы отчасти угадывать. Для усвоения новизны необходима известная игра ума, игра в узнавание, необходимо, чтоб ум чувствовал свою силу, свою способность распоряжаться этой новизной.
Нет нужды доказывать, насколько губительна умственная лень, которой ничего не стоит укорениться в нашей душе и закрыть окошко, через которое мы дышим свежестью обновления. Стоит нам ослабить свою волю или вообразить, что мы все на свете уже постигли, и пустить свою мысль по проторенной дороге, как наш интеллект и наши чувства начнут покрываться ржавчиной обывательских привычек и предрассудков. Но если стремление к новизне превращается в самоцель, в род охоты, оно становится таким же рутинным стереотипом, как и безразличие к ней. Репетилов стоит Митрофанушки. Наши блуждания между Сциллой равнодушия к новому и Харибдой неумеренного пристрастия к нему доказывают, что мозг наш нуждается в здоровом рационе не меньше, чем желудок, вернее, весь организм, равно страдающий как от недоедания, так и от переедания. Очевидно, оптимальность режима запоминания определяется оптимальностью рациона, которая, в свою очередь, зависит от характера связи новых кушаний с прежними. И каждый из нас, по-видимому, должен придерживаться своего рациона так же неукоснительно, как и врачебных предписаний. К сожалению, количество новизны, необходимой для «победоносной ассимиляции», можно измерить только в лаборатории. Как угадать его в жизни, как определить норму собственной восприимчивости и выписать себе рецепт? Метод такого отгадывания еще не создан, но это не должно нас обескураживать. Статистический анализ обширного материала, проведенный в 1971 — 1972 гг. новосибирскими социологами, применившими надежные коэффициенты и воспользовавшимися услугами быстродействующих ЭВМ «БЭСМ-6» и «Минск-22», показал, что в подавляющем большинстве случаев мы свои нормы пока не выполняем.