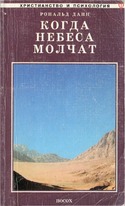КНИГА ВТОРАЯ. БЕЗМОЛВИЕ
Часть первая. ЖИЗНЬ БЕЗ ОТВЕТОВ. Служение безмолвия
ГЛАВА 9. ПОЧЕМУ Я?
В 1972 году я подарил своей жене на Рождество золотые часы. На крышке была выгравирована надпись: Дорогой Кай, с любовью, 1972 «Замечательный год»
Тогда я еще не знал, что это будет наш последний замечательный год на довольно долгое время.
В начале 1973–го у нашего пятнадцатилетнего сына Ронни ни с того ни с сего, как нам тогда показалось, начались перепады в поведении. Он очень изменился, стал другим человеком. В школе его дела пошли под гору, он сделался угрюмым и непредсказуемым. Сегодня он чувствовал себя счастливейшим на свете, а назавтра вдруг становился злобным, неразговорчивым, раздражительным и грубым; но на следующий же день корил себя за свое вчерашнее поведение.
Мы ломали голову, что же случилось и что на самом деле творится с нашим сыном. Сначала я подумал, что у него духовные трудности, но в течение последующих трех лет, невзирая на паши непрестанные молитвы и все усилия, которые мы прилагали, положение только ухудшалось.
После попытки самоубийства мы поместили его на две недели в психиатрическую лечебницу на обследование. Ему поставили диагноз «маниакальная депрессия», т.е. расстройство в поведении, вызванное химическим дисбалансом в крови, что и делало его глубоко несчастным и подавленным. Болень его была биполярной, что означало, что настроение его колебалось между радостной приподнятостью и мрачным отчаянием.
Врач прописал ему новое чудодейственное лекарство литиум, а также стелации и элавии. Ронни сразу же стало намного лучше. Одно из моих самых ярких и счастливых (?) воспоминаний — это момент, когда он понял, что не его вина в том, что он так себя ведет, что причина тому — его болезнь.
Воодушевленные осознанием того, что диагноз поставлен и исцеление возможно, мы с Кай молились с большой верою. У нас не возникало сомнений в том, что Господь спасет нашего мальчика. Нам казалось, что мы услышали от Бога это обетование. Я знал, что в один прекрасный день Ронни пойдет по моим стонам, станет пастором и посвятит свою жизнь служению Богу. Кошмар был позади. Это был август 1975.
Три месяца спустя в День благодарения Ронни покончил с собой.
Доктор предупреждал нас, что больные этой болезнью зачастую перестают регулярно принимать лекарства, как только начинают чувствовать себя хорошо, считая это излишним или попросту забывая принимать их. Однако химический баланс в крови — вещь настолько деликатная, что пропуск даже одной дозы может привести к трагическим последствиям. Каждое утро Кай давала ему дневную норму таблеток с собой в школу (ему не разрешалось приносить туда целую баночку). Несколько раз, разбирая грязное белье, она находила лекарство забытым в кармане рубашки.
Холодным серым декабрьским днем друзья и родственники собрались у серого гроба, чтобы похоронить то, что осталось от восемнадцати лет смеха и слез, трехколесных велосипедов и бейсбольных бит, боли и надежды, детских шортиков и уроков вождения. Когда фоб скрылся в могиле, вместе с третью земли я бросил туда всю свою прежнюю жизнь легких ответов и незаданных вопросов, кроме одного единственного: «Почему?». Я до сих пор пытаюсь избавиться от него.
Помимо естественной при данных обстоятельствах боли от невосполнимой утраты, прошедшие через подобные несчастья люди несут на себе двойной груз переживаний: им приходится бороться не только со своими истерзанными чувствами, но и с осознанием собственной вины в неспособности предотвратить самоубийство дорогою им человека.
Известный психиатр Сью Чанс после того, когда ее сын лишил себя жизни, написала такие горькие слова: «Меня тогда неотвязно преследовала одна мысль: «Чтобы действительно ощутить себя неудачником в жизни, нужно пройти через самоубийство собственного ребенка». Это ужасно — потерять свое дитя, и я искрение сочувствую всем родителям, которых постигло это горе, но то чувство вины, которое гложет вас за то, что вы не смогли «вовремя» вызвать врача, что не сумели уберечь его от рака или пьяного водителя, не идет ни в какое сравнение с разъедающим душу жестоким пониманием того, что ваш ребенок не выдержал жизни, которую вы ему подарили».18
18 Sue Chance, Stronger Than Death (New York: W W Norton&Company, 1992), p. 50.
А потом обязательно находятся нечуткие люди, подобные одному моему знакомому с его глупым вопросом: «А правда, что самоубийцы попадают в ад?».
Но кроме всего этого было нечто такое, что делало смерть Ронни еще более невыносимой для меня. Дело в том, что несколько моих близких друзей тоже ощущали на себе трудности переходного возраста своих чад, у некоторых дети были даже арестованы за употребление наркотиков. Связанные общими переживаниями, наши семьи образовали своеобразное братство, союз людей, молящихся друг за друга с верою, что Господь вознаградит нас за рвение и внемлет нашим мольбам.
Ронни оказался единственным, кому это не помогло. Создавалось впечатление, что в то время как Бог улаживал дела наших друзей, на наши молитвы Он не обратил никакого внимания. Признаюсь откровенно, мне было очень тяжело радоваться вместе с другими родителями, когда их блудные дети возвращались под отчий кров. Однажды я даже не поднял трубку, потому что знал: это звонит мой друг, чтобы сообщить мне, что их мальчик вернулся домой. Я не желал слышать о спасении чужого сына.
Поначалу я пытался быть «духовным» и «побеждающим». Я старался не задавать Богу вопросов. Я «за все благодарил», я воздавал «хвалу Господу», как примерный католик воспевает «Аве Мария» или язычник совершает обряды умилостивления своего божества. Но дни перетекали в недели, недели в месяцы, и я знал, что Ронни никогда не вернется домой. Я чувствовал себя обманутым и преданным. А когда шок от случившегося, который немного притуплял мою боль, прошел и я отчетливо ощутил реальность смерти, она накрыла меня тяжелым черным туманом. И тогда весь мой доселе сдерживаемый гнев, вся моя горечь и обида вырвались наконец наружу в отчаянном вопле: «Почему, о Боже?!», и это походило скорее на обвинение и упрек, нежели на простой вопрос. В древнееврейском языке слово «почему», наиболее часто употребляемое в псалмах, обозначает «…вопль одновременно и горечи, и протеста, в него вкладывается вся суть страданий человека, который представляет их Богу на рассмотрение. Это слово содержит в себе несколько вопросов: для чего, но какой причине и до каких пор Господь будет молчать. Подразумевается также, что эти страдания несправедливы».19
19 G. Tom Milazzo, The Protest and the Silence (Minneapolis: Fortress Press, 1992), p. 43.
Но на все мои вопли, мольбы и угрозы я получил в ответ лишь гробовое молчание, вызывающее трепет и безмолвие небес.
Я твердо убежден, что скорбь и страдания — вещи глубоко интимные, поэтому я воздерживаюсь описывать здесь все подробности того ада, через который мне пришлось пройти. Я вовсе не похваляюсь своим горем в надежде снискать ваше сочувствие. В том, что я испытал, нет ничего уникального и неповторимого. Очень многие терпели поражения в подобных и более тяжких битвах. Так зачем же я вообще затеял рассказывать эту историю? Думаю, я это сделал и для самого себя, и, не в меньшей степени, для вас.
Почему мы все время спрашиваем «почему?»?
Вильям Миллер очень точно подметил один важный момент, когда сказал:
Потребность во что бы то ни стало получить хоть какой–нибудь ответ в человеке настолько сильна, что, если нам не будет дано конкретное заключение, разумное объяснение или причина того, о чем мы спрашиваем, мы придумаем их сами. Возможно, они не будут иметь никакого смысла в глазах стороннего наблюдателя, но они утолят нашу собственную жажду. По правде говоря, большинство так называемых «ответов», которые изобретают люди посредством умозаключений и рассуждений, на деле является не более чем эвфемизмом или банальностью. Так или иначе, но они удовлетворяют паше желание все объяснить, а потому помогают нам быстрее смириться с утратой?20
20 William A. Miller, When Going to Pieces Holds You Together (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1976), pp. 79, 80.
Наше поколение живет под девизом: «Люди имеют право знать». Мы требуем объяснения всему и вся, и бдительное око услужливой прессы и службы новостей держит нас в курсе всех дел, начиная от геморроя, которым страдает Джимми Картер, и проблем в толстой кишке у Рональда Рейгана и кончая отвращением Джорджа Буша к капусте брокколи и новой стрижкой Билла Клинтона. В наши дни конгресс тратит больше времени на расследования, чем на законотворчество (и, наверное, это даже к лучшему). Конфиденциальность становиться пережитком.
Однако, в то время как журналисты, законодатели и всевозможные прорицатели живут и действуют по этим принципам, Господь следует Своим. Он опирается не на «право знать», но на «потребность знать».
Так что же такого сверхъестественного, таинственного и целительного в понимании причин происходящего? Приведу нам несколько аргументов.
Прежде всего, оставшийся без ответа вопрос «почему?» нарушает упорядоченность жизни, в которую мы свято верим. Нам нравится думать, что мы живем в хорошо организованной вселенной, где все имеет свой смысл. Каждому событию есть логическое объяснение, и у каждого следствия есть причина.
Так было всегда. Джеймс Креншоу пишет:
«Для того чтобы сделать жизнь более сносной, древние выработали у себя веру в порядок, как в макрокосмосе, так и в микрокосмосе. Вселенная была предсказуема, ограничена, поскольку подчинялась воле и желаниям Создателя… И пока эта уверенность в существовании порядка в мире сохранялась, сохранялся в целости и сущностный вселенский смысл, — за исключением тех редких моментов, когда идиллия нарушалась отдельными случайными событиями, которые превращали человеческое счастье в иллюзорную мечту».21
21 James L Crenshaw, «Introduction: The Shift from Theodicy to Anthropodicy», in Theodicy of the Old Testament, ed. James L Crenshaw (Philadelphia: Fortress Press, 1983), p. 2.
Антропологи говорят, что уже на самой заре зарождения человека он был уверен в своей способности контролировать собственную жизнь. Ритуалы, совершаемые доисторическими людьми, были основаны на представлениях о том, что сила или дух животного может перейти к человеку, если тот принесет его в жертву богам, или что ловкость и умение врага может передаться любому, кто снимет с него скальп. Сначала люди пытались влиять на свою жизнь посредством обрядов и жертвенных алтарей. Эрнст Беккер пишет:
«Человек мерил, что при помощи ритуалов и заклинаний он может взять верх над материальным миром и выйти за его пределы, чтобы воплотить в жизнь свои неосязаемые идеи. Эта уверенность придавала человеку ореол сверхъестественного и возносила его над миром гниения и смерти».22
22 Ernest Becker, Escape from Evil (New York: The Free Press, 1975), p. 7.
По мере развития цивилизации на смену обрядам и алтарям пришли наука и техника, которые были возведены на пьедестал. Мы обожествили машины и доверились им безоглядно. Но со временем мы пришли к печальному заключению, что машины тоже не безупречны и могут ошибаться. Они ломаются, а с ними рушится и наше доверие.
В попытке восстановить утраченную власть над собственной жизнью мы вновь вернулись к забытым обрядам и алтарям (и не обязательно именно к христианским), а некоторые — даже к молитве и вере. Для многих людей молитва и вера не являются средством исполнения Божьей воли, они лишь инструменты для управления собственной жизнью. Успешное с ними обращение, но нашим представлениям, дает нам возможность отрешиться от перипетий земного существования, и нередко методы, к которым мы прибегаем в желании использовать эти орудия в свою пользу, немногим отличаются от методов первобытного человека.
Все дело в том, что мы требуем, чтобы мир был полон порядка и подвластен контролю. Любое событие должно иметь логическое объяснение. Если не заводится машина, значит, кончился бензин или сел аккумулятор. Если в нашем доме гаснет свет, значит, либо неполадки на линии, либо мы не оплатили счет. В случае если мы никак не можем выздороветь, шаман или религиозный целитель проницательным взором определит, что истинная причина нашей болезни — тайный грех или маловерие.
Нам необходимо логическое объяснение, стройное и обоснованное, без сучка и задоринки. Жизнь — это не просто игрушка в чьих–то неведомых потусторонних руках, не просто бессмысленная вспышка в глубинах вселенной. Наше существование или смерть не зависит от переменчивой фортуны. И такой взгляд на мир придает нам уверенность в завтрашнем дне и предохраняет нас от безумия. Но безответное «почему?» угрожает разрушить наш карточный домик, столь прочный на вид.
Гельмут Тилике выразил это так:
По большому счету… все мы ведем довольно безобидную жизнь без особых тревог. Все чинно идет своим чередом. Из опыта мы понимаем, что зло не приносит благ, что успех приходит к прилежным и что бездельники остаются ни с чем. Но внезапно что–то случается, словно вдруг ломается ось в этом размеренно вращающемся механизме. Перед нами вдруг возникает какое–то препятствие, происхождение которого мы не можем себе объяснить…
Разве не окружают нас со всех сторон эти темные, неразгаданные тайны, от которых так сложно отмахнуться? Почему в самом расцвете нашей жизни, когда дела идут лучше некуда, на нас неожиданно наваливается осознание реальности смерти и непрочности жизни?23
23 Helmut Thielicke, How the World Began, trans. John W Doberstein (Philadelphia: Muhlenburg Press, 1961), p. 171.
И еще один момент. Если бы мы нашли логическое объяснение происходящему, мы могли бы предотвратить повторение трагедии. Зачем этому кошмару случаться вновь, тем более снова с нами? Чуть позже мы разберем случай, описанный в Евангелии от Иоанна, когда Иисус исцелил слепого. Если вы помните, ученики тогда спросили Христа, чьи грехи навлекли на этого человека такой страшный недуг, родительские или его собственные. Меня всегда занимало, что побудило их задать подобный вопрос. Должно быть, за ним стояло нечто большее, чем простое богословское любопытство. Возможно, у них в голове мелькнула мысль, что если бы они узнали, какой грех может вызвать У человека слепоту, то смогли бы избежать его в будущем. И уж от чего — от чего, а от слепоты они были бы надежно застрахованы.
Быть может, действительно, наше страстное желание знать причины происходящего продиктовано лишь нашим страхом, что подобное может произойти и с нами. У меня нередко создавалось впечатление, что зачастую, когда люди молятся о чьем–нибудь исцелении, на деле они молятся о своем собственном. Мы как бы устраиваем проверку: если Господь дарует выздоровление этому несчастному, возможно, Он так же поступит и со мной. Это поддерживает нашу надежду на то, что мы можем слегка оттянуть наступление неминуемого. Вся наша жизнь теплится на этой молитве.
Возможно, именно об этом думали друзья Иова, когда утешали его. Варреи Вирсбе пишет, что состояние Иова угрожало их душевному спокойствию: «То, через что ему пришлось пройти, ставило под сомнение обоснованность их такой гладкой и ясной теологии… То, что случилось с Иовом, вполне могло произойти и с ними самими! Их не очень–то беспокоил Иов со всеми своими неприятностями. Их главной заботой было не просто утешить страдающего человека, а избавиться от проблемы как таковой».24
24 Warren W Wiersbe, Why Us? (Old Tappan: Fleming H. Revell Company, 1984), p. 46.
Люди, подобные Иову, вызывают у окружающих чувство неловкости. Непрестанные муки этих несчастных ведут к сбою в нашей безупречной богословской машине и заставляют нас выдумывать объяснения неполадкам, изобретать исключения из правил. И на это у нас фантазии хватает.
Мы задаем себе этот извечный вопрос «почему?», потому что мы жаждем освобождения от чувства вины. Чувство вины есть неизбежное последствие горя и страданий. И нет ничего более иррационального, чем чувство вины, рожденное горем. Каким–то причудливым образом исполнившись скорбными мыслями, мы вдруг приходим к осознанию того, что во всем происшедшем отчасти или даже полностью виноваты мы сами. Мы либо спровоцировали это, либо внесли свой вклад в развитие событий, либо ничего не предприняли для предотвращения несчастья. Чувство вины нашептывает нам, что мы мало любили, мало делали мало были. Наверняка можно было найти способы отвести все эти напасти — и это нас убивает.
Однако же разумные объяснения, доказывающие, что мы тут совершенно ни при чем и что мы были бессильны этому противостоять, поскольку «такова на то Божья воля», освобождают нас от ответственности и — от чувства вины. Особенно часто это происходит с теми, кто пережил самоубийство близкого человека. Мы так хотим, чтобы это оказалось лишь несчастным случаем или трагической ошибкой — всем, чем угодно, только не самоубийством. Самоубийство вопиет и обличает нас.
Желание освободиться от этого гнета настолько велико, что порой мы начинаем прилюдно осуждать и обвинять самих себя в надежде, что окружающие бросятся нас утешать и убеждать в обратном.
Более того, спрашивая «почему?», мы стремимся обрести душевное равновесие. Вопрос «почему именно я?» предполагает, что допущена несправедливость, требующая исправления. «Вопрос «почему я?» делает упор на случайность всей ситуации, на некую нечестность но отношению к нам. Он помещает человека в пучину хаоса».25
25 Richard M. Zaner, «A Philosopher Reflects: A Play Against Night's Advance», in To Provide Safe Passage, ed. David and Pauline Rabin (New York: Philosophical Library, 1985), p. 241.
Практически никто не спрашивает себя: «А почему не я?». Некоторые, быть может, приходят к этой мысли, но чуть позже, не в самом начале. Какое бы несчастье с нами ни приключилось, мы его, конечно же, не заслужили; мы просто случайно проходили мимо, и нас настигла шальная нуля. Когда с нами происходит что–нибудь хорошее, мы не терзаем себя лишними вопросами, нет, — это бывает только в случае несчастья. Врач–психиатр М. Скотт Пекк подметил следующую особенность: «Странное дело. Сколько раз мои пациенты и знакомые задавали мне один и тот же вопрос: «Доктор Пекк, почему в мире существует зло?». И никто за все эти годы не спросил меня: «Почему в мире существует добро?».26
26 M. Scott Peck, People of the Lie (New York: Simon and Schuster, 1983), p. 41.
Не так давно в нашем городке в аварии погиб молодой человек. Ни он, ни его родные не были верующими. Один из организаторов похорон пригласил пастора из нашей церкви провести церемонию. За день до назначенного срока тот зашел к родителям юноши обсудить последние детали. Перед самым уходом он спросил у матери, можно ли ему будет помолиться над гробом. Женщина пришла в ярость и закричала ему в лицо: «Никаких молитв! Слышите?! Господь забрал у меня моего мальчика! Никаких молитв в этом доме не будет!».
Когда расстроенный пастор рассказал мне эту историю, я подумал: «Наверное, впервые за многие годы эта женщина вспомнила о существовании Бога. И, наверное, впервые пришала, что Он на что–то способен». Сомневаюсь, однако, что, когда ее сын только родился, она воздала хвалу и благодарность небесам. К рождению ребенка Бог отношения не имел, а только к его смерти.
Почему мы только виним Бога за то плохое, что происходит в пашей жизни? Почему страховые компании называют стихийные бедствия и различные катастрофы «деяниями Божьими»? Мы никогда не подвергаем сомнению хорошие события, только плохие. Мы не поражаемся, насколько благ Господь, мы принимаем это как должное. Несчастья нас удивляют, а удачи нет.
И хотя обретение заветного ответа на это сакраментальное «почему?» ничего уже не исправит, оно, но крайней мере, восстановит наше уязвленное чувство справедливости, которая, как мы верим — или, скорее, отчаянно желаем верить, — заложена в саму основу Божьего творения. Ведь если мир действительно создан Богом, то он должен покоиться на принципах справедливости и равенства. Это было бы логично. «В конце концов, — пишет Джеймс Крепшоу, — тот, кто повелел этому миру быть, обладает достаточным запасом силы, чтобы сохранять его в порядке и равновесии. Недаром мудрецы разных эпох вновь и вновь возвращались к идее неразрывной связи творения и справедливости».27
27 Crenshaw, op. cit., p. 3.
Этот вопрос можно рассматривать и как попытку оправдать Бога. «Почему?» на самом деле подразумевает «почему, о Боже?». Оно адресуется Всевышнему Богу, Владыке мира, и, как любил говорить мой профессор по богословию, «владычество Бога заключается в том, что Он может делать все, что Ему угодно, — и это замечательно». Верить во всемогущего и вселюбящего Бога — значит верить в то, что Он участвует во всем происходящем, но когда вдруг случается что–то плохое, Его светлый облик немного меркнет.
Богословы называет это термином «теодицея», что в вольном переводе звучит примерно как «попытка объявить Бога невиновным во всем том, что в нашем представлении нарушает порядок в обществе и во всей вселенной».28
28 Ibid., p. 1.
Если Бог — Владыка мира, мы вынуждены признать, что именно Он сделал так, чтобы это произошло, или позволил этому произойти, что подразумевает: что в обоих случаях Он мог это предотвратить. И для страждущего разницы между двумя нюансами нет никакой. Мы вторим Аврааму: «Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт. 18:25) — или Гедеону: «Если Господь с нами, отчего постигло нас все это?» (Суд. 6:13).
В своей книге «Когда боги молчат» Корпели Миско пишет об ужасах Освенцима и задает леденящий душу вопрос: «Человек может по–прежнему «верить» в Бога, Который нозволил всему этому случиться, но как он после этого может с Ним разговаривать?».29
29 Kornelis Miskotte, When the Gods Are Silent (New York: Harper &Row, 1967), pp. 252, 253.
Пережив опустошительную трагедию, пытаясь собрать воедино осколки нашей веры, мы вызываем Бога на ковер и требуем от Него объяснений — и пусть Он только попробует не предоставить нам достаточно веских обоснований того, что сделал! Но мы забываем, что Бог — это Бог, и Он не обязан отчитываться перед нами за Свои поступки.
И наконец, наш последний и, пожалуй, самый обоснованный повод задаваться вопросом «почему?», это то, что мы не можем жить в догадках. Этот компьютеризированный, «телевидеонизироваииый» век провозгласил, что никаких тайн больше нет, они просто недопустимы. Все в этом мире должно быть разобрано на части, отправлено на рентген, сфотографировано, идентифицировано и классифицировано. Когда мы задаем свой привычный вопрос, все, что нам нужно, — это получить простое, незатейливое объяснение случившемуся, чтобы не ломать себе голову над какими–то досадными загадками.
Поэтому неудивительно, что такой небывалой популярностью пользуется движение сторонников «евангелия процветания». Оно предлагает простой ответ на любой вопрос и легкое решение сложнейших задач. Мы освобождаемся от столь обременительной обязанности — мыслить самостоятельно. Мы приходим на все готовенькое. Люди требуют ответов, требуют гарантий, им нужен вождь, исполненный уверенности, который скажет: «Да, я все знаю, и я вам объясню!». Воля и власть Божий пойманы, как бабочка в сачок, теми, «кто знает что здесь к чему», и помещены в рамки нехитрой инструкции для пользователя: «Нажми, потяни — щелк — ответ получи!».
Но тайна остается. И, как сказал Габриэль Марсель, «Странно как–то получается, но, похоже, именно страдания способны привнести в нашу жизнь духовный смысл и именно потому, что таят в себе бездну непостижимого и неразгаданного».30
30 Gabriel Marcel, Being and Having, trans, by. Kathryn Farrer (London: Dacre Press/Westminister, 1949), p. 143.
Но однажды, когда я мучительно боролся со своими переживаниями, меня вдруг посетила мысль: «А что если я задаю неверный вопрос?».