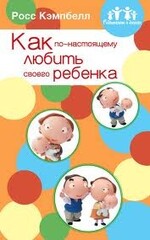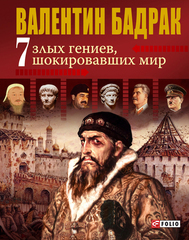Идея создания этой книги появилась у меня давно. Она возникла благодаря тому интересу, с которым на лекциях, семинарах или симпозиумах повсюду — в Армении, России, Франции, Германии — аудитория отзывалась на рассказ о детском психоанализе. Описание конкретных случаев, обсуждение форм и методов работы с детьми вызывало оживленные дискуссии. Психологи, врачи, социальные работники и педагоги независимо от возраста и опыта работы очень часто выражали особую, можно сказать личностную заинтересованность и желание углубиться в эту область психоанализа.
Окончательно подтолкнул меня к написанию книги, сам того не ведая, доктор Х. Кехеле на семинаре,[1] где я представляла «Дикую Розу», он посоветовал мне опубликовать этот случай — «хороший материал для обучения студентов».
«Этюды по детскому психоанализу» — итог работы нескольких лет. Они были написаны по разным поводам — это и доклад («Будни Сада радуги», 1996), и статья («Мари и турки», 1989), и разбор на семинаре («Дикая Роза», 1998), и рассказы из сборника «Революция маленьких шагов». Объединяет их форма изложения — новелла, а также цель — показать детство и его проблемы с точки зрения психоанализа. Это не концептуализация и не наставление, – скорее ретроспектива пройденного пути, а также приглашение к участию в процессе и к совместной интерпретации в аналитическом ключе. Книга демонстрирует возможности применения психоанализа в различных формах работы с детьми разного возраста. Особое место уделено превентивной работе с маленьким ребенком и его семьей в центре ранней социализации «Сад радуги»: об этом рассказывается в предисловии к книге «Место встреч — „Сад радуги“».
Почему место встреч, а не воспитательное учреждение? Почему психоанализ? И наконец, почему ранней социализации?
Начнем с ответа на последний вопрос: родиться человеческим существом еще не означает быть принятым в социум, развиваться и взаимодействовать в соответствии с нормами и законами межличностного общения, стать и быть Человеком. Именно общество (включая семью и родителей) принимает или отрицает твое право на Самость, собственное желание, автономию, физическую и психическую самостоятельность. Современный психоанализ доказывает, что чем раньше ребенок вступает в пространство социального взаимодействия как равный субъект общения и речи, тем раньше диада «мать — ребенок» перевоплощается в триаду «мать—отец—ребенок», «родители — ребенок—общество», тем устойчивее структурируется психическое развитие ребенка, тем гармоничнее психосоматическое единство и равновесие. Это и есть социализация в «Саду радуги», как и во всех учреждениях, основанных под влиянием идеи «Зеленого дома» Ф. Дольто,[2] — «Зеленой дверцы» — в России, Бельгии, Швеции, Канаде, Польше и других странах.
Задачи социализации здесь таковы: сохранить гармонию диады «мать—ребенок», восстановить равновесие при чрезмерностях,[3] таких, как «сверхзабота» или «слишком» мало или много любви, тревоги и т. д., и ввести маленького ребенка в поле структурирующего запрета-закона, перед которым все равны.[4] Логика запретов: сохранение своего здоровья и здоровья другого человека (ребенка), а также ограничение «всемогущества» ребенка, присущего эдипальному возрасту.
Приняв законы обитания в социальной среде и межличностного общения «Зеленого дома», ребенок быстро завоевывает и увеличивает пространство своей самостоятельности в соответствии с возможностями своего возраста, своей индивидуальности — то есть выражает готовность к общению с миром, другими людьми, а его мама — готовность выпустить его в мир, общество. Плавно, мягко и не спеша оба готовятся к сепарации. Обоим нужно время — принять, поверить, довериться, чтобы расстаться, пройти благополучно этот путь от 0 до 4 лет. Пространство «Зеленых домов» и нашего «Сада радуги» обеспечивает ребенку возможность вовремя разрешать возникшие проблемы.
Теперь ответим на второй вопрос — почему психоанализ?
Прежде всего потому, что работа центра основывается на теории психоанализа. Здесь приоритет отдается не отдельно взятым школам или направлениям, а фундаментальным положениям о психосексуальном развитии, заложенным Фрейдом и обогащаемым данными современной теории и клинической работы. Это условие оговорила Ф. Дольто, чтобы уберечь «Зеленый дом» от идеологических распрей и авторитарной эксплуатации в интересах какой-либо одной школы, пусть даже психоаналитической ориентации.
«Зеленый дом» — это пространство трансференциальных отношений. При всех отличиях этого трансфера[5] от клинического его роль и значение чрезвычайно важны в каждом отдельном случае: и для родителей, и для детей, и для принимающих (сотрудников). Поэтому естественно, что в работе коллектива на ежедневных встречах бригады из 3 человек и общих семинарах всего коллектива особое место занимает анализ трансференциальных и контрансференциальных отношений.
И наконец — почему место встреч, а не воспитания и обучения?
Здесь не воспитывают, не обсуждают, не оценивают поведение и деятельность, здесь не функционируют принятые в таких случаях методы поощрения и наказания, отсутствуют нравственные установки и стереотипы. Наоборот, любые попытки их внедрения родителями или детьми переносятся в плоскость поиска и анализа бессознательного импульса или мотива, действия или поведения. При этом интервенция принимающего имеет максимально нейтральный характер. Вмешаться ровно настолько, чтобы не навредить, не затронуть нарциссизм ребенка или родителя, не ущемить права их личности. То есть словом или взглядом бережно «прикоснуться» к их поведению или действию, но не затронуть «Я» субъекта.
«Достаточно ли одной такой встречи-беседы, чтобы разрешить проблему?» — часто задаваемый вопрос, в котором обычно сквозит недоверие клинициста.
Достаточно,[6] поскольку она единственная лишь формально, как факт одной беседы, но встреч ровно столько, сколько раз ребенок и родитель посетят «Зеленый дом». Ибо, не будучи ни воспитательным, ни психотерапевтическим, ни даже консультативным центром (учреждением), он интегрирует все три эти функции (качества). Дети, родители и принимающие — все обитатели имеют возможность слышать, видеть, говорить, различать, узнавать, принимать, исследовать себя и других, встречаться с собой и другими, а значит — познавать, развиваться, учиться. Эффект встречи-беседы, ее позитивный результат достигается за счет работы награни «чуть-чуть», полу-, недосказанности, что требует максимальной включенности и напряжения «третьего» уха, глаза. Это совсем не просто — работать, как говорила Ф. Дольто, «легко, точно и вовремя», попадать в цель или отстраняться, вести беседу так, чтобы подтолкнуть личность к поиску вопросов и ответов в себе, своем реальном бытии. Вот она — большая и значимая работа психоанализа в маленьком пространстве нашего «Зеленого дома» — «Сада радуги».
В то время как роль психоанализа в превентивной работе малоизвестна, роль психоанализа в психотерапии детей известна и не оспаривается. Тем не менее даже среди специалистов бытует мнение, что это дело простое, что гораздо менее ответственно и более легко работать с детьми, чем со взрослыми. Порой можно услышать утверждение: детская психотерапия — это «хорошая педагогика и воспитание»; такое утверждение является расхожим заблуждением, ибо психотерапия детей, во всяком случае психоаналитическая, – это прежде всего психотерапевтические, трансференциальные отношения, исключающие морализаторство, это особая реальность и «связи», которых ребенок не имеет в своем социуме.
Такие отношения, как и содержание, течение и длительность терапии, в каждом случае специфичны. Большую роль в них играет возраст ребенка, особенности нарушений (или симптома), их устойчивость, длительность и сила страдания. Но для детей так же, как и для взрослых, психоанализ и психотерапия — это работа сложная. И взрослый, и ребенок должен иметь соответствующий мотив и личное решение — «запрос» на психотерапию. Это условие для детской психотерапии может показаться вторичным, так как ребенка к психотерапевту обычно приводит родитель, который сам и оплачивает сеансы, а значит, может и сам принимать решение. Но если не учитывать «запроса» ребенка, психотерапия может превратиться в принуждение или соблазнение, а процесс — повторять реальные отношения, для которых часто характерны манипуляции и притворство.
Поэтому только в случае согласия ребенка на терапию мы можем рассчитывать на контракт лично с ним как с субъектом терапии, на альянс, терапевтическое взаимодействие и результат.
С ребенком даже самого нежного возраста[7] при индивидуальной психотерапии можно договориться о его личной символической оплате сеансов: камешки, спички, а для детей постарше — нарисованная ими валюта по их выбору. Мой собственный опыт применения этого нововведения Ф. Дольто показал, что это имеет позитивный эффект, заключающийся в большей свободе отношений и в обогащении элементов интерпретации трансференциальных отношений.
Как и в работе со взрослыми, в детской психотерапии очень важны: минимальные интервенции, позволение говорить (но не делать) все, сохранение конфиденциальности, вопреки многочисленным хитроумным провокациям родителей и их стремлению проникнуть в «кадр» психотерапии их ребенка.
Иногда одному из родителей (или других членов семьи) с исчезновением симптома, улучшением состояния ребенка становится хуже,[8] а порой родитель резко прерывает психотерапию[9] своего ребенка — драматичная ситуация, в которую психотерапевт не может вмешиваться. Исход ее может быть и благополучным, ибо в жизни ребенка может произойти повторение трансференциальных отношений в его окружении, или вытесненный аффект может найти свое выражение на последующей стадии развития.
Детская психотерапия имеет еще одну особенность. Речевые затруднения ребенка, сложности вербализации, связанные с его симптомами или психическим расстройством, компенсируются богатым материалом невербальных средств выражения: это рисунки, лепка, конструкции из «Лего» и кубиков. Их интерпретация — не самоцель, но вокруг и на основе символов-сообщений можно строить и развивать психотерапевтические отношения с ребенком. Описывая эти десять случаев, мне хотелось показать материал, который демонстрирует чувствительность детей к травмам, их готовность и желание быть с нами, взрослыми, открытость и способность к общению на любом языке, выражающем искренность и истину.
На это настроен мощный радар органов перцепции, мгновенно схватывающий и различающий тональность лжи, неискренности, страхов, секретов и пугающих призраков.
От них ребенка избавляет превентивная психотерапевтическая работа, и чем раньше она начинается, тем быстрее происходит исцеление от страданий.
Детская психотерапия сложна и ответственна, как и работа со взрослыми, а может быть, и более того.
Ибо у детства свой язык, и прежде чем приступать к работе с детьми, надо овладеть их языком.
А у них — «Все есть язык!»[10]
Место встреч — «Сад радуги». (вместо предисловия)
«Дети — источник знания. Существа, которые задают истинные вопросы. Как исследователи. Они ищут ответы».
Прежде чем описать будни нашего «Сада радуги», я остановлюсь на его основных идеологических и этических принципах. Следование этим принципам обеспечивает такую жизнь «Зеленого дома», какую создавала Ф. Дольто, предусматривая самые важные условия для становления личности человека.
Первый «Зеленый дом» открылся 6 января 1979 года в Париже, на площади Сент-Шарля. Спустя некоторое время посыпались вопросы: «Чем же вы занимаетесь?», «Что же вы делаете?»
Недоумение вызывало непривычное для детских учреждений отсутствие воспитательных и педагогических задач, форм и методов работы. Отсутствовали общепринятые логопедические, анимационные или родительские группы, организация и управление игрой детей. Иногда в адрес «Зеленого дома» раздавались и упреки: «Вы же ничего не делаете, просто не мешаете жить».
– Быть с людьми — это ничего не делать? – отвечала Ф. Дольто. – Это игра? – и добавляла: — Это нужно делать. Это как ничто другое развивает существо.[12]
Объясняя суть работы в «Зеленом доме», Ф. Дольто нередко говорила: «Мы ничего не делаем». При этом она имела в виду: не вмешиваемся, не управляем, а слушаем и говорим. «Наша работа — не делать, а говорить»,[13] — подчеркивала она и предупреждала, что никогда не следует делать за ребенка то, что он уже умеет делать сам.
Один из основных этических принципов «Зеленого дома», сформулированных Ф. Дольто, – чтить свободу другого. Он подразумевает свободу выбора, которой достоин каждый независимо от возраста — даже новорожденный.
Уважать свободу ребенка — значит предлагать ему модели, тем самым давая ему возможность избегать навязанного подражания.
Учитывая, что для детства вообще характерно присваивание чужих ценностей, скажем, желание «быть своим старшим братом», быть кем-то другим, особенно важно объяснять ребенку, что это свойственно всем людям, когда они еще дети, и что все иногда ошибаются, не знают, что лучше — быть самим собой или другим? «Защищать (отстаивать) собственные желания, не присваивать желания другого» — основные условия формирования личности.
«Мы это делаем все время, – пишет Ф. Дольто о своем первом „Зеленом доме“. – И они (дети. – А.В.) понимают, что лучше быть собой, чем делать как Другой».[14] Ф. Дольто считала это большой превентивной работой. Все, что обозначается словом, должно быть истинным, подлинным, – так формулировала она свои требования для работы в «Зеленом доме». Здесь все должно быть корректно, легко и точно. «Мы умеем легко показать родителям их стремление к всемогуществу, кастрационные и фрустрационные тенденции в их отношении к собственным детям. Мы показываем им это в непосредственном наблюдении, не осуждая и не оценивая их. Безобидное очевидное».[15]
Психоаналитический принцип «нейтралитета» и сдержанности дает возможность родителю самому «подкорректировать» себя, возобновить акт на должном уровне. Его не учат и не подправляют — его слегка «касаются» глаза третьего человека — принимающего сотрудника «Зеленого дома». Хорошо чувствуя это, родители часто говорили Ф. Дольто, что после того, как они начали посещать со своими детьми «Зеленый дом», им стало легче воспитывать своих детей. Что и сами они уже больше уверены в себе и меньше тревожатся за своих детей.
Мать и дитя под кровом «Зеленого дома» — это покровительство, защита и забота с «отцовской функцией» (Д. Bacc) – место социализации и связи поколений.
Место, где есть психоанализ, психоаналитическое поле и тот психоаналитик, который осуществляет посредничество в «поле желаний» с субъектом слова и языка, телом, структурированном речью.
«Мы в целом — место, – формулировала Ф. Дольто трансфер на место (Nous en sommes le lieu), – поле фантазмов и символического „слова и встреч, желаний, интерпретаций сопротивления, перенесенного на это место“».[16]
Проясняя значение трансфера в «Зеленом доме» как на («Зеленый дом») и в («Зеленом доме») место (sur et dans le lieu), Ф. Дольто обозначает совместную работу психоаналитика с теми, кто не является психоаналитиком (педагогами и воспитателями); здесь трансфер может быть связан с любой персоной, и дает он тот же эффект: мобилизацию аффектов, локализацию психических инстанций. Характеризуя специфику трансфера в «Зеленом доме» — «Jardin couvert», Д. Bacc дает очень удачную метафору, определяя его как «уникальное место, где мы занимаемся с разными поколениями. Здесь разные люди, но единый Дух».[17]
Спустя 15 лет после открытия первого «Зеленого дома» во Франции проектируется его создание в Армении, а еще через год в Ереване на ул. Абовяна, 44 открывается наш «Зеленый дом» — «Сад радуги». Каков же Дух нашего «Сада радуги»? Он отражается прежде всего в наших буднях — ежедневной работе бригад.
В «Саду радуги» происходят длинные и короткие встречи, в которых порой разрешаются большие и малые, запутанные и бесхитростные проблемы наших маленьких и взрослых посетителей. Все они всегда одинаково важны и значительны, и независимо от степени сложности требуют внимательного и чуткого вслушивания, неторопливого тактичного ожидания, созревания готовности к размышлениям, к совместному поиску Истины в тайнах событий индивидуальной или семейной истории.
Эти встречи всегда разные. Иногда частые, но неглубокие, словно легкие прикосновения, иногда разовые беседы или многократные «пробы» чередуются долгим молчанием (сквозь сомнение), затем продолжаются, словно только что начатый разговор.
Например, бабушка, цепко держащая внука на привязи своего взгляда и периодически одобряющая каждое его действие, вдруг поймав на себе мой взгляд, произносит:
– Мои дети такие же, очень хорошие. До сих пор, прежде чем что-то сделать, всегда смотрят на меня.
Мой вопрос: «Вам, наверное, это очень приятно?» — и ее мгновенный ответ: «Конечно!» — обволакиваются двусторонней паузой, длящейся несколько недель. Между нами нет напряжения, но периодически я чувствую на себе ее ощупывающе-оценивающий взгляд. Но однажды она подходит и, продолжая как бы ненароком прерванную мысль, задает свой вопрос: «Вы думаете, что это плохо?» Мое уточнение «Что плохо?» становится началом беседы о том многом, что было так важно для нее... и, конечно, для внука.
Иногда это даже не беседа, а просто вопрос или предложение — толчок, метко нацеленный в ядро проблемы. Например, папа, демонстрирующий присутствующим мощь своего авторитета, с видимым удовольствием хлещет сына запретами: «Нельзя!», «Отойди!», «Не трогай!» Этот папа делает «важное дело» — воспитывает чадо! Ответственность этого «дела» так его увлекает, что он не замечает страданий стоящего у его ног и угасающего от этой подавляющей силы мальчика, источающего беззвучный стон и мольбу в застывших слезах. Папу возвращают к реальности слова, обращенные к сыну:
– Тебе очень хочется? Так скажи об этом своему папе, скажи, что тебе очень хочется поиграть самому с водой... Он тебе объяснит, что именно нельзя, что можно, и тебе не придется плакать...
Их взгляды встречаются, тревожный у сына, удивленный у отца. Возможно, это начало пути навстречу друг к другу...
Или растерявшиеся родители тех же детей, у которых вдруг неожиданно «испортились язычки» (заикание) или начались «конфузы» ночные или дневные...
Энурезы, заикания, фобии и прочие нарушения, характерные для эдипального возраста, тяжело переживаются родителями, приводят их в замешательство, к ощущению собственной беспомощности и чувству вины, перемежающимися иногда гневом, бессознательной агрессией.
Но все они прекрасны — и эти малыши, и их родители в своем желании быть хорошими, и этот нарциссический порыв часто бывает необходимо поддержать.
Как трудно выдержать папе (маме), когда их ребенок устраивает прилюдно сцену — вопит, бьется в истерике на полу, не желая, например, уходить домой. Дома он справился бы с ним, но здесь, на людях, родитель часто теряется. Здесь привычный протест ребенка приобретает иное значение, больно ударяя по нарциссизму родителей. Это родитель превращается на глазах в беспомощного ребенка перед своим, в данном случае всесильным в своем гневе малышом.[18] Он начинает уговаривать или умоляющим шепотом просить его стать послушным или, наоборот, проявляет свою родительскую власть, иногда агрессивно. Молча или с гневными восклицаниями пытается силой «взять» и унести с собой орущего и сопротивляющегося ребенка.
Тяжелая сцена! Оба — родитель и ребенок — ушли от реальности в свои фантазии. Только третий — воспитатель или психолог — может помочь им вернуться в реальность, привести словом, речью — к взаимопониманию. Обратившись к малышу, собщить ему, что он может не кричать, а сказать о том, что хотел бы побыть здесь еще немного, и к родителю — что если он имеет такую возможность, то может и уступить, а если спешит, то может объяснить ребенку, что они всегда могут прийти сюда еще. Главное — найти нужные слова, чтобы показать родителю, что ему нечего стесняться, что это не он кричит и ведет себя плохо, а его ребенок, который «забылся» и забыл от огорчения, что может говорить, слушать и понимать, что такое случается со всеми и не только в детстве. А сейчас им просто надо понять желания друг друга, а затем — принять совместное решение.
В «Саду радуги» спонтанно представляется уникальная возможность разглядеть тончайшие нюансы бессознательного родителей, проявляющегося в их поведении, реакции или действиях, стимулирующие или тормозящие развитие их детей.
Например, мама прерывает решительный марш своего малыша к бассейну. Она молча хватает его в охапку и только потом произносит «Нельзя!», но уже поздно. Малыш, еще не умеющий говорить, ором выражает свое возмущение, пытаясь вырваться из ее цепких рук. Он возмущен, он уже ничего не слышит, кроме своей обиды. Это достаточно крепкий и сильный ребенок, а главное: он полон решимости достичь своей цели. Он кричит и вырывается. Начинается спектакль двух тел, движимых противоположными желаниями, в сопровождении мощных криков малыша. На предложение «Вы скажите ему, объясните...» мама победно отрывает ребенка, все еще орущего и вырывающегося, от бордюра бассейна и наконец устало отвечает:
– Он еще не говорит и не понимает.
– Не понимает, потому что не говорит. Мы ведем разговор втроем.
– Послушай, малыш, ты очень рассердился на свою маму, но твоя мама боится, что ты простудишься.
Ребенок вдруг неожиданно замолкает, а мама, воспользовавшись паузой, предлагает ему: — Посмотри, какая тут лесенка.
Малыш сползает с рук матери и, стоя у подножия двухэтажного деревянного замка, начинает раскачиваться всем телом и гулить. В веренице интонаций его гуления слышатся призывы к действию, перемежаемые оттенками ворчливого примирения. Мама, стоящая рядом, подбадривает: «Ну давай, поднимайся по лесенке». Сын, раскачиваясь телом, продолжает гулить, он размышляет вслух.
Слова, слова! Начало очеловечивания, человеческого общения, к которому ребенок готов задолго до своего рождения.[19] Эта мама, как и многие другие, посещающие наш «Сад радуги», поняв это, очень скоро начнет развивать такую уникальную способность своего ребенка к общению, к межличностному взаимодействию.
Дети уже говорящие также часто не используют язык, вернее, не прибегают к возможности речевого общения со своими родителями, другими детьми и взрослыми. Такие дети, например, привычным жестом молча выхватывают из рук другого ребенка понравившуюся игрушку. И неожиданно слышат спокойный вопрос: «Это твои руки хотят игрушку? Они поспешили. Ты не успел ее захотеть и поэтому ничего не сказал? Посмотри на него (нее). Он (она) не знает о твоем желании и очень огорчен(а)». Ребенок переводит взгляд от рук, держащих игрушку, на того, у кого он отнял ее, затем тихое: «Дай мне...»
Так, не оценивая поведение по меркам «хорошо-плохо», «хороший-плохой», совсем не педагогическими методами решаются воспитательные задачи и проблемы развития личности, усваиваются законы межличностного общения и взаимодействия, открываются возможности встречи с другим, с желанием другого.
Слова... Как часто за ними прячутся вытесненные страхи, стыд, чувство вины. Беременная мама рассказывает своему первенцу «сказку» о том, что скоро ему купят братика или сестренку. И ребенок вынужден играть с мамой в «дурачка», ибо чувствует, что есть нечто иное, что от него скрывают. Это иное — истину своего происхождения — он ищет давно, но «сказка» ему в очередной раз показывает, что ему об этом не хотят сказать, что ему нельзя знать. И он замолкает, не задает вопросов, которые тем не менее не исчезают. Иногда родители вообще ничего не говорят, для того чтобы «не взволновать» первенца раньше времени — еще успеется.
Увы, роковое заблуждение! Клинический психоанализ доказывает, что дети всегда многое знают бессознательно, а порою раньше родителей «узнают»[20] о готовящихся переменах в их жизни. Сокрытие факта приводит их в замешательство, о чем часто свидетельствуют неожиданные симптомы — энурез, энкопрез, фобии, навязчивости или резко изменившиеся формы поведения и характера. Порою бывает достаточно направить маму на поиск корней этой «маленькой лжи», различение своих и его (ребенка) переживаний, и она сама находит язык и форму для честного и простого, но очень важного для обоих разговора.
Папы! Степенные и сдержанные, активные и осторожные в этом детско-материнском пространстве, они в нем сначала как будто «теряются», но потом все же находят свое место. Молчаливо следуя за своим отпрыском или наблюдая издали, а порой углубившись в чтение газет, они придают «Саду радуги» стабильность и устойчивость, а иногда предлагают особое, неожиданное видение проблемы, определяют важнейшие элементы ситуации или те детали событий, которые мгновенно выстраивают логику причинно-следственных связей, породивших данную проблему ребенка или семьи.
«Сад радуги» — место встреч, коротких и долгих, место прояснения отдельных событий, происшествий и историй длиною в жизнь. Здесь, в «Саду радуги», каждый находит себе место. Кто-то устраивается сразу, кто-то поначалу ведет себя несмело и осторожно, кто-то шумно привлекает к себе внимание, пряча за этим свой страх и тревогу, а кто-то робко замыкается на маленьком пятачке. Но каждый посетитель по-своему улавливает атмосферу защищенности, интимности, доверия и желанности, которая позволяет всем и каждому в своем времени установить свой трансфер на место и говорить о себе, своих радостях и сложностях, удачах и проблемах языком жестов, тела, действий, речи и интонации.
Истории наших посетителей — это и история нашего становления. Это одновременно большой материал для размышлений и анализа, и, конечно, история пройденного нами пути к познанию детства ребенка. К цели, которую так ясно указала Ф. Дольто — посредничать легко, корректно и точно. Она опасалась, что кто-то может «сойти с дороги» и начнет слепо подражать ей и поэтому настаивала на необходимости индивидуальных вложений в работу, где каждый должен «познать себя» в психоаналитическом поле желаний и отношений с «субъектом слова и языка» и в межличностном взаимодействии.
«Место жизни создано. Место жизненных взаимоотношений, благоприятных для развития межпсихического общения».[21] Теперь в «Саду радуги» необходимо сохранить единый дух «Зеленого дома», развивать его в слове.
1 этюд. Будни «Сада радуги»
Ребенок, не имеющий права проявлять переживания, связанные с «секретами» родителей, которые ему обычно известны, вынужден принять это условие своего исключения из ситуации, свою изоляцию. Он вынужденно замыкается в одиночестве. Отныне он должен прятать свои чувства, делать вид: «Ничего не вижу, ничего не слышу, не говорю». Он чувствует себя покинутым, лишним. Ему становится страшно. Его страдания нередко проявляются в психосоматической симптоматике, резких ухудшениях в сфере общения, поведения, задержках общего психического развития.
Освобождение от страданий может принести истина и право ребенка быть рядом с родителями в их сложностях и делить их с ними. Он желает этого в любом возрасте.
Насколько это важно, показывает история Алины.
Мама, тонкая, хрупкая женщина, вошла с двумя детьми — девочкой лет пяти и десятимесячным мальчиком, которого она сразу опустила на пол. Малыш чувствовал себя хорошо в большом просторном зале, ползая и исследуя игрушки в разных его углах. Девочка, наоборот, никак не могла найти «свое» место. Вяло прошлась по велосипедной комнате, потом вернулась в зал и, поискав взглядом мать и обнаружив ее, подошла к бассейну с водой и, послушно выполнив ритуал надевания фартука, начала так же вяло играть с водой, не входя в контакт с другими детьми. Мать задумчиво ходила по залу. Ее взгляд шарил по поверхности, не останавливаясь ни на чем. Эти три «расчлененные» фигуры как бы углубились во что-то свое, их объединяло лишь общее местонахождение.
Задумавшись об этом, сидя на бордюре у бассейна, я не заметила, как мама подошла ко мне. Подсев рядом, она обратилась ко мне с вопросом:
– Я могу поговорить с вами о своей дочке?
Я вопросительно кивнула в сторону стоявшей у бассейна спиной к нам девочки.
– Да, эта. Она начала писать под себя по ночам, а на прошлой неделе устроила мне истерику, отказываясь ходить в детский сад. Говорит, что дети ей сказали, что я умерла и не приду за ней. Я просто в этот день немного опоздала.
Женщина говорила тихим бесцветным голосом, лицо ее было безучастно. Я заметила, что было нечто общее между мамой и дочкой, руки которой возились в воде, а тело оставалось без всякого движения. Тот же безвольный наклон спины, безысходность.
– И что? – спросила я. – Такого никогда раньше не было?
– Пару раз, когда ей было около трех лет, но потом прошло.
– Тогда вы были беременны? – уточнила я. Мать подтвердила, продолжив:
– А сейчас началось снова и почти каждый день.
На мой вопрос об изменениях в семейной ситуации тем же бесцветным голосом и с тем же отсутствующим лицом она рассказала о том, что у них с мужем конфликт. Она его выгнала из дома матери, куда они перебрались все вместе после рождения сына, и добавила, что будет разводиться с мужем, так как не может простить ему измены.
Я предложила матери пригласить к разговору дочь. Получив ее согласие, я обратилась к девочке:
– Иди к нам, твоя мама говорит мне о тебе, она очень за тебя беспокоится, а мне есть что вам обеим сказать. Если хочешь, можешь послушать, иди сюда, мы можем поговорить втроем.
Не поднимая глаз в нашу сторону, сняв фартук, девочка медленно, опустив голову, приблизилась к нам, подбираясь к месту рядом со мной.
– Садись сюда, между мной и мамой, – указала я ей. Она, следуя моему указанию, уселась осторожно на краешек бордюра между нами, не поднимая головы, аккуратно сложила руки на коленях. Послушное, безучастное выжидание, безвольная поза.
– Ты знаешь, – обратилась я к ней, – твоя мама мне сказала, что папа ушел от вас, что она на него обижена, но ты должна знать, что ты в этом не виновата. Это их, взрослые дела. Но ты, наверное, не знаешь самого главного, что важно для тебя. Твой папа, если даже они с мамой очень сильно поссорятся, остается твоим папой. У тебя всегда будет папа, где бы он ни жил, он будет так же любить тебя и твоего брата — своих детей. Ты это понимаешь?
Ответа нет, а головка опускается еще ниже, словно она пытается спрятаться поглубже в себя. Паузу прерывает мать:
– Она каждый день ходит к отцу. Я продолжаю говорить девочке:
– Я знаю, что все дети, когда у них из дому уходят папы, очень часто боятся, что что-то случится и с мамой, что она вдруг умрет.
Она прерывает меня испуганным шепотом, в котором слышится упорство и настойчивость.
– Они мне сказали, они... – говорит девочка. Я продолжаю:
– Это все равно, сказали или не сказали, важно другое, ответь мне, ты этого боишься?
Молчание становится напряженным, и я разрываю его вопросом:
– А как ты думаешь, она действительно хочет умереть? Ты же можешь спросить об этом?
Сквозь молчание девочка бросает на мать осторожный, пугливый взгляд.
– Мне кажется, что ты хочешь спросить ее, – произношу я, – более того, я уверена, что она хочет жить. Как ты думаешь, почему твоя мама хочет жить?
Ответ девочки звучит как хорошо заученный урок, но вяло, замедленно.
– Потому что у нее двое маленьких детей, – говорит девочка.
– Ты права, – соглашаюсь я, – но не только поэтому. Посмотри на свою маму. Она молодая красивая женщина. У нее впереди в жизни еще много радости и счастья. Она еще может полюбить другого мужчину или простить своего мужа, любить своих детей. Спроси сама, это не стыдно, сама узнай, хочет ли твоя мама жить?
Девочка быстро поднимает голову, глядя в глаза матери, спрашивает:
– Ты хочешь жить?
Мать, не опуская глаз, отвечает:
– Да, доченька, хочу.
Спина девочки выпрямляется, тело приобретает тонус. Я продолжаю говорить:
– А ты знаешь, что было до того, как ты родилась? Твой папа встретил маму. Они полюбили друг друга, решили стать мужем и женой и иметь детей. Папа и мама очень любили друг друга, и из семени папы в мамином животе начала расти ты, а потом ты родилась. Вам было так хорошо вместе, что папа с мамой захотели иметь еще одного ребенка, и родился твой брат.
Но у взрослых свои проблемы, у них, пап и мам, своя жизнь, и в ней есть свои сложности взрослой жизни. Они тоже обижаются и ссорятся, не так легко быть взрослым, а иногда они решают очень трудные вопросы, такие, как ваш.
Я не успеваю закончить свою мысль, как вдруг девочка резко кидается к матери и в аффекте срывающимся голосом кричит ей:
– Это все ты виновата. Зачем ты их познакомила, а теперь он женится на ней.
... Дочь стоит над сидящей матерью, которая на выдохе тем же срывающимся, как у дочери, голосом произносит:
– Я не знала, что ты все это знаешь.
Дочь, громко плача, кидается ей на шею, а мать сжимает ее в своих объятиях.
Выдержав паузу, я вновь обращаюсь к дочери:
– Я вижу, что ты уже совсем большая девочка, все понимаешь и видишь, что ты можешь обо всем говорить. Ты можешь сказать папе, что ты думаешь об этой женщине, а папа тебе то, что думает и хочет он. Но эта женщина, даже если папа ее полюбит и захочет на ней жениться, не может быть твоей мамой. Она может быть женой папы. Твоя мама жива, ты сама услышала, что она хочет жить. И она всегда будет твоей мамой.
У взрослых своя жизнь, они сами принимают свои решения. Но дети и родители могут и должны доверять друг другу и понимать друг друга. Ты, если захочешь, можешь спросить у папы обо всем, что тебе непонятно и потому страшно. Он, наверное, сумеет тебе объяснить то, чего ты, не зная, боишься.
Мама и дочка сидят обнявшись, молча, словно издали прислушиваясь ко мне. Малыш приполз на четвереньках из центра зала и мирно копошится у их ног. Им так хорошо, что они и не заметили, как я отошла. Они далеко, у себя, в своем мире. Теперь эти трое вместе — одно целое. У них есть общее будущее.
2 этюд. Я не знала, что ты все знаешь
Среда, заполненная обычными заботами посетителей «Сада радуги», близилась кконцу, когда мое внимание привлек резкий, нетерпеливо обрывающийся звонок в дверь. Перейдя в центр зала, я услышала доносящийся из прихожей такой же нетерпеливый громкий вопрос женщины: «А где ваш психоаналитик?» — и ответ принимающего, приглашающего войти, познакомиться, совершить ритуал называния имени и его записи на доске.
Вот так, сразу... подумала я, оставаясь на своем месте, удобном для наблюдения. В зал гуськом входила процессия: первой уверенно, грудью вперед шла крупная, яркая, молодая брюнетка. За ней такой же уверенно-размашистой походкой — розовощекий крепыш лет трех, очень похожий на нее. Следом за ними осторожно, бочком, как бы пытаясь спрятаться, мальчик лет пяти со светлой шевелюрой. Процессию завершал небольшого роста хрупкий безликий мужчина. Он словно был непричастен к этой группе, о чем говорил его отрешенный вид, вяло поникшая спина, за которой он прятал свои руки. Я пыталась угадать: кто он? Знакомый, дядя, друг, отец одного из детей? Или это семья?
Женщина тем временем остановилась, выискивая глазами объект своего запроса. Для остальных это явилось сигналом к завершению шествия, и они скучились возле нее: дети разглядывали все вокруг себя, мужчина — что-то у себя под ногами.
Отыскав меня взглядом, она, продолжая стоять на месте, обратилась ко мне раздраженно-воинственным тоном:
– Это вы психоаналитик? – не дожидаясь ответа, добавила: — Як вам. Хочу проконсультироваться.
Указав женщине на ряд скамеек у противоположной стены, я предложила присесть и подождать, пока освобожусь.
Затем подошла к детям и начала говорить им о том, что они могут осмотреться и выбрать для себя интересное занятие.
– Мы здесь один раз уже были, они все знают, – прервала меня мать.
Мальчики молча разбрелись в противоположные концы зала. Младший сразу подбежал к бассейну, старший, потоптавшись на месте, медленно ступая, словно цепляясь ногами за пол, понес свое вялое худенькое тельце к замку. Остановившись у его дверей, он после некоторого размышления открыл дверь, вошел внутрь и закрылся. В зале почти никого не было. Дети катались в велосипедной. Лишь две мамы сидели на бордюре бассейна, у которого играл с водой младший мальчик.
Женщина в демонстративном ожидании сидела на крайней скамейке, поодаль от нее в понурой позе устроился мужчина. Я неторопливо приблизилась к ним. Мужчина отодвинулся еще дальше, и я села на освободившееся пространство между ними.
Женщина тут же начала возбужденно говорить. Это был поток претензий к старшему сыну. Он звучал как заранее подготовленная речь с интонациями раздражения и нетерпимости:
– С Вигеном все не так! Он нервный, странный ребенок. Делает все назло. Упрямый, трусливый. Устраивает истерики, все ему не так, не поймешь, что ему надо, чего не хватает? Чуть что плачет. Ни уговоры, ни наказания не помогают.
Она уже не сомневается, что его надо лечить. Осталось лишь решить, кому его показать: невропатологу или психиатру, об этом она спрашивает меня.
Вместо ответа я, кивая на крепыша, играющего с водой, спрашиваю ее:
– Это тоже ваш?
Она отвечает утвердительно и расплывается в довольной улыбке, озаряющей ее сердитое до того лицо.
– С этим все хорошо. Ребенок как ребенок. Всегда понятно, чего хочет. Здоровый, веселый, с ним все просто. А этот, – вновь возвращаясь к предмету нашего разговора, но уже менее раздраженно, – какой-то ненормальный, с ним вечно все не так.
Она вновь повторяет свой вопрос: к кому повести — к невропатологу или психиатру?
Вместо ответа я ей предлагаю разобраться и попробовать понять, почему ей так тяжело со старшим сыном и что в нем она называет странным, но для этого, говорю я, мне надо узнать гораздо больше не только о Вигене, но и о ней самой, о ее семье, об обстоятельствах появления на свет ребенка, объясняю, что без ее согласия и готовности к совместному поиску и размышлениям я ей ничем не могу помочь. Она не раздумывая согласилась на мое предложение.
Мужчина продолжал молчаливо присутствовать. В полусогнутой позе он притулился слева от меня, упираясь взглядом в пол. Виген осторожно передвигался по сказочной комнате замка, не прикасаясь к мячам, разбросанным на полу. Периодически он поворачивался боком к оконцу, незаметно, одним глазом поглядывая за нами. Младший, Карлен, уже перебрался в велосипедную и лихо носился на большом велосипеде, громко сигналя перед дверью, привлекая к себе внимание матери.
Далее беседа с мамой пошла в форме свободного диалога, некоторые фрагменты которого я приведу ниже. Говорила она охотно, откровенно, с долей цинизма, который, как мне показалось, маскировал глубинные безысходность и тоску.
Мужчина, сидящий слева неподалеку от меня, ее муж, отец обоих детей. Замуж эта женщина вышла вынужденно. «За него, – кивая головой в сторону мужа, – я бы ни за что не вышла замуж, но пришлось. Некуда было деваться, случайно забеременела». Она сама говорит о том, что этот ребенок был для них обоих неожиданным и нежеланным.
Семья мужа (она считает это естественным) приняла ее враждебно. Родив, она так и не осознала своего материнства, не чувствовала своего первенца. Он только раздражал ее бесконечным, беспричинным плачем. Как прошла беременность, не помнит. Роды — «вроде ничего». Помнит бессонные ночи, скандалы, вечный плач ребенка.
Что такое материнство, она поняла только со вторым сыном. Для нее он желанный, она его чувствовала всегда.
– Он как я, очень похож на меня. Самостоятельный, некапризный, здоровый нормальный ребенок.
Говоря о младшем, она испытывает эмоциональный подъем. У нее не только меняется выражение лица, которое начинает светиться от загорающихся глаз, но и меняется интонация речи, которая наполняется междометиями и ласкательными суффиксами, становится плавной и певучей.
– А вы, – обратилась я к отцу, – когда вы почувствовали себя отцом?
Не глядя мне в лицо и слегка откинув корпус, он ответил тоскливым голосом:
– До сих пор не чувствую.
Я ловлю в окошке замка одинокий, подсматривающий глаз Вигена, стоящего к нам боком. Глаз скрылся.
Этот тоскливо подсматривающий глаз поразил меня своей символичностью — единственная возможная форма существования Вигена. Нежеланное дитя, плод «греха» — виновник вынужденного брака, осужденный на одиночество за свое желание быть, по сей день не понятое и не принятое ни отцом, ни матерью. Хотя ему очень тяжело, желание жить и быть в нем настолько сильно, что он сумел выстоять, расти, хотя и цепляясь ногами за землю.
Таких детей Ф. Дольто называла «плод плоти» в отличие от тех, кто порожден желанием трех — ребенка и его родителей. Необходимо дать ему шанс быть принятым и выйти из своего сиротского одиночества, нужно ввести его в беседу с родителями. Они должны встретиться, узнать о переживаниях друг друга.
Я спрашиваю согласия родителей на включение Вигена в нашу беседу и объясняю им, что ему очень важно знать правду, что их сын давно ее ищет и готов все услышать. Я обещаю помочь, если им трудно самим начать разговор. Последнее сняло, видимо, с них груз вины и ответственности. Они согласились на мое предложение, отец молча, кивком головы, а мать сказала: «Говорите, если надо, сами все, что хотите».
Я обратилась к мальчику, вновь скрывшемуся в глубине замка.
– Виген, иди сюда, к нам. Твои мама и папа рассказывают о тебе. Я думаю, что тебе хочется узнать, о чем мы говорим. Подойди послушай их. Они хотят, чтобы ты поговорил с нами.
Он долго не показывался, затаившись внутри замка. Мы терпеливо молча ждали. В этой спокойной сцене ожидания было нечто торжественное. Потом Виген медленно, спиной вышел и как-то полубочком направился к нам своей неуверенной походкой с заплетающимися ногами. Подойдя к нам, он, не поднимая глаз, в нерешительном ожидании встал передо мной. И лишь после того, как я вновь предложила ему сесть с нами, он осторожно присел на краешек скамьи между мной и отцом.
Между нами воцарилось напряженное молчание, тишина, которую прервала я, обратившись к Вигену:
– Ты хочешь услышать то, о чем узнала я?
Вместо ответа он еще ниже опустил голову, пытаясь, словно черепашка, спрятать ее внутрь себя. Одновременно начал прятать ладони между коленями. Я продолжила:
– Твои родители рассказали мне историю твоего рождения, они хотят, чтобы ты все услышал, мне кажется, что тебе интересно об этом узнать. Твои папа и мама позволили мне обо всем рассказать тебе, им трудно, видимо, говорить об этом. Ты хочешь знать?
Опять молчание, но осторожный взгляд исподлобья, быстро проскользнувший по моему лицу и вновь спрятавшийся вовнутрь, выдал его желание «подглядеть» запретное.
– Не бойся, – подбодрила я его, – здесь нет секретов. Твои родители готовы поведать тебе правду.
В позе мальчика появилось напряжение, но я спокойно продолжила:
– Если тебе будет что-то непонятно, ты можешь задать любой вопрос или сказать все, что хочешь и когда захочешь.
Он слегка повернулся ко мне, но лишь вполоборота, не поднимая головы.
– Мама и папа рассказали мне, – начала я, – что они были очень молоды и совсем еще не были готовы иметь детей, когда мама узнала о том, что у нее в животе из семени папы растет ребенок. Это был ты, но она не знала, кто ты такой, сумеет ли она тебя полюбить. Она, наверное, растерялась, может, даже расстроилась и, конечно, рассказала обо всем твоему папе. Ей, как и твоему папе, еще хотелось гулять, веселиться, быть вместе вдвоем, они еще не успели пожениться и не думали заводить детей. Так иногда бывает в молодости. Ведь тогда они еще не стали твоими мамой и папой, а были просто молодой парой. Ты это понимаешь?
Ответом было молчание, но напряжение в теле ребенка исчезло.
– Они подумали и поняли, что могут стать твоими родителями, могут дать тебе возможность родиться, жить. Ты же знаешь, что они могли бы кому-нибудь отдать своего ребенка или сдать его в детский дом. Так делают иногда те, кто не хочет иметь детей или не может их вырастить. Ты же об этом, наверное, слышал? А твои папа и мама поженились, стали мужем и женой, сделали все, что могли, чтобы ты мог вырасти.
Молчание. Тело ребенка расслабленно, мальчик откидывается спиной на грудь отца.
– Тебе было обидно, потому что ты не знал, что, когда ты родился и был очень маленьким, они были очень молоды. У них было много таких сложностей в жизни, о которых обычно взрослые не говорят детям, так как думают, что их не поймут, или не говорят, чтобы не огорчать своих детей.
Это не ты был плохим, а им было очень трудно в своей взрослой жизни, а потому им было трудно понимать тебя, твои желания. Ты ведь хотел, чтобы они занимались только тобой, думали только о тебе, говорили с тобой обо всем. Но этого не было, и ты чувствовал себя одиноко, тебе было страшно, обидно. И ты плакал, потому что был еще очень маленьким, не умел еще говорить, не мог им сказать, что очень любишь их, своих маму и папу, что ты хочешь им помочь. Но ты ничего не мог сделать, и поэтому ты плакал, тебе было грустно и страшно. Ты это помнишь?
– Да, – шепотом ответил он, не поднимая глаз.
– Ты знаешь, о чем мечтает твой папа? Мне кажется, что он мечтает о том, чтобы ты, Виген, его старший сын, первенец, быстро рос. Стал сильным, смелым мужчиной, чтобы вы вместе делали бы свои мужские дела, стали бы настоящими друзьями. Не веришь? Спроси у него сам. Не бойся.
Виген поворачивается в сторону отца и, смотря ему в глаза, тихо спрашивает:
– Да, папа?
– Да, сынок, – отвечает отец не отводя взгляда. Лицо отца смягчается, в голосе звучит ласка. – Я хочу, чтобы ты стал большим и сильным.
Сын вновь откидывается на грудь отца, спины у обоих, как бы приобретя опору, выпрямляются.
– А твоя мама, ты знаешь, как ей хочется, чтобы ты быстро рос, был здоровым, сильным. Она все время беспокоится, боится за тебя.
– Ты боишься, мама? – спрашивает Виген мать.
– Да, – отвечает мать несколько театральным голосом, пытаясь скрыть смущение. – Боюсь, когда ты плачешь, когда не ешь. Я боюсь, что ты заболеешь. Я боюсь за своих детей, за тебя, за Карлена.
Наступает молчание, которое вновь прерываю я.
– Вы, если хотите, можете помочь друг другу при условии, что будете доверять друг другу: говорить о своих желаниях, сомнениях и сложностях. Твои папа и мама, Виген, хотят тебя понимать во всем и помогать тебе, если это тебе нужно, но они не знают, как, когда, в чем? У тебя есть язык, и ты можешь им объяснить, что тебе нравится, чего ты хочешь, а чего нет. Они стараются быть хорошими родителями, а ты хорошим сыном. Но вы этого можете достичь, только поняв друг друга, слушая и разговаривая.
Я смотрю на мальчика, прислонившегося к груди отца, и замечаю, что они очень похожи. Лицо сына выражает покой и безмятежность, лицо отца — спокойствие, а лицо матери — задумчивость.
– Мне кажется, что вам есть о чем подумать и поговорить втроем, без меня, – произношу я, вставая.
Они остаются на скамейках еще некоторое время, а потом втроем удаляются в сторону велосипедной к Карлену и играют вместе, всей семьей.
Они ушли из «Сада радуги» последними. Я смотрела им вслед — их шествие было символично.
Первым по ступенькам, не спеша, спускался отец. За ним также неспешно шел Виген, следом с криком, вырвав из рук матери свою руку, победно шагал крепыш Карлен. Процессию завершала мама, слегка растерянная и притихшая.
Теперь семью ведет папа, возможно, к новым отношениям, обретя отцовство, хотя и с опозданием. Перефразируя слова З. Фрейда, об этой истории можно сказать: «Сын сделал мужчину своим отцом».
3 этюд. Одинокий глаз
Лесенка, ведущая к вершине замка, пожалуй, после бассейна с водой — одно из самых магических мест, привораживающих детей до трех лет. Они способны бесконечно долго без устали лазать вверх и сползать вниз, испытывая и выражая различные чувства. Для некоторых это стартовая площадка овладения пространством — начало преодоления страха, утверждения себя. Для других — не менее чудесных переживаний: восторга, ощущения радости полета и своего летящего тела в прыжке, приземления, вновь обретенной устойчивости...
Иногда у подножия лестницы выстраивается очередь из 5–6 детей — шеренга из звеньев гусеницы, ползущей вверх-вниз.
Так было и в этот день. Я стояла у перил, наблюдая за этой цепочкой тел, выполняющих бесконечное движение туда-обратно. Вскоре я заметила еще одного «наблюдателя». Это была Анна, стоящая между мной и своей мамой, сидящей прямо напротив лестницы. Мама была занята беседой, видимо, о чем-то важном, с другой мамой, а дочь, держа в руках куклу, разглядывала с интересом эту суетливую возню двигающихся наверх тел. Мой взгляд, брошенный вначале на нее, а затем на это движение, очевидно, стал для нее приглашением и придал ей решимости. Она медленно приблизилась и начала пристраиваться к хвосту цепочки, продолжая одной рукой держать куклу. Теперь она стала частью этого движения наверх. Где-то на середине лестницы она повернулась к матери, беспомощно смотря на нее, но мама, увлеченная разговором, не заметила призыва дочери.
Я поняла, что кукла мешает, молча протянула ей руку, в которую она также молча вложила куклу. Все в порядке. Анна продолжает подниматься. Наконец она наверху! Оттуда, размахивая руками, ликующе зовет маму:
– Посмотри, где я.
И мама, оторвавшись от беседы, смотрит на дочь, ободряет и хвалит ее:
– Умница, молодец. Тебе там хорошо?
Анна, видимо, решила устроиться «пожить» там наверху — ей хорошо! Сверху она кричит, теперь окликая меня. Полная радостного ожидания, требует:
– Дай сюда мою куклу.
И я, идя навстречу ее желанию, вынужденно вытягиваюсь, став на цыпочки, чтобы не задеть эту ползущую вниз цепочку, а она наклоняется над ней. Выхватив куклу, она отходит от лестницы. «Гусеница» тем временем продолжает свое движение вниз. Стоя у перил, я продолжаю наблюдать. Через некоторое время замечаю, что «гусеничка» начинает «распадаться».
Единое движение этой цепочки тел вверх-вниз начинается и прекращается всегда стихийно. Не в первый раз я пытаюсь угадать начало и конец возникновения этого феномена — желания «слиться» и «отделиться», время и миг которого известны только самому ребенку. Вот и теперь каждый стал самим собой. Они разбрелись, нашли или ищут новые объекты приложения своего либидо.
Неожиданно громкие рыдания, раздающиеся сверху, и крики всполошившейся внизу матери вывели меня из состояния философского созерцания. Анна, стоя наверху у края лестницы с куклой, висящей на левой руке, отчаянно и истошно вопит, смотря вниз. Ее мама сначала спрашивала «Что случилось?», а теперь протягивает ей руки и уговаривает, пытаясь говорить спокойным голосом:
– Не плачь, держись за перила, спускайся... Ну давай я тебе помогу...
Бесполезно! Анна словно никого не видит и не слышит, продолжает рыдать.
Поняв ее состояние, я мгновенно поднимаюсь к ней наверх. Я опускаюсь перед ней на колени и, глядя в ее ничего не видящие, полные ужаса глаза, тихо спрашиваю:
– Тебе стало страшно? Ты не одна. Мы вместе. Мгновенно прекратив рыдания, она шепотом произнесла:
– Обними меня.
Обняв ее и поднявшись с колен, я взяла ее на руки, а она, выпустив куклу и обхватив меня за шею руками, крепко прижалась ко мне. Ощутив, как ее напряженное тело постепенно «размякло», я проследила за ее взглядом: она смотрела на неподвижную безжизненную лестницу, у подножия которой в зияющей пустоте стояла ее мама. Фантазматическое целое, единое движение — тело, частичкой которого Анна стала, поднимаясь наверх, исчезло. Теперь лестница стала жуткой, страшной дырой, ужасом, отделяющим ее от мамы, превратившим ее в беспомощного зародыша, которому вне тела мамы грозит исчезновение. Могла ли Анна в этом состоянии видеть, слышать, ходить?
Я обращаюсь к девочке, слившейся с моим телом:
– Ты уже родилась, у тебя есть твое тело. Ты живешь, ходишь, делаешь все, что хочешь сама, а твоя мама.
Анна не дает закончить:
– Спусти меня, – просит она тем же шепотом.
Я опустила ее на пол. Мама зовет Анну, а она отвечает ей сверху уже громким голосом:
– Я еще здесь поиграю.
Но, забыв о брошенной кукле, садится рисовать:
– Это для тебя, – говорит она мне, – только сначала покажу своей маме.
Закончив рисунок, она его сверху показывает маме, а потом, повернувшись ко мне, говорит:
– Я спущусь, а ты мне потом дашь куклу.
Я жду наверху, пока она спустится, но где-то посередине лестницы Анна вновь призывает маму:
– Мама, смотри, я сейчас буду прыгать, – и смело прыгает вниз, где ее ждет, раскрыв объятия, мама.
Анна вновь обрела свое тело и возраст, я ей была уже не нужна и могла заняться своим делом. Спустя некоторое время, когда они собрались уходить, Анна подошла ко мне и протянула свой рисунок.
– Это тебе.
Попрощавшись, они ушли, но у меня остался не только ее рисунок, но и переживания прожитого с Анной процесса ее возрождения — отрезок совместно прожитого времени, иллюстрирующий готовность психики человека к символической замене, восстановлению через нее отсутствующей, отколотой части целого.
Для того чтобы понять, что произошло с Анной, необходимо обратиться к основным положениям концепции Ф. Дольто о бессознательном образе тела, который она определяет следующей метафорой: «Образ тела — это живой синтез нашего эмоционального опыта: межличностного, повторно переживаемого, оживающего через избирательные эрогенные ощущения, архаические или актуальные».[22] Далее она уточняет, что «образ тела — это синтез трех образов в постоянном их становлении: базового, функционального и эрогенного», связанных между собой влечением к жизни и актуализирующихся для субъекта в том, что Ф. Дольто называет динамическим образом, понимая его как «желание быть, утверждаться в происходящем».[23]
Образ тела начинает формироваться уже в зародышевой жизни человеческого существа; в своем становлении три его составляющие: базовый, функциональный и эрогенный образ тела — проходят все стадии развития личности — оральную, анальную, генитальную, но целостность приобретает лишь к эдипову возрасту. В отличие от схемы тела заданный анатомически бессознательный образ тела — это образ целостного, «интегрированного» тела, составленного из фрагментов, – разрабатывается на всем протяжении развития ребенка и истории личности.
«Образ тела — всегда потенциальный образ из общения в фантазме».[24]
Ф. Дольто характеризует базовый образ тела как статичный, функциональный — стеничный. Остановимся на функциональном образе тела, так как он понадобится для анализа нашей ситуации: «Благодаря функциональному образу влечения к жизни, после того как они субъективируются в желании, могут нацеливаться на достижение удовольствия, объективироваться в общении с миром, с Другими».[25]
Потерю функционального образа тела Ф. Дольто иллюстрирует многочисленными примерами из своей практики, но один из них достоин особого внимания — о 5-летней девочке, потерявшей двигательные способности верхних конечностей и в течение 2 лет не пользовавшейся руками.
Ф. Дольто описывает консультацию, предваряя ее комментариями: «Частичные влечения к смерти отлучили верхние органы в функциональном образе тела. Когда ей (девочке. – прим. автора.) демонстрировали объект, она так складывала пальцы в предплечья, чтобы руками не прикасаться к объекту. Ела она с тарелки (ртом. – А. В.), если еда ей была по вкусу. Я (Ф. Дольто. – А. В.) протянула ей пластилин, сказав: „Ты можешь взять его ртом своей руки“. Немедленно пластилин был схвачен рукой ребенка и засунут в рот».[26]
Анализируя этот случай, Ф. Дольто указывает, что функциональный образ отторгается целиком или частично в случае, например, репрессивного физического вмешательства, вербальной кастрации, направленной против действий ребенка, и др.
Вернемся к Анне. Влившись в движение цепочки детских тел наверх, она фантазматически объединяется с ними в единое телодвижение. Здесь, наверху, она испытывает сильнейший эмоциональный подъем — ликование. Она такая огромная, ее так много — верх нарциссического наслаждения. Внезапно ее либидо-восторженное состояние пресекается ощущением «разрыва» процесса. Она уже не большое и целое, а осколочек. Она «поломалась» — осталась совсем одна и малюсенькая, отделенная от мамы лестницей-дырой. Она ли это?
Функциональный образ тела Анны мгновенно отторгается. Свидетельствует об этом она сама графически — в рисунке, подаренном мне. Ибо именно свободному графическому изображению детей Ф. Дольто придает огромное значение в своей клинической и теоретической работе и заключает, что в них «за аллегорически представленными ситуациями стоит нечто иное, символическое. Это представление из прочувствованного таким, каким оно происходило для каждого: в личных условиях для его собственного тела в том виде, в каком этот образ каждый несет в себе и в своем бессознательном как символический субстрат своего существования независимо от актуализации в динамическом выражении».[27]
А теперь рассмотрим рисунок Анны (см. рис. 1): здесь крупным планом изображена голова. Голова, «потерявшая» свое тело. А лицо? Рот у головы — на лбу, нос — под ртом. Волосы торчат дыбом, но снизу. Все смешалось, все наоборот. Лишь огромные глаза остались на своем месте. Но! Каждый глаз — тело с руками, ногами и головой, которая имеет только открытый рот. Рот-глаза! Крик о переживаемом состоянии. Это и есть графическое выражение пережитого ею архаического страха исчезновения. Здесь лишь рот девочки, подобно голове, изображенной на рисунке, кричал глазами ужаса. Вспомним: «частичные влечения к смерти отлучили верхние органы...»[28] А у Анны в функциональном эмоциональном образе тела — и нижние.

Слова, которые я произнесла, встав на колени и таким образом сравнявшись с ней ростом, поддерживают ее влечение к жизни, интуитивное стремление к пренатальной защите. Призыв ее бессознательного «Обними меня» показывает, что она еще не способна действовать своими конечностями.
Исполнив ее желание, я становлюсь для нее транзициональным объектом, который Ф. Дольто остроумно сравнила с джокером в карточной игре, который «заменяет отсутствующую карту и особенно козырную»[29] (здесь Мать — «Все» — козырь для младенца).
Получив защиту в символическом лоне — «объятие-матка», она услышала мои слова: «Ты уже родилась, ты...» — и восстановила (вновь обрела) двигательные способности, функциональный и динамический образ тела, желание общаться.
Здесь уместно повторить высказывание В. Бараля: «Влечения всегда частичны. Ребенок может быть заблокирован в каком-то месте частичной пульсацией, и нужно идти за ним в это место, чтобы восстановить его образ целостного, интегрированного тела».[30]
Случай с Анной в очередной раз доказывает значение теории Ф. Дольто для детского психоанализа, более того, ее жизнеспособность в «Саду радуги». И еще, «Обними меня» может означать: «Дай мне тело свое, чтобы вновь породить мое».
4 этюд. Обними меня
Ника,[31] девочка-сероглазка, привлекла мое внимание жеманно-демонстративным поведением. Ее речь — довольно громкая, полуповелительная, сопровождаемая выразительными жестами и мимикой, назойливо-настойчиво, мастерски вовлекала присутствующих в разыгрываемый спектакль «общения с мамой».
Мама подзывала ее, просила подойти. Она, стоя поодаль, объясняла, что не может, занята! Затем, повернувшись к матери спиной, Ника пошла в сторону замка и продолжала, жеманно растягивая слова, объяснять, что сейчас она очень занята. Мать стала приближаться к дочери, мягко настаивая на своем. Дочь, не оборачиваясь, демонстративно «застревая» на каждой ступеньке, все громче и театральнее отказывалась и продолжала подниматься на верхний балкон замка. Разыгрывался очередной акт. Искусно отработанная игра — «просительница-мама», «мучительница-дочь». Действие казалось настолько отрепетированным, что присутствие «зрителей» нисколько не смущало партнеров. Монотонные диалоги продолжались в тех же интонациях. Обе периодически поглядывали то на меня, то на другую маму, сидящую неподалеку. Меня это «втягивание» в затянувшийся спектакль начало тяготить, и я переместилась в другой конец игровой комнаты.
Что-то смущало меня в этой паре. Что-то было не так. Но что?
Мне никак не удавалось уловить источник моего внутреннего напряжения. Размышляя над этим, я вскоре поймала себя на том, что вновь наблюдаю за ними. Я начала медленно приближаться к ним. Вроде, все нормально. Мама с дочкой играют. Но мое внутреннее напряжение возрастает. Вглядываюсь, вслушиваюсь. Да! Та же демонстративность, но уже в другом сценарии. Девочка играет послушную дочь любимой мамы, каждое слово которой закон! Они строят из кубиков дом — идиллия. Но есть что-то в этой игре неестественное, настораживающее. Беспомощность мамы? Скорее всего. Ибо это опять спектакль, в котором дочь — главное действующее лицо. Хотя по ролям наоборот: мама — строитель, а дочь — рабочий подносит материал. Но именно Ника — важная персона. В ее жестах и интонациях достоинство и уверенность, а у матери интонация и поведение прежние — просительницы. Есть и какая-то неуверенность.
Игра прерывается неожиданно. Ника кладет в руки матери кубики и поворачивается к малышу, направляющемуся к лестнице. Начинается новый акт. Теперь она на виду у всех учит мальчика подниматься по лестнице.
Растерянная мать с кубиками от недостроенного домика в руках зовет дочь закончить работу. Начинает ее уговаривать настойчиво-ласково.
Девочка делает вид, что не видит и не слышит ее. Мать подходит к ней и продолжает уговаривать, просит ее вернуться и убрать кубики. Дочь неумолима, «помогает» мальчику, поднимается с ним по лестнице. Ничего не видит и не слышит. Вновь воспроизводится сцена «мучительница-просительница». Интересно, какова будет развязка на этот раз? Страсти, кажется, начинают разгораться. Дочь торжествует на вершине замка. Мать у подножия безуспешно умоляет ее. Тут не выдерживает принимающая Нелли и обрушивает на Нику строгое:
– Ты что, Ника, не слышишь маму?
Не отвечая Нелли, девочка, не глядя на мать, сверху властно роняет:
– Пусть остается, он красивый, пусть постоит.
Мать отходит к недостроенному домику, начинает спокойно (спокойно ли?) его разбирать и укладывать кубики в ящик. Вскоре она вновь обращается к дочке, голос спокойный, без раздражения:
– Ну иди сюда, Ника. Покажи всем, как ты умеешь собирать! (Сработало мгновенно, есть возможность показать всем. Что? «Что ты моя мама, я твоя послушная дочь».)
Ника спускается. Молча идет к матери и начинает с грохотом кидать кубики в ящик. На шум подходят еще два ребенка. Грохот им нравится, а взгляд Ники явно призывает принять участие. Вскоре один из мальчиков активно включается в работу. Этого достаточно, чтобы она с другим ушла к «кювезу».[32] Через несколько минут слышен ее крик, выражающий нетерпимость:
– Мама, убери его сейчас же отсюда. Он совершенно невозможный, выкидывает все шарики! Так же нельзя!
– Ты что, – отвечает мать, – он же маленький, он не понимает.
Ника:
– Тогда пусть не приходит в детский сад.
Я не вмешиваюсь, хотя чувствую на себе растерянный, просительный взгляд матери. Наступает пауза. Мать ждет моего вмешательства. Теперь на меня выжидательно-требовательно смотрит и Ника. Я продолжаю спокойно наблюдать. Вновь не выдерживает принимающая Нелли:
– Здесь все для всех детей, а не только для тебя, – раздается в общем молчании ее звонкий призыв к равенству.
Девочка сама разрешает свой конфликт. Она с достоинством покидает поле «боя». Демонстративно медленно и гордо направляется в велосипедную.
– Ого, – произнесла я. Мать тут же откликнулась:
– Вы тоже заметили? Видно, да, какой у нее характер?
Я:
– А что? Вас это смущает?
Мать присела рядом со мной. Мы молчим, но это молчание — многообещающее, предваряющее откровение. Прерываю его я:
– Она что, ходит в детский сад? Мать:
– Нет, это так она называет «Сад радуги». А вообще я с ней запуталась, уже ничего не понимаю.
Я поддерживаю ее вопросом:
– Да? И как? Мать:
– Например, отдавать ее в детский сад или нет — огромная проблема.
Мое молчаливое участие она воспринимает как поддержку. Паузы помогают ей, видимо, обрести силы для продолжения, вернее, начала серьезного разговора.
– Не знаю, сумеет ли выдержать?.. И вообще, она у меня такая! Вы уже заметили.
Я:
– Да, понимаю.
После продолжительной паузы мать прямо ставит свой вопрос:
– Посоветуйте мне как специалист, как мне поступить правильно.
Я ухожу от ответа, задав новый вопрос:
– А что, вы с ней целый день дома одна?
Женщина начинает отвечать на мои вопросы обстоятельно, со всеми подробностями. Ника ее младшая дочь. Первый ребенок, тоже девочка, старше Ники на девять лет. Между сестрами страшные конфликты. Причем мать уже беспокоит то, что старшая превратилась в капризулю, плачет, «словно ей три года». Периодически женщина подтверждала свою беспомощность все той же фразой: «В общем, не знаю, что делать», – это звучало как констатация факта.
Младшая Ника — эпицентр всех проблем. «Не могу с ней сладить. Делает все, добивается всего, чего хочет. Например, в прошлом году водила ее в „Эрудит“.[33] Ходила с удовольствием, но недолго. Месяца через три отказалась категорически. Любит рисовать. Сначала рисовала на уроках с удовольствием. Но потом отказалась их посещать. Уговорили ее ходить туда же на танцы. Говорят, у нее особые способности. Через два месяца тоже отказалась и тоже наотрез. Не знаю, хорошо ли я поступила: в этом году она сама попросилась в „Эрудит“, но я знала, что это тоже ненадолго, и поэтому я ей сказала, что он закрылся».
Вновь вопросы: «Как быть?», «Что делать?», «Выдержит ли она детский сад?», «Я вас спрашиваю как специалиста».
– Не могу ничего посоветовать, – ответила я и продолжила, – я понимаю, что вам очень трудно, но ваши проблемы, как мне кажется, имеют давнюю и непростую историю. Я ведь ничего не знаю об этом. Я думаю, что ваша жизнь очень изменилась с рождением Ники. Вот что нужно знать, чтобы ответить на ваши вопросы. Что случилось, когда она родилась, что было потом?
– Вы правы, – ответила женщина, – все очень сложно.
В ее последующей речи, очень искренней и слегка отстраненной, словно она говорила не о себе, постоянно перемешивались времена, о прошлом она говорила в настоящем, о настоящем в прошедшем времени. Перечитывая свои записи, я вновь обратила внимание на это смешение времен, где не было будущего времени. Я привожу дословную полную запись нашей беседы, сделанную в тот же день.
Мать:
– Она родилась, и я буквально через месяц разошлась с мужем и вернулась домой к отцу. Мать моя умерла, когда дети еще не родились.
Я:
– А замуж выходили по любви? Мать:
– Тогда было иначе. Теперь он стал другой. Я:
– Появилась другая женщина?
Мать:
– Да! Этого я ему не могу простить! Ни за что! На многое я закрывала глаза. Не любит работать, зарабатывать, думает только о своем желудке, на всех наплевать, лишь бы его не трогали. Семья для него как развлечение, вспоминает, когда хочется поиграть. Один он в их семье такой урод. Все его братья и сестры обожают свои семьи. А этот даже гвоздь забить не может. До сих пор не понимаю, как, а главное — почему я это все терпела? А разводились мы то ли два, то ли три года. Сначала была против старшая дочь. Требовала, чтобы мы были вместе. Я ей пробовала объяснить, не помогло. Наконец, даже предложила уйти с ним, если так его любит. Потом она согласилась. Но дело не приняли, так как Нике не было года. Потом дали год на раздумья. Он не стал ждать, все бросил, уехал. В общем муки. Разводилась без него. Мне-то не надо, но он не звонит, не помнит о своих детях. Не дает денег — ни копейки. Он один такой (урод?). Мне ничего не надо, но дети.
Я:
– Я вас понимаю.
Мать:
– Да вы понимаете, я не меркантильна, но что они знают о своем отце? Я их не настраиваю против него. А эта (Ника) вообще его не видела. Моего отца называет папой.
Я:
– Да? И как? Мать:
– Сначала называла дедой, а теперь только папой.
Я:
– Папой?
Мать:
– Да, только папой!
Я:
– Да. Теперь понятно, почему ваша старшая дочь стала младшей?
Мать:
– Нет. Что вы имеете в виду?
Я:
– То, что вы сказали. Ваш отец, стало быть, называется папой вашей младшей дочери? Значит, вы и Ника сестры?
Оторопелое молчание матери я прерываю вопросом:
– А как вашего отца называет ваша старшая дочь? Мать (шепотом):
– Деда.
Я продолжаю мягко, спокойно, но настойчиво подводить ее своими вопросами к осознанию реальности смешения имен, фактов.
– Как вы думаете, а кем приходится Ника вашей старшей дочери?
Мать словно не слышит меня и смотрит невидящими глазами. Я неспешно повторяю вопрос наоборот и смещаю его акцент:
– Кем ваша старшая дочь приходится Нике, если у вас с Никой может быть общий отец?
Мать еле слышно выдыхает:
– То есть как?
Я не спешу к ней на помощь и отвечаю вопросом:
– То есть если вы и Ника называете папой своего отца, то она становится вашей сестрой и тетей своей старшей сестры? Или иначе старшая дочь превращается в племянницу младшей сестры? А вы? Кто вы в этой цепочке, где ваше место? Младшая или старшая, а может, дочь своей дочери?... Или...
– Что вы имеете в виду? – смущенно перебивает меня мать. Я:
– Если у вас с Никой общий отец, то как вы сами все это назовете или определите?
Я молчу, ожидая ответа. Пауза не угнетает, а, наоборот, успокаивает.
– Да, вы правы, – начала женщина, – я помню, что сначала мне это не понравилось. Значит, это так важно. Я пыталась объяснить своему отцу, что у нее есть папа (слово «свой» опущено ею), но мой отец разозлился: «Я содержу, кормлю, а ты говоришь о каком-то отце!» — и я перестала, замолчала, чтобы не обижать отца.
Я:
– Но как трудно вашей старшей. Появилась на свет Ника, отняла у нее отца. А теперь у Ники есть этот, другой отец, который сразу превратил Нику в тетю. Теперь, когда Ника — тетя, она не может быть младшей.
Мать:
– Да, мне с ней очень трудно всегда. Никогда не знаю, как поступить. А она такая, что сама всегда права и, знаете, всегда попадает в точку. Вы знаете, она на днях сказала: «Папочка, какой ты у меня молодец, ты мне выбрал такую прекрасную маму, самую лучшую».
Я:
– Да? А вы? Мать:
– Что я?
Я:
– Вы согласились? Но разве все это правда? Возможно ли такое — быть женой своего отца? Вы позволили этой лжи состояться? Это ведь не просто слова, вы становитесь соучастницей ложной истории о незаконном происхождении.
Мать смущена, она словно оправдывается.
– Но как я могла иначе поступить с ней, она же маленькая, что она поймет? Зачем ее травмировать? А с другой стороны, ведь есть фотографии, ведь я их не уничтожила, – мать растерянно замолчала.
Я:
– Подождите, не спешите, давайте разберемся в этой истории. Каждая женщина имеет право делать свой выбор. Влюбляться, выходить замуж, рожать детей, расходиться или сходиться, любить или ненавидеть своего мужа. Но это не касается их детей. Отцов у них никто не отнимает и не имеет права отнимать. Если мужчина признал свое отцовство, это всегда его дети. Они всегда дети своего отца. Того, кто их породил. И вы, разойдясь, своих девочек не лишили отца. Они ведь носят его фамилию?
Мать:
– Да.
Я:
– У вас, наверное, другая, вы носите девичью фамилию?
Мать:
– Да, это связано с дипломом.
Я:
– Может быть. Но, может быть, и потому, что все мы, женщины, очень любим своих отцов. Но! Они никогда не могут стать отцами наших детей. Это запретно! Вы сделали своих детей со своим мужем. Он их отец. Он их породил и дал им свое имя. У каждого из нас могут быть символические папы и мамы и даже несколько. Но родитель биологический, тот, кто родил, кто породил, всегда один, единственный. Причем здесь ваш отец? Он мог породить лишь своих детей. Я понимаю, что ему очень приятно вновь переживать свое отцовство, но. Женщина торопливо прерывает меня:
– Да! Он (ее отец) может даже побить старшую из-за Ники.
Я:
– Наказать за свою дочь. Что же тогда должна чувствовать старшая? У Ники есть папа, он ее любит, защищает. Ау нее...
Мать:
– Да, вы правы, ведь старшая называет его «деда».
Я:
– В вашей жизни, в семье все перемешалось, запуталось, вот, наверное, почему вам так трудно принимать решения, быть уверенной, доверять себе. Сначала к вам следует расположить все во времени и пространстве на свои места. Тогда вы сможете обрести уверенность, быть компетентной мамой и не играть ложную роль сестры своей младшей дочери. Все должно быть истинным, законным.
Мать молчит, затем задумчиво произносит:
– Да, наверное, вы правы.
Несмотря на ее согласие, я все-таки ощущаю ее сомнение и желание продолжить беседу. Я молча, сдерживая себя, сижу рядом. Она продолжила, как бы размышляя вслух, но приглашая меня к участию взглядом:
– Но как я ей скажу? Разве она поймет?
Я:
– Может быть, вы боитесь отнять у нее папу? Какого папу?
Мать, словно не слыша моего вопроса, причитая, повторяет:
– Ну как, она ведь такая маленькая, как может понять? Да и отец будет против. Ему это не понравится.
Я:
– Вам страшно, это свалилось на вас так неожиданно? Вроде все так удобно устроилось. Это идиллия или иллюзия? Вы же чувствовали, что что-то не так? Мне кажется, вы были правы. Никому не дано права менять историю происхождения. Все дети достойны того, чтобы иметь своих настоящих родителей, даже когда те далеко или умерли.
Это право ребенка на свою подлинную историю происхождения и право сделать свой выбор в будущем. Может быть, когда ваши дети вырастут, они сами уйдут к своему отцу, может быть, наоборот, им захочется перечеркнуть свою связь с ним, и они поменяют свою фамилию. Для этого им надо знать свою подлинную историю происхождения. Последствия подобной «святой» лжи разрушительны для всех, особенно для детей. Мать:
– Но как мне ей рассказать?
Я:
– Так, как и было у вас на самом деле. Ведь ваша супружеская жизнь имела свою историю до рождения Ники. Хотя детям сложно понять, что до них что-то было. Но каждая мама рождается девочкой, вырастает, становится девушкой, влюбляется, выходит замуж за любимого мужчину. Они становятся мужем и женой, любят друг друга, хотят иметь своих детей. Так было и у вас, и тогда у вас родился ваш первый ребенок — старшая дочь. Потом вам с вашим мужем захотелось иметь еще одного ребенка, так родилась вторая, младшая дочь Ника. Так ведь было? А потом вы обиделись на своего мужа, не сумели его простить, решили уйти от него. Так часто случается.
Мать:
– Да, наверное, это просто. Я трудно принимаю решения, мне трудно быть откровенной.
Тут я заметила, что к нам подошла Ника. Она стоит совсем рядом с нами в нерешительности, хотя делает вид, что не видит нас, взгляд ее «косит» периодически в нашу сторону. Я спокойно приглашаю ее к беседе.
– Мы о тебе говорим, хочешь послушать, что беспокоит твою маму?
Теперь она делает вид, что не слышит, уперлась взглядом в пол, на котором что-то разглядывает, но не отходит от нас.
Я не настаиваю, но продолжаю разговор с матерью немного громче, так, чтобы Ника могла слышать:
– Ника может захотеть увидеть своего папу или, может быть, папа приедет навестить своих дочек.
Ника начинает медленно от нас «уплывать», стараясь незаметно, неслышно исчезнуть из поля нашего зрения.
Ее спинка сгорблена, руки опущены — надо спрятаться подальше. Уже опасно! Мать это почувствовала.
– Спасибо. Я поняла, что это очень важно. – Она встала и направилась к двери.
Наша непростая беседа, закончившаяся на первый взгляд благополучно, не успокаивает меня, остаются сомнения. Поговорит ли мать с Никой? Разомкнет ли капкан инцеста, в котором оказалась сама?
Она — звено в замкнутой цепи неразрешенного Эдипа нескольких поколений. Не суть важно, имеет ли место факт содеянного реального инцеста, главное, что он присутствует в бессознательном — воображаемой реальности, в которой функционирует эта семья, возможно, давно. Теперь в него вовлечена и Ника.
Этой женщине еще предстоит осознать подлинный смысл своих переживаний — свое и отцово инцестуозное влечение. Проще прятаться в ложной идиллии, в которой нет места истине, нет места старшей дочери. Но расплата за инцест неумолимо наследуется следующим поколением, и здесь все равны. И все равно, кто попал в чьи сети — дочь в сети отца или отец в сети дочери, матери, – реальный человек или воображаемый. Его сила разрушительна и без наличия коитальных притязаний, а развязка нередко наступает в психозе в третьем поколении.[34]
Своими сомнениями я поделилась несколько недель спустя на одном из семинаров. После изложения беседы с матерью Ники и анализа я спросила коллег, посещают ли они «Сад радуги», так как в мой день они больше не появлялись.
Я получила утвердительный ответ. А одна из принимающих рассказала, что мать Ники слегка затрагивала с ней проблему дочери, отказывающейся называть ее отца дедом:
– Я уже сказала, что у нее есть свой папа и что мой отец приходится ей дедом.
Что ж, прекрасно! Отцовская функция «Сада радуги»[35] в очередной раз воспроизвела свои созидательные, конструктивные результаты. Теперь мне кажется возможным, что психическое развитие Ники будет более устойчивым в своем законном месте и времени. Главное — она получила право иметь свою подлинную историю, шанс покончить с возможностью остаться плодом воображаемого инцеста. Что отныне она — законный плод желания мужчины и женщины, законных мужа и жены, младшая дочь своих истинных родителей.
Сегодня я уверена в этом еще и потому, что на последнем семинаре мы опять говорили о Нике, о ее разговоре с другой девочкой, у которой родители тоже разведены, но отец иногда ее навещает в «Саду радуги». Вот фрагмент разговора. Ника спрашивает девочку:
– А где твой папа?
– Его нет, – отвечает девочка. Ника:
– Так не бывает. У всех детей есть папы. Моего папы здесь нет, – продолжила она, – мама обиделась на него, и он уехал в «Х». Не возвращается...
Все в порядке! Он есть! Даже если никогда не вернется. Он есть!
5 этюд. Дочки-матери
6 этюд. Мари и турки
Землетрясение в Армении явилось той травматической ситуацией, которая породила огромное количество невротических и психосоматических расстройств как у взрослого населения, так и у детей.
Спустя много времени, просматривая материал, я остановилась на случае одиннадцатилетней пациентки. Он представляет особый интерес как один из редких примеров завершенной работы, характеризующийся многогранностью в плане психотерапевтического взаимодействия, динамики психических преобразований, проявления регрессии в процессе работы, а также характерными чертами, встречающимися в работе с другими пациентами.
Из соображений профессиональной этики назову свою пациентку Мари из Спитака.
Мать обратилась за помощью в миссию «Врачи мира» спустя 11 месяцев после землетрясения, так как сама лежала в больнице с повреждениями позвоночника и некому было заняться девочкой.
Мари, старшая из 3-х детей, в описываемое время в связи с эвакуацией населения из зоны стихийного бедствия жила с матерью, сестрой и братом в гостинице Еревана. Отец продолжал жить в Спитаке, работая на завалах, и изредка навещал семью.
На консультации мать — очень активная и экзальтированная женщина — рассказывала о себе, о деталях несложившейся личной жизни, конфликтах с мужем-алкоголиком. Подробно описала, как попала в завал, как Мари помогла вытащить ее оттуда, и она чудом осталась в живых. Боли в пояснице и ногах считает неизлечимыми: «Не пройдет». Затем рассказ переходит на дочь. Это ее любимый ребенок: «Она очень похожа на меня, такая же добрая, как я, будет так же несчастна, как я. Я-то знаю!» По ночам девочка во сне кричит и плачет, не просыпаясь. Иногда встает и начинает ходить, и разбудить ее не всегда удается. Стала плохо есть, похудела, появились боли в животе и тошнота, когда заставляют есть. Мари боится оставаться одна, особенно с наступлением темноты. Жалуется на кошмарные сновидения.
Мари сидела с отсутствующим видом на протяжении всей беседы с матерью. Цвет лица у нее землистый, под глазами синяки, взгляд отсутствующий, глаза тусклые, голос тихий, лицо, не выражающее эмоций, безучастно. Монотонно она повторила, словно заученный урок, все сказанное матерью, прибавив о кошмарах во сне: «Спать не люблю, боюсь спать, сны снятся страшные». Содержание сновидений: турки, которые гонятся за нею, чтобы убить или украсть. Замечена фиксация на турках с оружием. С наступлением темноты напряженно ожидает их преследования.
Анализируемый клинический материал можно условно разделить на три этапа, содержание каждого из которых характеризует особенности психотерапевтического общения и динамики психических преобразований пациентки.