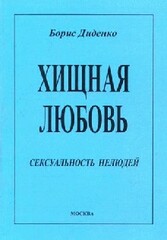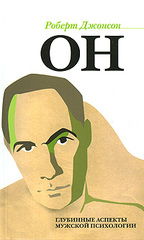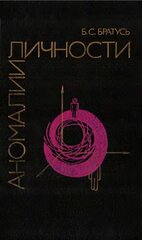«И если долго вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя».
«Дьявол не ведает, на кого работает».
«Человек достоин только ада и никак не менее, если он не достоин небес».
«Мы приходим из Невидимого. Мы живем Им и с Ним».
«Та вечность, в которой человек живет, начинается прямо здесь и сейчас».
«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны…»
Мертвые стояли в ночи вдоль стен и восклицали: «Желаем знать о Боге!..»
В ночи снова воротились мертвые и говорили с жалким видом: «Еще про одно мы забыли, дай нам наставление о человеке!»
Часть I. Ночной салон на Сретенке
Лукин. Бдение первое
Уже которую ноябрьскую ночь я сижу на кухне за своим одиноким столом и мусолю остатки иссохшихся, но ранее проклятых для меня вопросов: «Что происходит и почему, и как это могло произойти? И как случилось, что?..» Занятие в высшей степени бессмысленное столь же, сколь и бесполезное. Потому что любой личный вопрос сводится в конце концов к беспомощному риторическому вопрошанию: «Что и за что?»
Которую ноябрьскую ночь я блуждаю своим замусоленным и осоловевшим взглядом по черному квадрату окна, за которым простирается ночь, и в снежных натисках крадется притихший город. Будто там, за этим окном в расслаивающихся черно-фиолетовых наплывах ищу ответа. И рассеянно бренчу ложечкой о край остывшего стакана, взметая рой чаинок в этой искусственной буре. Почему-то мне вспомнилась Катерина из «Грозы» с ее вдохновенным «Ах, почему я не птица?». А я вот и не сожалею нисколько, что никакая я не птица. Да и какая я к черту птица, а тем более и важная?! Я обыкновенная чаинка в таком вот стакане. Кто-то неведомый взмахнет ложечкой, и я выплываю на поверхность, кружа и взметаясь в своих липовых волнениях и страстишках. Забудется неведомый некто, и чувствую, как иду ко дну, поднимая безмолвные вопли на всю вселенную: «Караул! Беда!» Утешаюсь лишь тем, что не я один такой. Наш брат российский интеллигентишко любит понадорвать пупочек свой в таких вот исступленных мазохистических бдениях. Да и антураж все тот же: полунощная кухонка, чаек с деревенским медом и слезоточивыми проклятыми вопросами. Присовокупить еще сюда желудочные капли, утепленные подштаники — и получим полный портрет в интерьере того, кто, а вернее, что зовется совестью народа или нации.
Так удобно. Ты кричишь о мировой скорби или людском безумии, и никто не заподозрит, что ты, милый мой, немножечко импотентен. Просто сочтут, что у тебя «платформа такая», а, быть может, еще и присвоят почетное звание правдоискателя и истинопоклонника. Нет, господа, в этом бог меня миловал, и в желудочных каплях, розовых кальсончиках я не нуждаюсь, да и мужской немочью не страдаю. А потому на истину мне наплевать, категория правды меня нисколько не интересует, а что до человечества с его унылой растерянностью относительно наболевших проблем с глобальным размахом, мне нет никакого дела. Слава Создателю, я до этого еще не дошел. Но ведь могу же! Кажется, все к тому и движется.
Моя ситуация банальнее, а тем, следовательно, и мучительнее для меня. Просто моя жизнь оборвалась. Оборвалась и полетела по инерции в какую-то пустоту. Я живу по инерции. Будто случайная и брошенная вагонетка-малолитражка, которую просто так, без злого умысла, да и вообще без всякого умысла, пнул подгулявший верзила стрелочник. И едет себе эта вагонетка, едет безмозглая, пока не воткнется в тупик.
Телефон, друг мой, враг мой, предал меня. Замолчал намертво. Несколько дней сидел не отходя — вдруг объявится кто-нибудь. Никого.
А ведь были, были времена… телефон чихал, плевался, стонал, распираемый жданными и нежданными абонентами. И я тот час срывался и летел, несся, очертя голову, чтобы приземлиться благополучно в какой-нибудь шумной компашке, где звонкие голоса сливались с галдящим звоном бутылок, напоенных горячительным содержимым, где прозрачный хмель неторопливой попойки царствовал вместе с булькающим коньячком, салатом оливье и ароматными женщинами, чье поведение столь же легко, как и твое летящее настроение. И на следующий день встречает тебя тихое утро в обличий длинноволосой нимфы, гордой обладательницы крепких ляжек, прошедших далеко не в одной постели и не одно боевое крещение. Ты чмокаешь ее в теплый дремлющий зад и, выбиваясь из-под шуршащей простыни, устремляешься к серебристо поблескивающему графинчику, без спешки и сухих судорожных взглатываний наполняешь прохладной, но жгучей влагой пузатую рюмашку и, ловко подцепив маринованный груздь, отправляешь все это внутрь себя.
Эти похмельные рассветы имеют свою прелесть и ничего общего не имеют с тяжелым по-достоевски придавленным похмельным синдромом коммунально-портвейновой окраски. Ты вновь устремляешься к своей пробуждающейся белозадой фемине, сопящей и распираемой вожделением, и погружаешься в ее божественные развратные телеса.
Однажды такой феминой оказалась Рита, сладострастная, упоительная, исполненная вожделения и бесстыдства, властная брунгильда с ногами, требующими безропотного поклонения. И я склонился и припал к этим стопам, и острый каблучок стремительнее стрелы Амура пронзил мое вспыхнувшее сердце. И я мелко суетился вокруг ее обнаженных коленей и жалобно молил: «О королева моя, королева!» Впрочем, уже через полчаса мы вдохновенно стонали под одним одеялом, и этот танец любви ненасытен был и алчен. Как ненасытны и алчны были и наши следующие встречи, уже наедине. Хотя, разумеется, и веселые сборища никуда не делись и шли своим чередом, и грибочки не переводились, по-прежнему матово искрились горы салата оливье и чуть поменьше горки красной зернистой, и коньячок булькал, как нескончаемый родник. Но это был уже прекрасный фон, на котором исполняла свою главную партию вдохновенно-обольстительная Рита с распутными мерцающими очами, как об этом поется в юношеских прыщавых романсах. Но глаза эти действительно мерцали и завораживали. От этого взгляда, одного только взгляда, мужские ширинки раздувались, как щеки филина. А мой пенис пребывал в постоянном экзальтированно приподнятом состоянии восторженного отрока, воодушевленного своей заветной мечтой.
И — обрыв. Жизнь сорвалась с накатанной колеи и плавно заскользила в какой-то немыслимой пустоте.
Бесшумная снежинка залетела в полуоткрытую форточку и растворилась в сизых табачных наплывах, скопившихся под потолком. В комнате, поскрипывая кроватью, в полусонном бормотанье ворочается Лизочка, моя нынешняя спутница жизни, вяловатая особа, с тайной страстью исповедующая декаданс и помешанная на Бальмонте. Впрочем, есть в этом нечто глумливо сладострастное — задрать ее бледные ноги в домашних шлепанцах и поиметь в каком-нибудь не очень подходящем для этого месте, на том же самом, к примеру, кухонном столе. После этого действительно хочется думать о судьбах человечества и больше ни о чем другом.
Сейчас, Лизочка, сейчас, родная, душечка моя воздушная, додумаю свою очередную неврастеническую горькую думу и приду к тебе, к твоему смазливому и пресноводному взгляду, к твоему прохладному слюнявому ротику и влажному неглубокому дыханию.
И в который раз, позвякивая ложечкой и взметая рой чаинок, я спрашиваю себя: что же, что же, что же произошло? Судьба? Наваждение? Кара? Ведь не только же в бабах и водке дело. Ведь было же и другое — работа. Статьи и рецензии добросовестно в срок выползали из-под раздолбленного от праведных трудов валика идей печатной машинки и даже у кого-то из читателей вызывали так называемый живой отклик.
Правда, дальше статей дело не шло, однако, это из-за моего слишком подвижного воображения. Как-то я задумал написать серьезное социологическое исследование о картавом вожде и даже начал собирать материалы, но внезапно я представил себе его не слишком официальный облик — в домашних кальсончиках, с увеличенной головой, с венчиком атавизма на подбородке, бегает этакий резвунчик, семеня ножками, по комнатам и с лукавым прищуром излагает программу максимум. И остыл к этой затее. Даже немного испугался — уж не зашевелились ли во мне скрытые гомосексуальные тенденции — почему вождь привиделся именно в исподнем?
Впрочем, относительно скрытого гомосексуализма я успокоился, разубежденный Николаем Павловичем, в том смысле, что он скрыт, но в сублимированном виде есть у всех и каждого. И тем не менее к фигуре вождя я окончательно охладел.
Между тем популярности у меня хватало, и мои философско-социологические эссе пользовались определенным успехом у определенной части публики, той, чей растревоженый интеллект мечется между Ницше, Шпенглером и кухонной плитой в поисках вечно ускользающих истин.
И каждую неделю выступления в Клубе давали мне не только приток свежих денег, но и приток свежих впечатлений. Вдохновленный собственным многоречием, я воспарял вместе со слушателями к высотам извечно мудрых заповедей и в это время рыскал по рядам в поисках не менее вдохновенных глаз интеллектуально неудовлетворенных дамочек, в которых нетрудно было предугадать моих грядущих сексуальных партнерш. Самое приятное, пожалуй, заключалось в том, что за свое вдохновение и удовольствие я получал еще и деньги, и перспективы прелестного времяпрепровождения.
Теперь же ни вдохновения, ни удовольствия, ни перспектив. Хорошо, хоть деньги не перевелись. А Публика — Дура. Ей надоели тонкие изыски интеллектуальных наслаждений, видите ли, и каждый теперь тщит себя надеждой, что в глубине его сокрыт пока что дремлющий Рокфеллер.
Женщины кинули меня все разом. Просто. Спокойно. Без всякой демонстративное. (Уж последнего то я никак не ожидал.) Они перестали звонить, интересоваться моими творческими успехами и моей яркой личностью на фоне этих самых успехов. Мои же звонки даже намека на душевный трепет на том конце провода не вызывали. В конце концов, моя уязвленная гордость заставила меня демонстративно оборвать контакты. Я начинаю подозревать, что и растительная Лизочка проделает со мной подобное и променяет мою изливающуюся потоком экспрессию на холодные обеды с каким-нибудь эстетствующим придурком, одним из тех, что вечно околачиваются возле светской богемы.
Одиночество заползло ко мне за пазуху и свернулось там клубком. Мир отвернулся от меня и радует теперь других. Ну и пусть радует… А я выливаю остатки чая в свою иссушенную сигаретами глотку и подкрадываюсь к Лизочке, чья вялая фантазия дает себе сейчас волю в таинственных лабиринтах сновидения.
Я на цыпочках подхожу к скомканной фигурке, прикрытой полунаброшенными тенями и одеялом, осторожно касаюсь коленом нашей низкой кровати и нависаю над Лизочкой. На мгновенье ее дыхание притихло, словно повисло на невидимом волоске, но тут же ее растопыренный ротик издал тонкопохрапывающий дискант. Я приблизился к ее лицу, обрамленному в оправу химических кудряшек, и почему-то мне показалось, что тьма вокруг сгустилась, и в этой плотной завесе ночи мелькнуло наваждение. Безумный импульс пронзил воздух спальни и вошел в меня, заставив сердце подкатиться к горлу. И тут Лизочка открыла вспыхнувшие изумлением и предчувствием глаза. Ее зрачки, подернутые лунным блеском, в этот момент просочившимся сквозь тьму, устремились прямо на меня, и я нырнул в какую-то страшную бездну и только успел осознать, что моя правая рука сдавила ее тонкое горло и сжалась еще крепче, вдавив исказившееся лицо со взметнувшимися кудряшками в глубину подушки. Ее тело несколько раз дернулось, напрягшаяся гортань хрипло крякнула, и все стихло. И я почувствовал, что куда-то падаю.