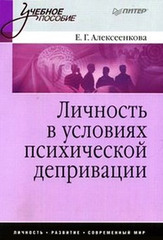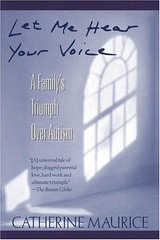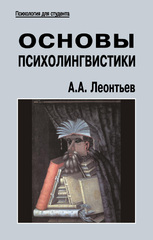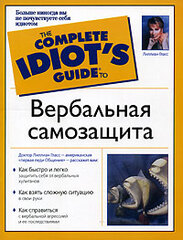БОГ И БРОДСКИЙ
Немного самиздата
В ранних стихах Бродского поражает черта, у молодых авторов довольно редкая: он занят не собой; почти буквально — не играет никакой человеческой роли; автопортретом пренебрегает; чувств не описывает...
Верней, описывает одно только чувство — не знаю, как его назвать; попробую — чувством бесконечности: когда окружающий мир дан как огромное подлежащее, тяжело волнуя и понуждая этим необъяснимым волнением к равновеликому сказуемому; какие-то сложные, излишне близкие отношения между зрением, умом и голосом: жизнь буквально бросается в глаза, давит на сетчатку всем своим совокупным весом — вымогая в ответ — вопль.
Или скажем так: уже существовала к джазу полуподпольная любовь, и труба Диззи Гиллеспи певала летом из иных окон, — так вот: молодость состояла из бесчисленных, бессвязных и маловажных вроде бы событий — но это чувство бесконечности наделяло их непонятным сходством, и, сменяя друг друга, они как бы чередовались, как бы создавали все более отчетливый, все более резкий ритм — ударник и контрабас все нетерпеливей требуют мелодии то есть голоса, воплощающего смысл ритма.
И это должна быть импровизация — все до одной случайности годятся в дело, потому что смысл всего заключен во всем — лишь бы дыхания хватило на немыслимо длинную строку, — а всего бы лучше — на стихотворение из одной строки, немыслимо длинной:
вот он красит
деревья, зажигает лампу, лакирует авто,
в узеньких переулках торопливо звонят
соборы,
возвращайся назад, выходи на балкон, накинь пальто.
Видишь,
августовские любовники пробегают внизу с цветами,
голубые струи реклам
бесконечно стекают с крыш,
вот ты смотришь вниз, никогда не меняйся
местами,
никогда ни с кем, это ты себе говоришь...
Вот еще — из "Июльского интермеццо":
Когда на миг все люди замолчат,
недалеко за цинковой рекой
твои шаги на целый мир звучат.
Останься на нагревшемся мосту,
роняй цветы в ночную пустоту,
когда река, блестя из темноты,
всю ночь несет в Голландию цветы.
Скоро сорок лет, как я переписал у кого-то стихотворение с этой последней строфой, — и листок до сих пор сохраняю, — и сам себе не могу объяснить, отчего она мне кажется такой прекрасной — чем похожа на подобный белой ночи призрак счастья — и при чем тут Голландия... Наверное, в том-то и дело, что ни при чем. Может статься, прекрасное, как и счастье, — всего лишь свобода необходимых случайностей, что-нибудь в этом роде?
В общем, нет занятия безумней, чем сочинять тексты о текстах, особенно — прозу о стихах.
Но продолжим. Бродский в молодости, а потом и всю жизнь создавал главным образом пейзажи о свободе, как бы увиденные извне — с высоты, с другой стороны времени. Восторг отчуждения осознается как судьба и долг:
не мертвец, а какой-то посредник,
совершенно один
ты кричишь о себе напоследок:
никого не узнал,
обознался, забыл, обманулся,
слава Богу, зима. Значит, я никуда не вернулся.
Слава Богу, чужой.
Никого я здесь не обвиняю.
Ничего не узнать.
Я иду, тороплюсь, обгоняю.
Как легко мне теперь,
оттого что ни с кем не расстался.
Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.
Поздравляю себя!
Сколько лет проживу, ничего мне не надо.
Сколько лет проживу,
столько дам за стакан лимонада.
Сколько раз я вернусь — но уже не вернусь
словно дом запираю,
сколько дам я за грусть от кирпичной трубы и собачьего лая.
Как видим, у судьи — некоей Савельевой, вздумай она почитать стихи Бродского, нашлись бы основания — вздорные, впрочем, — признать подписанный ею приговор полезным для дела партии, а значит, и справедливым с точки зрения социалистической законности.
Но ведь и Бродский упомянул о своем якобы Заимодавце не машинально. Ему как бы доверена точка зрения, нисколько не обусловленная биографическими обстоятельствами. Ему дан — и разрывает ему легкие — голос, осуществляющий звучанием связь всего со всем. И отчаяние даровано ему как вдохновение, — такая у него судьба, или так он ее понимает.