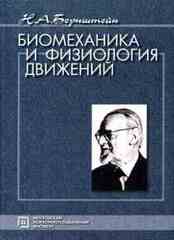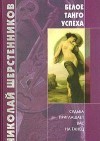ОТВЕТ ИОВУ
2
Поскольку Всеведущий читает в сердцах, а глаза Яхве «объемлют взором все землю» [7], то очень правильно, что в 89 псалме рассказчик не слишком скоро осознаёт (и соответственно утаивает от себя) своё тайное моральное превосходство над бессознательным Богом, ибо Яхве не по нраву критические мысли, которые могли бы как-то приуменьшить столь вожделенный для него приток почитания. Чем больше он громыхает своей мощью на всю вселенную, тем уже база его бытия, нуждающегося как раз в осознанном отображении, чтобы поистине существовать. Разумеется, это бытие действительно, лишь, если кем-то осознаётся. Поэтому-то Создателю и нужен сознающий человек, хотя он предпочёл бы — в силу своей бессознательности — мешать формированию его сознания. И поэтому же Яхве нужны выражения бурного одобрения со стороны маленького сообщества людей. Можно себе представить, что случилось бы, если бы этому сообществу пришло в голову прервать овации: наступило бы состояние возбуждения с припадками слепой разрушительной ярости, а затем — погружение в адское одиночество и мучительное небытие, сменяющееся постепенным пробуждением бессловесной тоски по чёму-то такому, что дало бы Мне ощущать Самого Себя. Вероятно, поэтому всё, что только-только вышло из рук Создателя, даже человек — до того как сделаться канальей, преисполнено волнующей, более того — волшебной красоты, ибо «в состоянии зарождения» всё это — каждое «по роду его» — являет собою некую драгоценность, вожделенную в глубине души, что-то младенчески-нежное, отблеск бесконечной любви и благости Творца.
В свете несомненной губительности Божьего гнева, да ещё в те времена, когда было ясно, что такое «страх Божий», естественным образом выявилась всё ещё длящаяся бессознательность некоей в известном отношении вышестоящей человечности.
Могущественная личность Яхве, лишённая к тому же всяких биографических предпосылок (ведь его изначальная соотнесенность с Элохимами давно канула в Лету), вознесла его, Яхве, над всеми божествами тогдашних народов и тем самым дала ему иммунитет против продолжавшейся уже несколько сот лет потери языческими богами своего авторитета. Именно эта деталь их мифологической биографии, бестолковость и непристойность которой становились всё более понятными по мере того как возрастала способность критического суждения, стала их роком. У Яхве же не было ни личной истории, ни прошлого — за исключением его миростроительства, с которого начинается всякая история вообще, а также отношения к той части человечества, чей праотец Адам был создан им по своему образу в качестве Антропоса, просто прачеловека, откровенно специальным актом творения. Другие люди, которые в то время уже тоже существовали, были, надо полагать, сформованы на Божьем гончарном круге ещё до этого — вкупе со «зверями земными по роду их и скотом по роду его». Это были именно те люди, из которых Каин и Сиф взяли себе жен [8]. Если наше предположение не заслуживает одобрения, то остаётся открытой ещё только одна, гораздо более предосудительная возможность — что они женились на своих текстуально не засвидетельствованных сестрах, как ещё в конце XIX века считал Карл Лампрехт [9], писатель на темы философии истории.
Особое провидение, даровавшая избранность иудеям, этим копиям Бога, наперед обременила их обязательством, которое по понятным причинам они всеми силами пытались обойти стороной, как это обыкновенно и бывает с такого рода закладными. Поскольку этот народ использовал любую возможность, чтобы отпасть, а для Яхве было жизненно важно окончательно привязать к себе необходимый ему объект, который он с этой целью и создал «богоподобным», то уже в начальные времена он предложил патриарху Ною «завет» между собою, с одной стороны, и Ноем, его детьми и их домашними и дикими животными — с другой, — договор, суливший выгоды обеим сторонам. Дабы закрепить этот завет и держать его в памяти свежим, он в качестве зарока учредил радугу. Поэтому когда он нагоняет тучи, несущие с собой молнии и водяные потоки, появляется радуга, которая напоминает и должна напоминать ему и его народу о договоре. Но ведь есть и немалое искушение использовать скопление облачных масс для эксперимента с потопом, а потому неплохо иметь предназначенный для этого знак, заблаговременно предупреждающий о возможной катастрофе.
Вопреки таким мерам предосторожности договор с Давидом был порван в клочки, каковое событие оставило по себе в Св. Писании литературный осадок — к огорчению некоторых немногих благочестивцев, которые при чтении этих книг задумывались. Ведь при усердном пользовании Псалтирью кто-нибудь из этих вдумчивых людей наверняка спотыкался умом, читая 89 псалом [10]. Как бы там ни было, всё же фатальное впечатление нарушения договора остаётся актуальным. С хронологической точки зрения возможно, что этот мотив повлиял на сочинителя «Книги Иова».
«Книга Иова» ставит благочестивого и верного, но поражённого Богом человека на открытую со всех сторон сцену, где он излагает своё дело на глазах у всего мира. А Яхве удивительно легко и беспричинно поддался влиянию одного из своих сынов, духа сомненья [11], и позволил ввести себя в заблуждение относительно верности Иова. Его, ранимого и недоверчивого, нервировала уже одна только возможность того, что кто-то в нём сомневается, а это побуждало к тому странному образу действий, пример коего он продемонстрировал ещё в раю своим двусмысленным поведением, совмещавшим в себе «да» и «нет», обратив внимание прародителей на древо и одновременно запретив им есть от него. Тем самым он спровоцировал не предусматривавшееся вначале грехопадение. И вот верный раб Иов беспричинно и бесцельно обречён на моральное испытание, хотя Яхве и убеждён в его верности и стойкости, мало того, если бы он дал слово своему всеведению, то мог бы определённо в этом удостовериться. Зачем же тогда надо было, несмотря ни на что, создавать искушение и без всякой ставки держать пари с бессовестным шептуном за счёт безответной твари? Быстрота, с какой Яхве предаёт в руки духа зла своего верного раба, холодность и бессердечность, с какими он даёт ему погрузиться в бездну физических и моральных мучений, являют собою отнюдь не возвышающее душу зрелище. Поведение Бога с человеческой точки зрения столь возмутительно, что стоит задаться вопросом: не кроется ли за ним некий более глубокий мотив? Не было ли у Яхве какого-то тайного неприятия Иова? Это объясняло бы его уступчивость по отношению к Сатане. А человек — есть ли у него что-то, чего нет у Бога? В силу своей ничтожности, слабости и беззащитности перед могуществом Всевышнего он, как мы уже дали понять, обладает несколько более острым сознанием на базе саморефлексии: чтобы выстоять, он постоянно должен осознавать своё бессилие перед лицом всемогущего Бога. Последний же не нуждается в такой осторожности, ибо никогда не сталкивается с непреодолимыми препятствиями, которые побуждали бы его к колебаниям, а значит, и к саморефлексии. Может быть, Яхве подозревал, что человек владеет хотя и неизмеримо меньшим, но зато куда более интенсивным светом, нежели он, Бог? Ревность такого рода, вероятно, могла бы объяснить поведение Яхве. Было бы понятно, почему подобное — лишь возможное, но не желательное — отклонение от положенных простой твари границ возбуждало Божью недоверчивость. Ведь слишком уж часто люди поступали не так, как им было положено. В конце концов, может быть, даже верный Иов втайне вынашивал что-нибудь этакое… Отсюда и весьма неожиданная готовность соглашаться с нашептываниями Сатаны в разрез с собственными убеждениями!
Незамедлительно следует похищение у Иова стад; умерщвляются его рабы и даже сыновья и дочери, а сам он при помощи недуга доведён до края могилы. Дабы отнять у него ещё и покой, на него натравлены жена и ближайшие друзья, ведущие неправые речи. Его правомочная жалоба не достигает уха судии, восхваляемого за праведность. Ему отказано в справедливости, дабы не мешать Сатане разыгрывать свою карту.
Надо хорошо представлять себе, что тут в кратчайшие сроки происходят одна за другой страшные вещи: грабёж, убийство, умышленное членовредительство и отказ в праве на суд. При этом отягчающим обстоятельством является то, что Яхве демонстрирует не понимание, сожаление или сострадание, а лишь беспощадность и лютый нрав. Апелляция к бессознательности не может иметь силы, поскольку он вопиющим образом нарушил по меньшей мере три заповеди из тех, что сам же обнародовал на Синае.
Друзья Иова вносят посильную лепту моральных пыток в его муку и вместо того, чтобы, по крайней мере, от всего сердца помогать ему, которого Бог столь вероломно покинул, слишком по-человечески, то бишь тупоумно, морализируют, лишая его даже последней поддержки в виде участия и человеческого понимания, причём невозможно окончательно отделаться от подозрения в Божьем попустительстве.
Нелегко сразу понять, почему мукам Иова и Божьим махинациям внезапно приходит конец. Ведь поскольку Иов не умирает, бессмысленное страдание может продолжаться и впредь. Не будем, однако, сводить глаз с подоплёки этого события: может статься, мы постепенно обнаружим в этой подоплёке кое-что — а именно, компенсацию за безвинные муки, которая не могла оставить Яхве безучастным, даже если он имел о ней хотя бы смутное представление. Ведь невиновный мученик, сам того не ведая и не желая, мало-помалу поднялся до превосходства в богопознании, каковым Бог не обладал. Обратись Яхве к своему всеведению — и у Иова не было бы над ним никакого превосходства. Но тогда, конечно, не случилось бы и многого другого.
Иов познаёт внутреннюю антиномичность Бога, а тем самым свет его познания достигает даже степени божественной нуминозности [12]. Возможность этого процесса зиждется, надо полагать, на богоподобии, которое вряд ли следует искать в морфологии человека. Такое заблуждение упредил сам же Яхве, запретив поклоняться идолам. Иов, не давая себя разубедить в своём намерении изложить дело Богу даже без надежды быть выслушанным, предстаёт перед ним, создав тем самым то затруднение, благодаря которому должна раскрыться вся сущность Яхве. На этой драматической точке последний прерывает страшное действо. Но тяжко ошибётся тот, кто станет ждать, что его гнев обратится против клеветника. Яхве и не думает привлекать к ответственности своего сына, уговорам коего он последовал, и ему не приходит в голову, объясняя своё поведение, дать Иову хотя бы какое-то моральное удовлетворение. Он предпочитает разразиться в своём всемогуществе грозой и наброситься на полураздавленного человеческого червя с упреками: «Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла?» [XV]
В свете дальнейших речей Яхве здесь поистине уместно задаться вопросом: а кто и какое провидение тут омрачает? Ведь омрачено-то оно как раз с тех пор, как Бог решил биться об заклад с Сатаной. Здесь Иов наверняка ничего не омрачал, а уж Провидение и подавно, ибо о таковом речи вообще не было и впредь не будет. Пари, очевидно, не предполагало никакого «Провидения»; ведь, должно быть, сам Яхве и подстрекнул Сатану к спору, дабы в конце Иов был возвышен. Такое развитие событий, естественно, было заранее известно Всеведению, и, может быть, слово «Провидение» указывает на это вечное и абсолютное знание [13]. Если так, то позиция Яхве кажется тем более непоследовательной и непонятной, ибо в таком случае ему надо было раскрыть Иову глаза на то, что в отношении причинённой ему несправедливости было как раз правильным и подобающим. Поэтому я считаю, что этого он так и не сделал.
А что это за «слова без смысла»? Яхве, вероятно, не имеет в виду слова друзей, а осуждает Иова. Но в чём же он виновен? Единственное, в чём его можно упрекнуть, это оптимизм, с каким он верит в возможность апелляции к Божьей справедливости. В этом, как явствует из дальнейших слов Яхве, его ожидания не сбываются. Бог вовсе не стремится быть праведным, а кичится своей мощью, которая сильнее права. У Иова такое не умещается в голове — ведь он-то считал Бога существом моральным. Он никогда не сомневался во всемогуществе Бога; мало того — ещё и уповал на его праведность. Но эту ошибку он сам же и исправил, познав противоречивую природу Бога и тем, указав праведности и доброте Божьим их места. О недостатке проницательности здесь и говорить не приходится.
Посему ответом на вопрос Яхве будет следующее утверждение: сам Яхве и есть тот, кто омрачает собственное Провидение и не обнаруживает никакого понимания. Он, так сказать, получает рикошетом свой же удар, порицая Иова за то, что сам же и делает: человеку не должно быть позволено иметь о нём мнение, а особенно понимание, которым сам Бог не обладает. На протяжении семидесяти одного стиха он вещает о могуществе творца мира своей несчастной жертве, осыпающей себя пеплом и скребущей свои струпья, уже давно успевшей в глубине души осознать, что выдана сверхчеловеческому насилию. Иову совершенно не нужно вновь и уже до тошноты слушать об этом могуществе. Яхве благодаря своему всеведению уж мог бы, конечно, знать, сколь неуместно в подобной ситуации такое запугивание. Ему нетрудно было бы увидеть, что Иов и до, и после этого верит в его всемогущество и никогда не подвергает его сомнению и что он, уж конечно, никогда не предавал своего Бога. А тот вообще так мало принимает во внимание Иова самого по себе, что по праву возникает подозрение в наличии какого-то другого, более важного для него мотива: Иов — не более чем внешний повод к разбирательству внутри самого Бога. Яхве, вещая Иову, столь явно обращается не по адресу, что легко заметить, как сильно он занята самим собой. Эмфатическое [14] выпячивание собственного всемогущества и величия не имеет никакого смысла для Иова, которого невозможно убедить в этом ещё больше, а понятно лишь слушателю, в нём сомневающемуся. Этот дух сомнения — Сатана, после совершения злого дела вернувшийся в отчее лоно, дабы продолжать там свою подрывную деятельность. Ведь Яхве-то должен был видеть, что верность Иова осталась непоколебленной и что Сатана проиграл спор. Он должен был также понимать, что, пустившись в этот спор, он сделал всё, чтобы спровоцировать своего верного раба на измену, причём даже довёл дело до совершения целого ряда преступлений. Тут и не пахнет раскаянием, не говоря уже о моральном ужасе, в который должно прийти его сознание, а имеется, скорее, смутное ощущение чего-то, что ставит его всемогущество под вопрос. (В этом отношении Яхве особенно чувствителен, ибо «сила» — великий аргумент. Но во всеведении есть сознание того, что силой нельзя оправдать что угодно.) Такое подозрение относится, конечно, к тому в высшей степени неприятному обстоятельству, что Яхве поддался на уговоры Сатаны. Однако этот изъян не осознаётся им ясно, ибо Сатана действует, вероятно, с великим терпением и с оглядкой. Его интриги явно должны быть упущены из внимания — за счёт Иова.
Иов, к своему счастью, во время высокого выступления заметил, что речь идёт о чём угодно другом, но не о его праве. Он понял: сейчас нет возможности разбирать вопрос о правах, ибо чересчур ясно, что у Яхве отсутствует какой бы то ни было интерес к делу Иова — он занят собственными вопросами. Сатана же должен как-то исчезнуть. Это наилучшим образом и происходит — благодаря тому, что на Иова падает подозрение в бунтарских настроениях. Тем самым проблема переходит на другие рельсы, а инцидент с Сатаной остаётся незамеченным и неосознанным. Правда, зрителю не совсем ясно, почему всемогущество демонстрируется Иову при помощи грома и молнии, однако демонстрация сама по себе достаточно внушительна и впечатляюща, чтобы не только вся публика, но и в первую очередь сам Яхве убедился в своём драгоценном могуществе. Чувствует ли Иов, какое насилие тем самым Яхве чинит своему всеведению, мы, правда, не знаем, но его молчание и смирение оставляют открытыми различные возможности. Поэтому Иову не остаётся ничего лучшего, чем тотчас по всей форме отменить свой иск, и он отвечает уже приведёнными словами: «Руку мою полагаю на уста мои».
Он никак не проявляет и следа возможной «мысленной оговорки». Его ответ не вызывает сомнений в том, что он всецело и естественно находится под воздействием Божьей демонстрации. Таким результатом мог бы удовлетвориться и самый ревнивый тиран, будучи уверен, что у раба от одного только страха (не говоря уже о безусловной лояльности) отныне навсегда пропала охота лелеять хотя бы одну несогласную мысль.
Странно, но Яхве не замечает ничего этого. Он вообще не видит ни Иова, ни его ситуации. Скорее, дело обстоит так, будто вместо Иова перед ним кто-то могущественный, кому стоит бросить вызов. Это видно из повторяющегося дважды обращения: «Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне» [XVI].
Чтобы проиллюстрировать несоизмеримость сторон, надо принести уж совсем гротескные примеры. Яхве видит в Иове нечто такое, что можно приписать, скорее, ему самому, а именно некую равную силу, дающую Богу повод продемонстрировать противнику внушительный парад механики всей своей мощи. Яхве проецирует на Иова личину скептика, которую сам Бог не любит, потому что она принадлежит ему самому, — личину, от которой исходят вызывающие тревогу критические взгляды. Она страшит его, ибо лишь перед лицом какой-нибудь угрозы обыкновенно начинают громогласно ссылаться на собственную силу, ловкость, твёрдый дух, непобедимость и тому подобное. Зачем нужно проделывать это с Иовом? Надо ли слону пугать мышь?
Яхве не может удовлетвориться первым победоносным туром. Иов давно уже повержен, но великий противник, чей фантом спроецирован на взывающего к милосердию страдальца, все ещё грозно стоит на ногах. Поэтому Яхве делает новый замах:
Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? [XVII]
Человек, лишённый защиты и справедливости, человек, которому при любой возможности начинают колоть глаза его ничтожностью, откровенно кажется Яхве столь опасным, что он считает необходимым сконцентрировать на том огонь сверхтяжёлой артиллерии. Причина его раздражения выявляется из его вызова мнимому Иову:
Взгляни на всех высокомерных, и унизь их,
и сокруши нечестивых на местах их.
Зарой всех их в землю,
и лица их покрой тьмою.
Тогда и Я признаю,
что десница твоя может спасать тебя. [XVIII]
Иов получает вызов, как если бы был богом. Но в тогдашней метафизике не было никакого deyteros theos, второго бога, за исключением Сатаны, который владеет слухом Яхве и может оказывать на него влияние. Он — единственный, кто в состоянии его ошарашить, запутать и довести до крупномасштабных прегрешений перед собственным уголовным законодательством.
Вот это действительно страшный противник, настолько компрометирующий своим близким родством, что необходимо держать его в строжайшей тайне! Яхве должен прятать его в лоне своём от собственного сознания, а несчастного раба Божия выставить зато в виде враждебного жупела [15] — в надежде покрыть пугающие «лица их тьмою», дабы удержать себя в состоянии бессознательности.
Организация воображаемого единоборства, сказанные при этом речи и впечатляющая демонстрация первобытного зверинца, получили бы, пожалуй, неполное объяснение, если бы были сведены только к негативному фактору боязни перед осознаниванием и соответствующему следствию — релятивизации. Конфликт становится для Яхве животрепещущим, скорее, вследствие некоего нового факта, разумеется, не укрывшегося от всеведения. Однако в данном случае это имеющееся знание не приводит ни к каким выводам. Тот новый факт, о котором идёт речь, касается доселе неслыханного в мире прецедента, состоящего в том, что какой-то смертный благодаря своему моральному поведению, сам того не желая и о том не ведая, вознёсся выше небес и оттуда смог разглядеть даже изнанку Яхве — бездонный мир «оболочек» [16].
Понимает ли Иов, что открылось его взору? Он достаточно мудр или умудрён опытом, чтобы не выдать этого. А его слова дают основание для любых догадок: «Знаю, что Ты всё можешь, и что намерение Твоё не может быть остановлено» [XIX].
И впрямь, Яхве может всё, да и просто позволяет себе всё, и глазом не моргнув. Он без зазрения совести может проецировать свою теневую сторону и оставаться бессознательным за счёт человека. Он может кичиться своим сверхмогуществом и издавать законы, которые для него самого не более чем пустой звук. Убить или зашибить до смерти ему ничего не стоит, а уж если нападёт блажь, то он, словно феодальный сеньор, может даже и возместить своим крепостным ущерб, нанесённый их нивам псовой травлей: «Ах, ты потерял сыновей, дочерей и рабов? Не беда, я дам тебе других, получше».
Иов продолжает (вероятно, с потупленным взором и едва внятно):
Кто сей, помрачающий Провидение, ничего не разумея? -
Так я говорил о том, чего не разумел,
о делах чудных для меня, которых я не знал.
Выслушай, взывал я, и я буду говорить,
и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне.
Я слышал о Тебе слухом уха;
теперь же мои глаза видят Тебя;
Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь
Здесь Иов умно соглашается с агрессивными словами Яхве и тем самым падает перед ним ниц, как если бы он действительно был побеждённым противником. Его речь звучит недвусмысленно, но вполне могла бы иметь и второй смысл. О да, свой урок он и впрямь получил — и пережил «дела чудные», понять которые не так-то просто. Действительно, он знал Яхве только «слухом уха», а теперь познал его на деле — и больше, нежели Давид; урок поистине столь впечатляющий, что забыть его просто невозможно. Прежде он был наивен, может быть, даже представляя себе «милосердного» Господа благосклонным владыкой и судией праведным, воображал, будто «завет» — это предмет права, а договаривающаяся сторона вправе настаивать на полагающемся ей по закону; будто Бог крепок в истине и верен или хотя бы праведен и, как позволяет думать Десятословие, признаёт определённые этические ценности или, по крайней мере, чувствует себя связанным своим правовым состоянием. Однако к своему ужасу он обнаружил, что Яхве не только не человек, но в известном смысле что-то меньшее человека, а именно то, что Яхве говорит о крокодиле: «На всё высокое смотрит смело; он царь над всеми сынами гордости» [XXI].
Бессознательность естественна для животного. Как и у всех древних богов, у Яхве есть своя животная символика, притом неприкрыто опирающаяся на гораздо более древние териоморфные фигуры богов Египта, особенно Гора и четверых его сыновей. Из четырёх «животных» Яхве только одно имеет вид человека. Видение Иезекииля приписывает Богу в образе животных три четверти звериного и лишь четверть человеческого, а «верхний» Бог — тот, что на престоле из сапфира, — выглядит только подобным человеку [XXII]. Эта символика делает понятным невыносимое с человеческой точки зрения поведение Яхве. Его поступки принадлежат существу по большей части бессознательному, не подлежащему моральным оценкам: Яхве — некий феномен, а «не человек» [17].
Ничто не мешает предположить в речи Иова подобное содержание. Как бы там ни было, во всяком случае, Яхве в конце концов успокоился. Ещё раз подтвердилась действенность терапевтической процедуры безропотного приятия. Но в отношении Яхве к друзьям Иова все ещё сквозит что-то нервозное: они неверно говорили о нём в конце [XXIII]. Таким образом, проекция фигуры скептика распространяется — надо сказать, весьма комически — даже на этих честных и несколько ограниченных мужей, как будто от того, что они думают, зависит бог весть что. Однако то, что они могли бы думать, а тем более о нём, жутко нервирует и должно быть как-то прекращено. Ведь это слишком уж похоже на то, что частенько вдруг выделывает его беспутно шатающийся сын и что столь неприятно затрагивает больное место в нём самом. Как часто уже ему приходилось сожалеть о своих неразумных порывах!
Трудно избежать впечатления, что всеведение постепенно близится к некоему решению, и брезжит прозрение, вокруг коего, кажется, витают призраки самоистребления. Правда, заключительное выступление Иова, к счастью, сформулировано так, что с достаточной уверенностью позволяет надеяться: для всех участников инцидент окончательно исчерпан.
Мы, поясняющий хор великой трагедии, которая ещё ни в одну эпоху не утрачивала своей актуальности, конечно, воспринимаем вещи не совсем так. Нам, с нашим современным строем чувств, вовсе не кажется, будто глубокое преклонение Иова перед всемогуществом Божьего присутствия и его мудрое молчание — это и есть настоящий ответ на вопрос, подброшенный сатанинской проделкой для пари с Богом. Иов не столько отвечал, сколько адекватно реагировал, обнаружив при этом изумительное самообладание: однако недвусмысленный ответ так и не прозвучал.
А что же (если подойти ближе к делу) с той моральной несправедливостью, которую претерпел Иов? Или человек в глазах Яхве столь ничтожен, что не достоин даже какого-нибудь «морального ущерба»? Это противоречило бы тому факту, что Яхве жаждет человека и что для него это откровенно означает ответ на вопрос о том, «праведно» ли говорят о нём люди. Он цепляется за лояльность Иова, от которой для него зависит столь многое, что ради своего теста он не остановится ни перед чем. Такая установка придаёт человеку чуть ли не божественный вес, ибо, что иное во всём белом свете может что-то значить для того, у кого и так всё есть? Противоречивое поведение Яхве, с одной стороны, бесцеремонно растаптывающего человеческое счастье и жизнь, но, с другой стороны, жаждущего иметь в лице человека партнёра, ставит последнего в прямо-таки невозможную ситуацию: то Яхве слепо действует по образцу природных катаклизмов и тому подобных непредвиденных по последствиям событий, то желает, чтобы его любили, почитали, поклонялись ему и славословили его праведность. Он болезненно реагирует на любое словечко, хотя бы отдалённо похожее на критику, а сам нимало не озабочен собственным моральным кодексом, когда его поступки входят в противоречие с параграфами этого кодекса.
Такому Богу человек может служить только в страхе и трепете, косвенно стараясь умилостивить абсолютного владыку крупномасштабными славословиями и показным смирением. Доверительные же отношения, по современным понятиям, совершенно исключены. Ожидать морального удовлетворения со стороны столь бессознательного, принадлежащего природе существа и вовсе не приходится, хотя Иову такое удовлетворение даётся — правда, без сознательного желания Яхве, а, может быть, и неведомо для Иова, — по крайней мере, такое впечатление хотел бы внушить рассказчик. Речи Яхве неотрефлектированно, но, тем не менее, явственно нацелены на одно: продемонстрировать человеку, что на стороне Демиурга чудовищный перевес в силах. «Вот Я, Творец всех необузданных, слепых сил природы, не подчинённых никаким этическим законам, — а значит, Я и сам есмь аморальная власть природы, чисто феноменальная личность, не ведающая о своих глубинах».
Это и есть для Иова моральное удовлетворение большого размаха, по меньшей мере, оно могло бы им быть, — ведь благодаря такому заявлению человек, несмотря на своё бессилие, возвышается до суда над Божеством. Мы не знаем, понял ли это Иов. Однако по многочисленным комментариям на «Иова» мы определённо знаем: от всех прошедших столетий укрылось, что над Яхве властвует какая-то moira [18] или dice [19], побуждающая его столь серьёзно уронить себя. Всякий, кто на это отважится, увидит, как Он вчуже [20] возвышает Иова именно тем, что втаптывает его в прах. Тем самым Он произносит приговор над самим собой и даёт человеку то удовлетворение, отсутствие которого в «Книге Иова» всегда было для нас столь обидно.
Автор этой драмы дал образец искусного умолчания, опустив занавес в тот самый момент, когда его герой при помощи челобития в адрес Божьего величия даёт понять о безусловном признании «высокого приговора» Демиурга. Только такое впечатление и остаётся от этой сцены. Ведь на кон поставлено слишком многое: незаурядный скандал грозит разразиться в метафизике, скандал, последствия коего были бы, надо полагать, губительны, и наготове нет никакой спасительной формулы, избавляющей монотеистическое понятие Бога от катастрофы. Это биографическое новоприобретение критический рассудок некоего грека с лёгкостью подхватил и использовал бы ещё тогда (что, правда, много позже и произошло) [21] не в пользу Яхве, дабы уготовить ему судьбу, тогда уже ожидавшую греческих богов. Какая-либо релятивизация же была попросту немыслимой ни в те времена, ни в два последующих тысячелетия.
Бессознательный дух человека понимает правильно, даже когда сознающий разум ослеплён и бессилен: драма разыграна на все времена, двойственная природа Яхве раскрыта и увидена и зарегистрирована кем-то или чем-то. Подобное откровение, дошло ли оно уже до человеческого сознания или нет, не могло остаться без последствий.