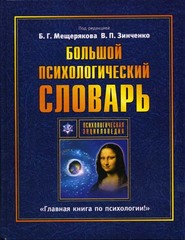КОРОЛИ И КАПУСТА
Р
ибо, не избежавший влияния Геринга, сказал, что память это, по существу, биологический факт, а психологическим он стал случайно. Ни одному человеку, знакомому с историей собственного вида, не придет в голову оспаривать это утверждение. И, однако, лишь изучение этой «случайности» приближает исследователей к пониманию как психологической, так и общебиологической сущности памяти, что и блестяще продемонстрировал сам Рибо в своей классической работе «Память в ее нормальном и болезненном состоянии».
Покуда психология не выделилась из философии в самостоятельную науку, упомянутой «случайностью» интересовались действительно от случая к случаю, а главное, редко считали ее достойной пристального внимания. Декарт, например, относился к памяти с недоверием и в решении научных задач советовал полагаться не на нее, а на интуицию, то есть на непосредственное усмотрение. Спиноза, ограничившись афоризмом «память есть намерение», предпочел заняться эмоциями. Недалеко от них ушел и Кант. Будучи человеком педантичным, он, взявшись писать свою «Антропологию», не мог, конечно, обойти в ней память молчанием и даже поделил ее на виды. Однако он был убежден, что память и мышление состоят в весьма отдаленном родстве, а посему, обрушившись с нападками на мнемотехнику, заявил, что ни в грош не ставит тех, кто «хранит в голове груз книг на сто верблюдов», но зато лишен «способности суждения». Однако всех превзошел Мальбранш, заметивший небрежно, что останавливаться на объяснении памяти нет нужды, ибо каждый, кто не поскупится на некоторое усилие ума, может сделать это сам. Чисто французское легкомыслие!
Как нам известно, с должным почтением к памяти отнесся Платон. Но даже для Платона, выдвинувшего гипотезу о следах-отпечатках, память была лишь поводом порассуждать о других вещах. Поэтому первым исследователем памяти, занимавшимся ею ради ее самой, мы обязаны назвать не Платона, а Аристотеля, автора специального трактата «О памяти и воспоминании». Как явствует из названия этого сочинения, Аристотель считал, что память и припоминание это не одно и то же. Первое есть то, что мы вспоминаем, а именно прежнее знание или ощущение, второе же есть возвращение этого знания или ощущения, вызванное усилием нашего разума. Память, таким образом, следует за припоминанием, за движением души. Движениям же свойственно переходить от одного к другому, образуя привычные последовательности, а поэтому «легче всего вспоминать вещи, находящиеся в определенном порядке, как, например, в математике». Так Аристотель стал если и не автором первой теории памяти, то уж во всяком случае основателем учения об ассоциациях — о связях, которые помогают нам вспоминать и могут быть весьма причудливыми. Хуже всего, по мнению Аристотеля, вспоминаются имена, так как они не входят ни в какую последовательность (приказчик из «Лошадиной фамилии» подтвердил бы это положа руку на сердце). Вольное или невольное обращение к ассоциациям и другие способы припоминания делают его рассуждением, силлогизмом. А так как рассуждать умеет только человек, животные, хотя и не лишены памяти, припоминать должны как-нибудь иначе.
После Аристотеля разговоры о памяти умолкают надолго. Для неоплатоников и философов средневековья память служила все тем же доказательством предсуществования души. Проблема памяти возродилась только в XVIII веке, да и то не сама по себе, а в связи с пробудившимся интересом к законам мышления и к природе разума.
XVIII век мало интересовался бессмертием души. XVIII век составлял энциклопедии и писал научные трактаты. Один из них, «Трактат о человеческой природе», мы уже цитировали, теперь нам снова придется обратиться к нему. Как создателя его, Юма, так и всех соратников его по эмпиризму и сенсуализму, в проблеме памяти больше всего занимали законы ассоциаций, на существование которых намекнул им Аристотель. И Юм сформулировал их, сказав, что «качеств, из которых возникают ассоциации и с помощью которых ум переходит от одной идеи к другой, всего три: сходство, совпадение по времени или месту, причина и следствие». Законы эти потом видоизменялись: автор одного трактата сокращал их перечень, автор другого, напротив, удлинял его, добавляя к «первичным» законам «вторичные». Но существо дела от этого не менялось. Будучи условиями лучшего запоминания, или, скорее, «вспоминания», законы эти для их создателей являлись врожденными свойствами психики, чем-то вроде свойств сократова воска. «Очевидно,- писал Юм,- что память стремится сохранить ту первоначальную форму, в которой ей были предъявлены предметы, а если при этом мы, вспоминая что-нибудь, и отклоняемся от нее, то это уже дефект или несовершенство наших способностей».
С идеей сохранения первоначальной формы перекликается и знаменитая мысль Томаса Гоббса: воспоминание- это ослабленное восприятие. Стоявший на уровне всех достижений науки, Гоббс выводил свою концепцию памяти не из чего-нибудь потустороннего и мистического, а из галиллеевой механики. Образ, запечатлевшийся в нашем сознании, постепенно утрачивает свою силу и отчетливость, вроде того, как ослабляется механическое движение после того, как прекращается вызвавшая его причина. Доказать свою гипотезу Гоббс не смог, он просто постулировал ее, но и этого оказалось достаточно, чтобы она прожила целый век. Что касается законов ассоциаций, то они легли в теоретическое основание первых психологических экспериментов и стали знаменем первой крупной школы европейских психологов. Зачинатель этих экспериментов, Герман Эббингхауз, опираясь на законы ассоциаций, дал в 1885 г. следующее определение памяти: «Если какие-либо психологические образования однажды заполняли сознание одновременно или в близкой последовательности, то затем возвращение некоторых членов прежнего переживания вызывает и представление об остальных членах, причем нет нужды в том, чтобы были налицо первоначальные причины… Общую способность души к этому и называют памятью».
На первый взгляд в этой формулировке нет ничего нового. Тут и отмеченная Аристотелем последовательность, и знакомая нам, по Земону, необязательность первоначальных причин, и столь любезная эмпирикам ассоциация по смежности. Но все это, вместе взятое, обнаруживает роковую тенденцию, обусловившую как первоначальный успех ассоциационизма, так и его неудачи. Вспомним теорию ослабленного восприятия и попытаемся сообразить, что мы предпринимаем, когда намереваемся что-нибудь запомнить. Если перед нами, допустим, материал учебного характера, вроде глав из учебника или нескольких брошюр на одну тему, словом, нечто такое, что следует хорошенько запомнить и уметь потом «излагать своими словами», мы, по-видимому, проанализируем сначала весь этот материал, затем сопоставим его части, выделим главное и отодвинем в сторону второстепенное; и вот мало-помалу материал свертывается, сокращается, и в конце концов от него остается самая общая схема — плотный клубок связей, который можно погом размотать и все детали развернуть вновь. Такие клубки можно назвать самыми емкими единицами памяти. Великолепный пример клубка-схемы мы находим в «Лекциях по физике» американского физика Ричарда Фейнмана. «Если бы в результате какой-нибудь мировой катастрофы,- пишет он,- все накопленные научные знания оказались бы уничтоженными и к грядущим поколениям перешла бы только одна фраза, то какое утверждение, составленное из наименьшего количества слов, принесло бы наибольшую информацию? Я считаю, что это атомная гипотеза… Все тела состоят из атомов — маленьких телец, которые находятся в беспрерывном движении, притягиваются на небольшом расстоянии, но отталкиваются, если одно из них плотнее прижать к другому. В одной этой фразе… содержится невероятное количество информации о мире, стоит лишь приложить к ней немного воображения и чуть-чуть сообразительности».
Фейнман, я думаю, нисколько не преувеличивает. И заметьте: он взывает не к вашей памяти, а к вашему воображению и сообразительности. Но если у вас еще и блестящая память и завидное терпение, о котором Фейнман позабыл совершенно напрасно, вам удастся размотать из его фразы целый учебник по физике. Конечно, никто не в состоянии воспроизвести учебник слово в слово. Непосредственная, механическая память может воспроизвести то же самое, что и запомнила, буквально, если ее обладатель эйдетик или если он задавался целью выучить что-нибудь наизусть. Но если ни того, ни другого не было, то память, на сей раз опосредствованная, даст не копию, а смысл, воспроизведет материал «своими словами». В пей закрепляются не чувственные образы, а представления и понятия. Атомы Фейнмана вовсе не копии тех атомов, чьи образы он запоминал, изучая физику: «тельца», о которых он говорит, чистая условность; это образ, который он сконструировал сам, на основе представлений не столько об атомах, сколько о методах популяризации и о неосведомленности тех грядущих поколений, до которых дойдет всего одна атомная гипотеза. Ни представление об атоме, ни представление о любой другой, самой простой вещи, вроде стола или стула, не является «ослабленным» чувственным образом этой вещи. Во всяком представлении мы найдем и фрагменты наглядных образов аналогичных вещей, и понятие об их назначении и свойствах, и намек на их место в их «семействе», и те личные ассоциации, которые вызывает у нас представление о вещи или звучание обозначающего ее слова. Представление опирается на сложную и разветвленную систему ассоциаций. Это маленький синтез связей, образующийся под влиянием множества обстоятельств, куда входят особенности нашего восприятия, воображение и, конечно, весь жизненный опыт.
Итак, не ослабленное впечатление, а сплетение ассоциативных связей. Юм назвал три их вида. Большинство психологов тоже склонялось к трем видам; популярной была, например, такая комбинация: ассоциации по смежности занимали первое место, ассоциации по сходству второе, а на.третье ставились ассоциации по контрасту (одно впечатление вызывает в сознании нечто противоположное). Ассоциации по смежности самые простые; часто у людей они совпадают, что, несомненно, указывает на их шаблонность. Когда Шерлок Холмс развлекается отгадыванием мыслей своего друга Ватсона, он обыкновенно строит цепочку ассоциаций по смежности. Искусство это постичь не так уж трудно. Вы гуляете с приятелем, беседуя о том, о сем; тема исчерпана; вы идете молча, предоставив мыслям течь как им вздумается; но вот ваш приятель возобновляет разговор, вы же с удивлением восклицаете: «Я как раз думал о том же самом! Телепатия!» Увы, опять не она! Когда вам представится подобный случай, попытайтесь сразу же вспомнить, на чем вы прервали беседу и что попадалось вам на пути, и в вашем сознании сразу же оживут звенья ассоциативной цепочки, которая удлинялась и удлинялась себе, пока ваша мысль блуждала без цели, перескакивая с одного на другое.
Ассоциации по сходству сложнее, восстановить их трудно, предсказать почти невозможно. Они субъективны, ~ на них явственно проступает отпечаток личности. Оттого и неповторима и вечно свежа истинная поэзия, что основу ее выразительности составляют ассоциации по неожиданному сходству, которого мы с вами, говоря и думая прозою, не замечаем, но замечает поэт: «Как будто бы железом, обмакнутым в сурьму, тебя вели нарезом по сердцу моему». Всему дана двойная честь, но каждый истолковывает ее по-своему, ибо у каждого своя судьба и свое восприятие радостей и горестей жизни. Гейне писал, что в сердце у него зубная боль («Это скверная боль, и от нее очень хорошо исцеляет свинец с тем зубным порошком, который изобретен Бертольдом Шварцем») и что мир раскололся пополам и трещина прошла через сердце поэта. Интересно, по какой ассоциации я вспомнил после пастернаковского нареза сердечные дела Гейне — по смежности или по контрасту? Наверно, по той и по другой вместе. Но отчего, когда мне захотелось привести пример ассоциации по сходству, в моем сердце прозвучал ритм пастернаковского нареза, а не что-нибудь величавое, вроде «Роняет лес багряный свой убор»? Скорее всего оттого, что чай, которого я напился перед тем, как пуститься в рассуждение об ассоциациях, был слишком крепок, и сердце мое перепрыгнуло с пятистопного ямба на трехстопный. Но ведь трехстопный пущен в обиход не Пастернаком, а Пушкиным, Пушкину бы первому и в голову приходить: «Подруга думы праздной, чернильница моя; мой век разнообразный тобой украсил я». Разрешите-ка эту загадку, мистер Холмс! Что же вы молчите и не замечаете даже, что трубка ваша потухла? О, я-то знаю, почему вы молчите. Ассоциации захватили власть и над вами, и вам вспомнилось то единственное поражение, которое вы потерпели, когда попытались спасти честь короля Богемии, потерпели от единственной женщины в мире, которую звали Ирена Адлер. Ах, мистер Холмс, право, не стоит вспоминать об этом, король давно умер, а золотистая пани Ирена вышла замуж за избранника своего сердца, и никто не знает, что с ней сталось потом. «Поговорим лучше о других вещах, о венках невест, о маскарадных балах, о веселье и свадебных пирах»,- как говорит Гейне, заключая свою главу о зубной боли. Кстати, вам не кажется, что эта фраза напоминает кое-что из кэрроловского разговора Моржа и Плотника, который вдохновил ОТенри на «Королей и капусту»? Все на свете что-нибудь да напоминает. Когда я читал «Книгу Ле Гран», меня не покидало ощущение, что Гейне подражает в ней, сам того не замечая, вашему, мистер Холмс, великому соотечественнику Лоренсу Стерну. Вот уж кто был великий знаток ассоциаций, так это его преподобие мистер Стерн. С первых же строк «Тристрама Шенди» он прямо-таки глумится над учением об ассоциациях, над которым так добросовестно трудились Юм и Локк. Я убежден, что профессор Эббингхауз не читал Стерна, по чистой, разумеется, случайности. Иначе он никогда бы не рискнул утверждать, что память проистекает от одних ассоциаций по смежности. Ведь именно их-то и поднимает на смех Стерн, и именно их берет в расчет профессор Эббингхауз и больше никаких других замечать не желает. Говорят, впрочем, что сам-то он их замечал, а не замечать решили его последователи. Так, наверное, и было, потому что так всегда и бывает.
Как бы там ни было, ассоциационистская психология конца XIX — начала XX века все ассоциации, какие есть, стала сводить к ассоциациям по смежности, а к этим последним — все процессы памяти. Ассоциационисты размышляли и о следах-отпечатках, что было не удивительно, так как еще Юм пытался рассуждать о них. Юм говорил, что внешние впечатления должны закрепляться в нервных клетках. Как именно закрепляться, он, конечно, судить не брался. Того же мнения держался спустя сто лет и Рибо. В его время этих клеток насчитывали уже никак не меньше миллиарда, но на Рибо производила впечатление не эта цифра, а то совершенно немыслимое число, которое может получиться из всех возможных сочетаний клеток. Одна клетка подобна букве, говорил он, а из букв надо еще сложить весь наш жизненный текст. Вот он и складывается из связывающихся друг с другом клеток, образующих динамические ансамбли, динамические потому, что они не могут быть чем-то застывшим, они беспрерывно обновляются, меняют свою форму и, оживляясь, преподносят нашему сознанию запечатленные в своих связях образы и идеи. Ассоциационистов эта гипотеза не увлекла. Им физиологический механизм ассоциаций представлялся как проторение нервных путей следами памяти, но то были уже не анатомические, а скорее функциональные следы. Проторение же зависело лишь от числа повторений. Ассоциационисты называли их моторными навыками. Никакой особой беды в гипотезе навыков не было бы, если бы в соединении с гипотезой о существовании только одних ассоциаций по смежности, самых непроизвольных и механических из всех, она оставляла место всему разнообразию психических функций и не вела бы прямехонько к одному только условному рефлексу, сосредоточивая на нем все помыслы психологов и физиологов, интересовавшихся природой памяти. Условный рефлекс был изучен вдоль и поперек, и в том немалая заслуга ассоциационистов. Но не сошелся же свет клином на одном условном рефлексе. В этом смысле клеточные ансамбли Рибо, тоже, конечно, гипотетические, оставляли больше простору для размышления над различными нюансами душевной жизни.
Ассоциационистам возражали. Ассоциации по смежности, говорили им, столь родственные рефлексам, хороши лишь для механической памяти. А где же цели, мотивы, понимание? Многого ли можно добиться одним повторением? Смешно, конечно, отрицать роль ассоциаций: они помогают нам припоминать забытое. Но ведь у нас есть намерения, есть ум. Он комбинирует и выбирает, окончательное решение принадлежит ему. Захотелось нам порассуждать о тех же ассоциациях в манере Генриха Гейне, и ум отвел нам на это удовольствие, которое можно растянуть до бесконечности, две страницы и не разрешил ни на йоту отклониться от темы. Как справедливо сказал А. Н. Леонтьев в своей книге «Развитие памяти», есть принципиальная разница между «мне вспомнилось» и «я вспоминаю». В первом случае наша мысль покорно следует за ассоциациями, во втором ассоциации следуют за мыслью. После долгих дискуссий ассоциации по смежности потеснились и уступили место всем прочим ассоциациям, которые были обнаружены за двести лет. Самое же почетное место было отведено ассоциациям словесно-логическим, смысловым, которые, как решили психологи, и определяют собой специфику человеческого мышления и человеческой памяти, направляя их на уловление связи вещей, разумное предвидение и творческие акты во всех сферах жизни. Перелом этот наметился к началу XX столетия и завершился в 30-х годах. К тому же времени у психологов сложилось и общее представление о процессах воспроизведения,