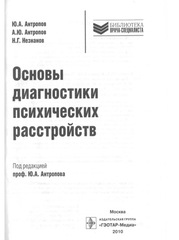ЧАСТЬ I. КЛИНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ШИЗОИДНОЙ ЛИЧНОСТИ
Стадии психоаналитической теории
Винникотт приводит случай пациента-мужчины, для которого интерпретации в понятиях каких-либо вторичных феноменов не «вели к изменениям». Он мог видеть в них реальное зерно, но они не приводили ни к какому изменению. Однако интерпретации, которые основывались на потребности и борьбе эго за обретение чувства реальности, надежного продолжающегося «бытия», сразу же вызвали отклик. Психоаналитический круг обретал свой центр. Здесь мы имеем дело с универсальной проблемой всех людей, отличающейся степенью проявления. Тема бисексуальности, представление о том, что как у мужчин, так и у женщин обычно имеются и мужские и женские элементы, каждый из которых нуждается в соответствующем развитии и интеграции друг с другом, совместно с тем особым значением, которое Винникотт придает этим элементам, имеет отношение к подлинной природе индивидуальной личности, к базисному «эго» как таковому и к тому, что входит в его становление. В вышеприведенном случае решающая интерпретация привела анализ в эту область. Винникотт говорит:
«Теперь мы можем объяснить, почему мои интерпретации использования объекта, оральных эротических удовлетворений в переносе, оральных садистических идей... никогда не вели к изменениям. Они принимались, но — что с этого? Теперь, когда была достигнута новая точка зрения, пациент испытывал чувство связи со мной, и оно было крайне ярким. Оно было связано с идентичностью (курсив мой. — Г.)».
Речь идет о самом центре концентрических кругов психоаналитической теории и терапии: можно говорить о пяти концентрических кругах с общим центром. Наиболее удаленным от центра кругом является жизнь индивида как члена социального мира. Отсюда исследование переходит к его способностям установления человеческих взаимоотношений, сформировавшимся в ходе переживаний его детства, затем исследуются проблемы личностного заболевания вначале на невротическом, а затем на психотическом уровне. Это подводит нас к сердцевине тех острых затруднений, с которыми сталкивается младенец в первые годы жизни, и отсюда, к центру всех этих кругов, к абсолютным началам эго-идентичности в младенчестве. Эти пять концентрических кругов с их центром могут быть изложены как шесть стадий, начинающихся с последнего и постепенно продвигающихся к самому раннему.
Фрейд, Мелани Кляйн:
(1) Индивид в обществе, объектные отношения в реальной жизни, с различными степенями приспособления, в том числе с плохим приспособлением, и не слишком серьезный невроз характера и психоневротические симптомы. Человеческая жизнь в целом, как мы ее видим и оцениваем внешне, справляясь с ней скорее практически, нежели слишком глубоко уходя в ее тревоги и напряжение.
(2) Эдиповы проблемы, движение от повседневных взаимоотношений людей друг с другом, к эмоциональным способностям индивида к объектным отношениям, ограниченным семейной обстановкой и связями родителей и сиблингов; здоровое нормальное эдипальное развитие; патологические эдипальные паттерны, вросшие в структуру эмоциональной личности и действующие во внешнем мире.
(3) Заболевание индивида, провал борьбы за функционирование в обществе, за сохранение достаточно хороших объектных связей и за противостояние давлению реальной жизни, когда оно накладывается на патологические паттерны укоренившихся напряжений в бессознательном.
(а)
Состояния психоневротической тревоги по поводу сексуальных и агрессивных антисоциальных импульсов с их соматическими резонансами.
Амбивалентность, конфликты любви—ненависти, вины и депрессии, примитивная жестокость, страх деструктивности и потребность в репарации, маниакально-депрессивные колебания настроения еще не психотической интенсивности. Неврозы переноса, истерия, обсессии, фобии, параноидальные отношения в неврозе.
(1), (2) и (3) являются преимущественно сферой Фрейда, принимая во внимание тот факт, что, начиная с 1920 г., его мышление все в большей мере вращалось вокруг анализа эго, того аспекта его теории, который столь полно развил Хартманн. В (3), однако, работа Мелани Кляйн начинает выходить за пределы работы Фрейда.
(4)
Более глубокий уровень болезни, борьба за обладание
(а)
Исследование самых ранних стадий развития эго ранней инфантильной тревоги и инфантильных начал психоза. Депрессивная и параноидальная позиции в развитии, внутренние объекты и объектные расщепления, фантазийный «внутренний мир».
Это основной оригинальный кляйнианский вклад.
Фэйрберн:
(б) Шизоидные проблемы, отчуждение от реальных объектных связей и уход к жизни в скрытом внутреннем фантазийном мире. Эго-расщепления, соответствующие объектным расщеплениям. Это в особенности сфера Фэйрберна. Изоляция шизоидного эго в бессознательном, О «подлинная самость в морозильнике» Винникотта, мое развитие теории Фэйрберна до включения расщепления в инфантильном либидинальном эго, приводящего к регрессировавшему эго.
В этом месте мы должны отметить, что работа Мелани Кляйн выросла из анализа маленьких детей в целом, а работа Фэйрберна — из анализа шизоидных взрослых в свете открытий Мелани Кляйн. Все эти исследования все далее и далее продвигались вглубь к самому раннему младенчеству. В этой области работали много исследователей, но для дальнейших стадий, обозначенных номерами (5) и (6), работа Винникотта о самых ранних взаимоотношениях «мать—ребенок» представляется породившей те идеи, которые стали ключевыми для понимания этих глубочайших уровней психической жизни.
Виннекотт:
(5) Начала эго. Дифференциация субъекта и объекта из состояния первичной идентификации, стимулирующая начала специфического развития эго. Рост базисной взаимосвязи эго и вместе с ним способности как вступать в объектные связи, так и быть одному, без тревоги и чувства опасности. Трудности на этой стадии, до того как эго становится крепко консолидированным, будут затем приводить к объектному расщеплению и эго-расщеплению, как они изучались Кляйн и Фэйрберном.
(6) До обретения дифференцированного эго абсолютное начало эго, по сути, в объектной связи, к которой младенец пока еще не может относиться как к объектной связи, но которую может переживать (на утонченном языке взрослых) как симбиоз, идентичность (в благоприятных случаях) со стабильным объектом, достаточно хорошей матерью; делая возможными начала переживания «бытия», или «безопасности» и «самоидентичности». Хорошая мать создает максимум защиты от тревоги. Иногда говорят, что плохой объектный опыт становится первым могущественным стимулом для дифференциации отдельного эго. Если бы это было так, эго не могло бы иметь ничего иного, кроме тревожной основы. Чтобы быть способным к развитию до полной зрелости, эго должно начинать дифференцироваться на основе базисного переживания полной безопасности во взаимном отождествлении матери и младенца. Первичная идентификация является взаимоотношением с субъективным объектом, переживанием, в котором для младенца субъект и объект все еще являются одним целым (в его опыте).
Эта стадия (6), центр пяти концентрических кругов, различаемых в теории, позволяет возникнуть стадии 5 первой ясно определимой фазы развития «объективного объекта» (объекта, четко выделяемого во внешнем мире) и «объективного субъекта» (установившегося Я), т.е. специфического эго.
Стадия (5) описана в трудах Винникотта: в главах 1, 2 и 4 работы «Семья и индивидуальное развитие» (в особенности во второй главе «Начальная связь матери со своим младенцем») и в главах 2, 3, 4 и 17 книги «Процессы созревания и помогающее окружение» (в особенности во второй главе «Способность быть одному»). Три цитаты будут достаточны:
«Незрелость эго естественно уравновешивается эго-поддержкой от матери» (р. 32).
«Материнское эго восполняет младенческое эго и поэтому делает его могущественным и стабильным» (р. 41).
«Является ли эго (младенца) сильным или слабым? Ответ зависит от матери и ее способности действовать в соответствии с абсолютной зависимостью младенца на той стадии, когда младенец еще не отделяет мать от своей самости» (р. 57).
Последняя цитата возвращает нас к стадии (6); и в главе «Коммуникация и отсутствие коммуникации» говорится об абсолютном начале эго, о «первичной материнской озабоченности» и «первичной идентификации» младенца с матерью. Статья Винникотта о бисексуальности также возвращает нас к этой отправной точке, и в особенности его взгляд на природу «женского элемента», к которому мы сейчас обратимся.
Психика, эго и переживание бытия
Приняв точку зрения о том, что человеческая природа является конституционально бисексуальной, Винникотт хочет выяснить, что это значит, пытаясь выделить «чистый мужской элемент» и «чистый женский элемент» в нашей конституции. Он высказывает предположение, что природа мужского элемента выражена в «делании», а природа женского элемента — в переживании «бытия», которое, как он считает, всегда передается матерью. Эти термины: «делание» и «бытие» — требуют точного и тщательного определения, однако ясно, что способность к «деланию» должна основываться на предшествующей способности к «бытию», базисному переживанию безопасного, бестревожного «существования». Мы можем наблюдать в клинической практике у наших пациентов, что борьба за сохранение активности и «делания», когда индивид находится в тисках базисного чувства «не-бытия» и отсутствия уверенности в себе как в личности, неизбежно приводит к тяжелой тревоге и опасному напряжению. Достаточно стабильные взаимоотношения со стабильной матерью являются основой, через первичную идентификацию, появления переживаний безопасности, самости, идентичности, характерного начала эго, делая возможным, в свою очередь, рост объектных связей, по мере того, как продолжается дифференциация субъекта и объекта, и младенец приобретает «не-я» мир, и чувство, что он является «собой» отдельно от этого мира. До этого эго наличествует как потенциал, находящийся в скрытом состоянии в психике, тогда как младенец начинает жить как «целостное человеческое бытие» (Винникотт). Именно это имел в виду Фэйрберн, когда говорил о «первоначальном едином эго». Но лишь через такую разновидность опыта взаимодействия с матерью может зарождаться эго в качестве специфического развития, все более осознаваемого факта переживания (это не то же самое, что позднее развивающееся «самосознание»). При отсутствии такой разновидности связи «мать—младенец» не начинается развитие жизнеспособного эго, и возникающее в результате чувство глубинной внутренней пустоты, ничтожности, «не-бытия как личности» является тяжелейшей изо всех проблем для психотерапии; проблемой, которая может быть решена, лишь если понимание ее аналитиком приведет к связи пациента с ним, чтобы сделать возможным задержанный старт в развитии эго.
В свете всего этого термин Фэйрберна «первоначальное единое эго» следует, возможно, понимать как «первоначальную единую психику» с латентным эго-качеством, ибо по мере развития эго и психика могут не быть идентичными, хотя теоретически при совершенном развитии они были бы таковыми. Каждый аспект психики имеет эго-качество, однако первичная целостность психики утрачивается под тяжестью фрагментов расщепленного эго. Эго всегда является латентной возможностью и в действительности принадлежит к сущностной природе человеческой психики. Человеческая психика является зарождающимся эго, а если этого не происходит, она не будет человеческой. Именно это и хотел подчеркнуть Фэйрберн, говоря о «первоначальном едином эго». Весь психический опыт, каким бы он ни был неинтегрированным или дезинтегрированным, должен иметь некоторую степень эго-качества как опыт «субъекта». Именно «субъект» должен иметь опыт, пусть даже деперсонализации и дереализации. С другой стороны, человеческая психика не всегда развивает прочное эго и всегда, даже у очень зрелого человека, имеется некоторая степень расщепления эго и неудачи в достижении базисного единства и целостности психического развития. «Психика» принадлежит человеку как субъекту опыта, начиная с пренатального старта, происходящего раньше того времени, когда можно осмысленно применять термин «эго». Она включает в себя все его врожденные энергии, латентные способности и возможности (разум, таланты и т.д.). Если эго не формируется, человек с трудом продвигается «в своей жизни», чувствуя, что у его опыта нет должного центра и твердой основы; пытаясь стать «человеком» посредством «делания», посредством использования своих энергий и способностей, несмотря на отсутствие должного чувства бытия, целостной стабильной самости. В худшем случае он может стать психотиком, борющимся за достижение и сохранение некоторого подобия самости в своем внутреннем фантазийном мире. Где должно бы быть чувство «эго», есть лишь переживание неуверенности, «безразличия», «пустого места».
Эго изначально принадлежит субъекту, воспринимающему себя как «удовлетворенного в своем бытии», возможно, это реализация того, что Фрейд называл «принципом удовольствия», хотя это не единственная основа для роста чувства «эго-реальности». Этот рост начинается с чувства безопасности и наслаждения этим чувством, как частью общего переживания «бытия с матерью» до дифференциации субъекта и объекта. Эго является психикой, растущей к самореализации и идентичности, в опыте идентификации и эмоционального переживания, разделяемого с матерью. Это проявляется наиболее полно в отношении младенца к груди. Используя понятие «бисексуальности», включающее существование как мужских, так и женских элементов и у мужчин, и у женщин, Винникотт говорит о «женском элементе груди», который, предположительно, более всех других делает для младенца возможным переживание чувства «бытия», предшествующее «деланию». По контрасту, не очень заботливая, занятая, суетливая, доминирующая мать, которая определенно считает, что младенец должен «получать питание» в соответствии с распорядком ее собственных дел, будет снабжать младенца «псевдо-мужским элементом груди», занимаясь «деланием чего-то» для него. Мать, обеспечивающая хороший уход, которая понимает эмоциональные потребности своего малыша, особенно на самых ранних стадиях, может позволять ему сосать грудь и наслаждаться этим, исходя из его собственных потребностей, и может затем (что крайне важно) позволять ему мирно и спокойно засыпать у ее груди. Она дает ему «женский элемент груди», от которого он может испытывать совершенный покой безмятежного существования, «просто бытие». Это наиболее полное переживание безопасности, возможное в человеческой жизни. Если оно достаточно адекватно и повторяется достаточно длительное время, оно закладывает психические основы базисной внутренней силы эго-развития. Это переживание, которое мы можем выразить в простом утверждении «Я есть» или, возможно, «Я есть, потому что я чувствую себя в безопасности и реальным» (а не «Я делаю» или даже «Я думаю», ибо «думание» — это лишь психическая форма «делания»), хотя должно пройти длительное время, прежде чем подобное переживание может достигнуть такой ясности. Такова шестая, кратко обрисованная стадия, абсолютный старт эго.
Бисексуальность как «бытие» и «делание»
Теперь мы должны более подробно рассмотреть использование Винникоттом терминов «бытие» и «делание» для определения «женского» и «мужского» начал в человеческой природе. Здесь мы сталкиваемся с вопросами терминологии и концептуализации. Винникотт поднимает их, рассматривая случай пациента-мужчины, у которого он столкнулся с
«диссоциацией между мужским и тем аспектом личности, которым обладает противоположный пол. В случае этого пациента-мужчины такая диссоциация была почти полной».
Такая диссоциация может иметь место как у пациентов-мужчин, так и у пациенток-женщин, и Винникотт полагает, что этого глубокого уровня личности нелегко достичь посредством анализа. Он связан с
«проблемами, которые затрагивают самые глубокие или основополагающие черты личности»,
и лишь
«спустя длительное время пациент [становится] способен выносить [такие] глубоко запрятанные проблемы».
Развитие двух полов, мужского и женского, из первоначально лишенной пола формы жизни определенно вовлекало в себя не только разделение физических функций, но также до некоторой степени дифференциацию базисных эмоциональных способностей. Несколько лет тому назад был описан случай физического изменения пола женатым мужчиной, который уже был отцом; он стал женщиной и обнаружил, что выдающимся поворотным чувством в развитии нового, подобающего женщине самосознания было внезапное появление сильного материнского чувства к младенцам. На самом деле отцы могут испытывать подобное чувство, но мы вряд ли станем утверждать, что оно столь же сильное, как у матерей. Способности обоих полов присутствуют, даже если они не развиты идентичным образом, у обоих полов.
Об исследуемом случае Винникотт говорит:
«Имела место диссоциация [противоположного сексуального элемента]. Защита с помощью диссоциации уступала место принятию бисексуальности как качества единой или тотальной самости...
Я имел дело с тем, что может быть названо чисто женским элементом [то есть в мужчине]».
Он добавляет:
«В нашей теории необходимо допускать наличие как мужского, так и женского элемента и у мальчиков и мужчин, и у девочек и женщин. Эти элементы могут быть в сильной степени отщеплены... Мне хотелось бы сравнить и противопоставить чистые мужские и женские элементы в контекстах объектной связи».
Винникотт понимает, что смысл этих терминов еще не окончательно прояснен:
«Я буду продолжать использовать эту терминологию [мужской и женский элементы] на данное время, так как мне неизвестны никакие другие подходящие дескриптивные термины. Термины “активный” и “пассивный” определенно не подходят, и мы должны продолжать аргументированно использовать те термины, которые доступны».
Вытеснение, уход и диссоциация
Еще один понятийный вопрос представляется важным — смысл «диссоциации». Согласно Жане, диссоциация связана с расщеплением элементов в психике, недостаточно сильных для сохранения общей связи. Эта концепция была заменена динамической концепцией «вытеснения» Фрейда, активного выталкивания в бессознательное воспоминаний или импульсов, которые неприемлемы для сознательного эго. Вытеснение антисоциальных импульсов в случае вины как депрессивного феномена является как раз таким случаем и может быть противопоставлено «уходу», бегству внутрь части эго, которая чувствует себя слишком слабой, чтобы противостоять внешней реальности. Как регрессия, так и уход подразумевают уже сформированное и способное расщепляться эго. Возможно ли использовать термин «диссоциация» для обозначения «ухода» в отличие от вытеснения (во многом точно таким же образом, каким человек может «диссоциировать» себя от сообщества, утратившего его симпатию, т.е. уйти из членства в нем): или же «диссоциация» означает более примитивный феномен, некоторую конституциональную возможность, которая не учитывалась в начале процесса роста, нечто, находившееся в стороне, непробужденное, с самого начала блокированное, никогда не интегрированное или не имевшее шанса на развитие. В этом случае конституциональные мужской и женский элементы в психике не смогли объединиться друг с другом на ранних стадиях развития, так что результатом стала незавершенная самость. Винникотт рассматривает «диссоциацию» как нечто такое в конституции пациента, о чем он сам не знает; это находится вне диапазона опыта его эго, сознательного или бессознательного. Иногда это является чем-то таким, что аналитик должен увидеть за пациента. Это в первую очередь имеет отношение к непробужденному и неразвитому потенциалу в психике. «Ушедшее» или «регрессировавшее» либидинальное эго также находится в состоянии вытеснения. «Подлинная самость в холодильнике» могла бы, как это мне представляется, означать либо вытесненное регрессировавшее эго, либо диссоциированный непробужденный психический потенциал. В обоих случаях пациент утратил контакт со своими собственными потенциальными способностями, и мы должны помочь ему найти себя. Что касается обсуждаемого пациента, то лишь увиденный Винникоттом его отщепленный женский элемент (что пациент выражал на сессиях, не осознавая этого), позволил пациенту узнать себя в этом отношении. Он пишет:
«Чисто женский отщепленный элемент нашел со мной как с аналитиком первичное единство, и это породило у данного мужчины чувство, что он начал жить».
Мы можем видеть ушедшее эго и не развитые возможности как два различных уровня «диссоциации» и должны быть готовы находить оба эти уровня, первый из которых блокирует путь ко второму.
Затем, принимая винникоттовское утверждение, что женский элемент приносит опыт «бытия», а мужской — «делания», мне кажется, что в клинических случаях мы всегда находим диссоциированным женский элементу как у мужчину так и у женщин, и что фундаментальная диссоциация связана с женским элементом. Если «бытие» существует, «делание» будет естественно вытекать из бытия. Если «бытия» нет, оно диссоциировано, тогда вынужденная разновидность «делания» будет «выполнять свой долг» за них обоих, но там, где способность к «деланию» терпит полную неудачу, это обусловлено тем, что чувство «бытия» полностью отсутствует. Одна из женщин, выступавших в телевизионной программе на тему «Чувство принадлежности», заявила: «Я с головой погрузилась в брак и материнство и попыталась заменить бытие деланием». Именно «чувство бытия», женский элемент, либо никогда не был в ней пробужден, либо был утерян в процессе ухода и регрессии в бессознательные глубины, сердцевину ее либидинальной природы. Он остался диссоциированной возможностью, без чего любое интенсивное «делание» подобно постройке здания без какого-либо фундамента, на который можно опереться. Ее вынужденное, напряженное «делание» не было диссоциированным, за исключением того, что оно не было спонтанной деятельностью. Женский элемент наилучшим образом иллюстрируется материнским чувством, которое пробуждает и благоприятствует переживанию «бытия» у младенца как отправного пункта роста всей личности; способностью чувствовать совместно, а затем способность к сопереживанию, способность чувствовать себя «находящимся во взаимоотношениях», базисной взаимосвязью эго, ядром чего является чувство «бытия», без которого психика утрачивает весь смысл собственной реальности как эго. Человек не может «быть» кем-либо в вакууме. Развитие способности «быть» в опыте первичной связи с достаточно хорошей матерью будет спонтанно приводить к возникновению хорошей естественной способности «делания», к осуществлению действий, необходимых для сохранения взаимоотношений на практике. Переживание «бытия» будет сведено на нет, если оно не приведет к практическому «деланию». Переживание «делания» при отсутствии безопасного чувства «бытия» дегенерирует в бессмысленную последовательность каких-либо активностей (как при бессмысленном обсессивном повторении одной и той же мысли, слова или действия), выполняемых не ради достижения осмысленной цели, а ради бесплодного усилия «поддержания своего бытия», «производства» чувства «бытия», которым индивид не обладает.
Отсутствие или диссоциация переживания «бытия», и вместе с тем неспособность к здоровому естественному спонтанному «деланию» — это радикальный клинический феномен в анализе. Пациенты осознают, что они упорно работали всю свою жизнь, постоянно что-либо «делая» не естественно, а вынужденно, что породило иллюзорное чувство реальности своей личности, замену переживанию своей «сущности» здоровым и уверенным образом, и стало единственной основой уверенности почти у всех пациентов, жалующихся на отсутствие подлинного чувства реальности. Переживание «бытия» является чем-то большим, чем простое осознание «существования». Оно вовлекает в себя чувство надежной безопасности жизни, возникающее оттого, что человек знает себя как реальное лицо, способное устанавливать реальные связи. Переживание «бытия» является началом и основой осознания возможностей нашей «сырой» человеческой природы для развития себя как «личности» во взаимоотношениях. Эти возможности заложены в нашем психобиологическом наследии, но могут быть развиты лишь в том, что Винникотт называет «содействующим окружением» — адекватным материнским уходом на старте: так что переживания «бытия» и «бытия во взаимоотношениях» с самого начала нераздельны. Когда развивается это чувство «бытия», «делание» следует за ним как легкое и естественное самовыражение подлинного интереса. Если же чувства «бытия» нет, естественное «делание» не имеет места. Активность становится напряженной попыткой принудить не чувствующую себя в безопасности личность к продолжению «озабоченной» деятельности. Такая деятельность может стать маниакальной или обсессивно-компульсивной, ибо «психика» не может остановиться, расслабиться или отдохнуть из-за тайного страха распасться в несуществование. Именно способность индивида к переживанию чувства «бытия» диссоциируется, остается нереализованной на старте развития. Индивид не может чувствовать себя реальным, потому что на старте жизни никто не пробудил эту способность. Его мать дала ему так мало подлинной связи, что он в действительности стал чувствовать себя нереальным. Это проявляется с поразительной ясностью у тех пациентов, которые чувствуют себя настолько подорванными, что полагают, что никогда не будут достаточно сильными для того, чтобы справляться с жизнью.
Патологическое «бытие» и «делание» в качестве псевдо-женщины и псевдо-мужчины
Сделанное Винникоттом сопоставление «бытия и делания» с «чисто женским и мужским элементами» проясняется, если мы рассмотрим его патологические формы. Он считает термины «пассивный» и «активный» не подходящими для этих элементов, однако они связаны с ними значимым образом. Я буду говорить о «пассивности» и «вынужденной активности». Мы встречаем пациентов, колеблющихся между этими противоположными состояниями, когда интенсивно нагнетаемая сверхактивность распадается в пассивность, т.е. обусловленное страданием истощение. Мы можем относиться к этим состояниям как к патологическим формам мужского и женского элементов, ибо пациенты, действительно, часто считают, что «женственный» означает «слабость», а «маскулинный» — «агрессивную псевдо-силу». Так, пациент-холостяк на пятом десятке лет жизни сказал: «Я имел обыкновение постоянно суетиться при выполнении дел, подобно “светскому человеку”, копируя социальную роль своей матери, а за моим фасадом скрывалось чувство неуверенности в том, что я кем-либо являюсь». У него был уравновешенный, способный, однако непритязательный и скромный отец и доминирующая, социально успешная маниакально-депрессивная мать, которая «носила брюки». Родители наделили его инвертированным паттерном псевдо-женской и мужской ролей, в котором мать брала всю инициативу в свои руки, а отец, за исключением очень важных вопросов, уступал ей. Такая основа вряд ли может помочь ребенку развить здоровую личность. Сексуальные отличия предстают как взаимно исключающие противоположности и как традиционно обусловленная ролевая игра, а не как подлинные и базисные качества личности. Маскулинный и женственный воспринимаются как жесткость и мягкость, твердость и деликатность, сила и слабость, агрессивность и робость, вынужденная активность и пассивность, безотносительно к тому, какой пол проявляет эти черты. При такой ситуации нельзя понять мужские и женские элементы в личности как взаимно необходимые и дополняющие друг друга в ходе развития. В патологических формах псевдо-мужские отношения замещают как здоровое делание, так и здоровое бытие, в то время как псевдо-женские отношения пассивности или слабости по сути служат выражением не-бытия, в котором человек не играет никакой значимой роли. Если здоровый «женский элемент» диссоциирован, утрачивается также и здоровый «мужской» элемент.
Так, пациент-холостяк, которого я недавно упоминал, сказал: «В детстве я был маменькиным сынком, не играл в грубые игры, свойственные парням, и легко впадал в слезы, если меня обижали. Я чувствовал, что мое телосложение было слабым и девическим, но мне казалось, что я стал мужественнее, когда приобрел мопед. Теперь у меня есть машина, но я все еще представляю себя светским молодым человеком, усаживающим хрупкую девушку на заднее сиденье мотоцикла. Она не представлялась мне какой-либо реальной личностью и должна была лишь восхищаться мной. Когда я испытываю тревогу, я до сих пор надеваю кожаную куртку, плотно перетягиваю талию ремнем и смотрю на себя в зеркало, чувствуя себя мощным и мужественным». «Мужской протест» Адлера был ранним определением этой псевдо-мужской патологической сексуальной роли, которая может проявляться как у мужчин, так и у женщин. Она часто развивается в садизм и деструктивность и несет с собой дополнительное представление о женщине как о более слабом поле; представление, наполненное грубым мужским смыслом, которое не соответствует реальности, однако имеет огромное значение в психопатологии. Когда мужское начало отождествляется с садизмом, тогда женское — отождествляется с мазохизмом. Женщины с нарушениями питают эти идеи в столь же большой степени, как и мужчины. Так, женщина-пациентка, старая дева в начале шестого десятка лет жизни, когда испытывала тревогу, находилась в депрессии, или чувствовала, что «превращается в ничто» из-за трений на работе или своей низкой оценки, впадала в ярость, чтобы совладать со своими страхами, и кричала: «Я не женщина, я мужчина, мужчина. Они отрезали мой пенис и оставили меня с отвратительной дырой». Оказалось, что для нее эта «дыра» символизировала патологическую версию женского элемента, чувство не только собственной слабости, но и собственного «не-бытия», как если бы в ней ничего не было, а на месте сердца зияла дыра. Когда она была маленькой девочкой, ее оставили однажды дома со старшим двоюродным братом, который ее раздел и стоял над ней, показывая свой пенис и хвастаясь своей силой. Это напугало ее и заставило почувствовать себя «слабым беспомощным маленьким существом». Но степень ее страха в данной ситуации была обусловлена более ранними причинами. Ее родители снабдили ее инвертированным паттерном псевдо-сексуальных ролей: мягкий отец, который никогда не защищал ее от матери, которая не хотела детей, ненавидела и била ее, распоряжалась семейными деньгами и бизнесом. У таких пациентов ясно виден конфликт между противостоящими псевдо-мужским и псевдо-женским отношениями, всегда вовлекающий их в ненависть к предположительно женским характерным чертам (укорененным в слабом пациенте безотносительно к полу). Псевдо-женская сторона в этих случаях является не диссоциированной, а отвергаемой, и, если это возможно, вытесняемой как у мужчин, так и у женщин, в пользу псевдо-мужской роли. Подлинный женский потенциал остается диссоциированным. Здесь наблюдаются патологические версии «бытия и делания», «женского и мужского», в формах «пассивности» (слабости, подчинения, беспомощности, ничтожности) и «вынужденной активности» (жесткости, грубости, агрессивности, деструктивности, компульсивной сверхактивности). Что отсутствует, так это сильное, безопасное первичное чувство «бытия», из которого естественно вытекает здоровая активность, в терминах объективных интересов, без вторичных тревожных субъективных мотивов. Здоровое «бытие» и «делание» являются комплементарными.
Здоровое «бытие» и «делание» как подлинные женские и мужские характерные черты
Если патологические «бытие» и «делание» выражают псевдо-формы сексуальной природы, представляется вероятным, что здоровые «бытие» и «делание» выражают подлинную сексуальную сущность мужчины и женщины. В каком смысле «бытие» является характерно «женским», а «делание» — характерно мужским? И в каком смысле «женское» характеризует женский пол, а «мужское» — мужской пол, так как чисто женский и мужской элементы не означают женщину и мужчину, ибо оба элемента должны естественно развиваться у обеих полов? Мы должны ожидать, что у женщин, в их конституциональном складе, «перевес» будет на стороне «чисто женского элемента», а у мужчин сходным образом «перевес» будет на стороне «чисто мужского элемента», с наличием элемента противоположного пола. Патологический «перевес» наблюдается в мужском протесте у женщины и в изнеженности у мужчины. Как станем мы описывать «перевес» у здоровых людей? Он берет свое начало от дифференциации полов и их различных функций в деторождении и воспитании детей. С самого начала термины «бытие» и «делание» представляются подходящими для описания этих функций, при этом матери, по сути, приходится играть более важную роль. Женщина получает то, что мужчина дает в сексуальном акте, и, беременной, она живет не столько ради «делания», сколько для «бытия» ради ребенка. Она не должна «делать» ничего особенного, но если она прекратит «быть», ребенок также прекратит «быть». Ее бытие и бытие младенца неразрывно связаны, и это «единство» переносится в начала психической жизни младенца. Лишь постепенно он начинает выносить сепарацию на основе единства, в некотором смысле сохраняемого психически, после физической сепарации, как основу возможности «взаимоотношений».
Тем временем роль отца заключается в поддержании «бытия» как матери, так и младенца посредством своего «делания» как охотника, добытчика пропитания и защитника, без которого они бы, по всей вероятности, умерли. Вначале его роль не столь глубинно важна для развития личности ребенка, как роль матери, хотя с течением времени значимость его роли возрастает. Позднее мать должна развивать свои способности «делания» ради ребенка и совместно с ним, по мере того как ребенок развивает отдельную индивидуальность и личные взаимоотношения с отцом, последний также должен обладать материнской способностью просто «быть» как основой для безопасного развития ребенка. «Мужской» и «женский» являются, таким образом, не сексуальными терминами в узком смысле. Половое функционирование отражает тотальное функционирование личности матери и отца. Мужчина и женщина, выражающие свою совместную любовь в сексуальной связи, будут чередовать реакции на основе как женского, так и мужского элементов. Мужчина и женщина, страстно занимающиеся любовью, оба реагируют своим мужским элементом, активно «делая». Мужчина и женщина, тихо и спокойно лежащие в объятиях друг друга, просто знают о взаимном благополучии и безопасности и оба реагируют, исходя из своего женского элемента, испытывая каждый безопасное существование и таким образом чувствуя совместную безопасность — до такой степени, до какой они могут это себе позволить без риска для своих индивидуальностей, забывать о своей отделенности и переживать идентичность и единение так же, как они испытывают подобные чувства на пике взаимного сексуального оргазма. Это заново возрождает на взрослом уровне ту первичную идентификацию, которую каждый из них в младенчестве имел с матерью, если все шло хорошо. Кроме того, один из них будет мужчиной, активно «делая», в то время как другой будет женщиной, находясь в состоянии спокойного и рецептивного «бытия», каждый в свою очередь.
Такое колебание обоих партнеров между мужским и женским элементом не только характеризует их сексуальные отношение, но также все отношения в браке. Каждый из них, в той мере, в какой они являются интегрированными зрелыми людьми, будет способен общаться друг с другом и со своими детьми на основе как «женского бытия», так и «мужского делания». Тем не менее, способность к «бытию» является фундаментально женским и материнским элементом, потому что связь матери с ребенком организуется на таком уровне, который недоступен отцу. Винникотт иллюстрирует это, ссылаясь на две разновидности объектной связи: (а) объектная связь как стремление к получению удовлетворений, подразумевающая отделенность, активность, делание, и
(б) объектная связь как идентификация, переживание субъект-объектной идентичности как основы способности «быть». Первая — это мужская связь, вторая — женская. Винникотт пишет: «Мужской элемент делает, в то время как женский элемент (у мужчин и женщин) живет». Вначале младенец настолько зависим, что сама возможность его эго-развития основывается целиком на способности матери «быть» адекватным источником безопасности. Он пишет:
«Каким бы сложным, в конечном счете, ни было чувство самости и становление идентичности в ходе развития ребенка, никакое чувство самости не возникает иначе как на основе этой связи в чувстве бытия».
«Чувство бытия» — это дар стабильных матерей как мужчинам, так и женщинам, и основа сильного эго-роста, и поэтому психического здоровья, в начале жизни.
Один мужчина-пациент сказал: «Я всегда представлял себе настоящую мать не как суетливую, занятую делами, организующую женщину, которая “ведет” домашнее хозяйство, а как женщину с тихим, безмятежным, теплым, глубоким характером, само присутствие которой порождает у членов семьи чувство безопасности». Такая женщина вполне способа к «деланию», но, по всей видимости, будет при этом производить мало шума и не казаться чрезмерно занятой. То же самое справедливо для стабильного мужчины. Мы должны сказать, что у обоих полов типично мужской элемент «делания» должен покоиться на типично женском элементе «бытия», и чувство «бытия» следует рассматривать как женское, потому что оно зависит для обоих полов от адекватного материнского ухода с начала жизни. Мать сначала должна позволить своему младенцу почувствовать надежность его собственного безопасного существования, будучи таким человеком, с которым младенец может разделять ее безопасное «бытие». Лишь тогда у младенца может в полной мере развиться способность выражать себя в спонтанной невынужденной активности, потому что у него есть и самость, которую он может выражать, и сильное эго для активных действий. Старая дева на шестом десятке лет, которую ненавидела собственная мать и жизнь которой была долгой борьбой за свое существование, сказала: «Я не могу справляться с жизнью. У меня нет никаких ресурсов, которые помогали бы мне справляться с жизнью». Она говорила не о способностях, которые у нее были, а об отсутствии внутреннего чувства своего бытия как бытия целостного реального человека. Борьба за то, чтобы заменить «бытие» «деланием», всегда ближе к точке распада, чем это считает пациент. Это заставило одного мужчину-пациента сказать: «Я лишь тонкий поверхностный слой интеллектуального профессионала, скрывающий хаос глубокой внутренней пустоты, ужаса и жестокости».
Мужская и женская связь и понимание: размышление и чувство
«Мужской способ объектной связи» не представляет никакой трудности при определении. Это активный способ «делания» — и в значительной доле развлечений, сексуальной активности, рабочего сотрудничества, интеллектуальных стремлений и научного исследования как мужчины, так и женщины связаны со своим мужским элементом, используя свои способности и делая что-то с кем-то. «Женский элемент» играет поддерживающую роль, варьируя в своей активности. Определение «женского способа объектной связи» представляет некоторую трудность. У Винникотта явно существуют две точки зрения на этот счет. Он пишет:
«Мне хотелось бы сравнить и противопоставить чистые мужской и женский элементы в контексте объектной связи... Тот элемент, который я называю “мужским”, проявляется либо в активных действиях, либо подвергаясь воздействию со стороны внешнего мира, каждое такое взаимодействие подкрепляется инстинктами (врожденными пусковыми механизмами)... По контрасту, чистый женский элемент связан с грудью (или с матерью) в том смысле, что этот объект (грудь) воспринимается младенцем как субъект... Здесь, в этой связи чисто женского элемента с грудью находит практическое воплощение идея о субъективном объекте (грудь), и такое переживание мостит дорогу объективному субъекту (становлению самости) — т. е. идее самости, чувству собственной реальности, которое проистекает от обладания идентичностью... Никакое чувство самости не возникает кроме как на основании этой связи в чувстве бытия... Термин “первичная идентификация”, вероятно, использовался именно для этого... Когда эго начинает формироваться, то этот процесс, который я называю связью между чисто женскими элементами матери и младенца, определяет то, что является, возможно, самым простым из всех переживаний — переживанием “бытия”».
Тем не менее, он позднее пишет:
«Этот чистый женский элемент не имеет ничего общего с объектными связями. Объектные связи принадлежат к мужскому аспекту личности, не загрязненному женским элементом».
Имеет место двусмысленность в использовании им термина «связь», так что он одновременно и утверждает и отрицает, что «выделяемый женский элемент» является способом связи.
Такая двусмысленность переносится на проблемы «коммуникации» и «знания». Он проводит различие между «мужским элементом» груди и «женским элементом» груди. «Мужской элемент» груди характеризуется «деланием», когда идет активное кормление ребенка. По контрасту, «женский элемент» груди не является деланием чего-то для, а является бытием для ребенка, просто бытием «здесь» как безопасный, надежный, теплый, успокаивающий контакт; предоставление не пищи, а связи, любви, заинтересованности, внимания, всего того, что позволяет младенцу чувствовать себя безопасно «в бытии», защищает его от нарушения равновесия, прежде чем он сможет с ним справиться. Вначале младенец не знает никакого различия между собой и грудью, но чувствует, что он «есть», потому что грудь «есть». Здесь лежит исток всякого «знания посредством идентификации». Таким образом, имеются два способа «знания». Мужской способ знания в своем наивысшем развитии является объективным аналитическим научным исследованием. Женский способ знания в своем наиболее полном смысле является интуитивным знанием матерью своего ребенка. Так, Винникотт пишет:
«“Первичная материнская сверхозабоченность”... является как раз тем, что наделяет мать присущей ей особой способностью поступать правильным образом. Она знает, что может чувствовать ребенок. Никто другой не знает этого. Доктора и сестры могут многое знать и о психологии, и о здоровье и болезни тела. Но они не знают, как чувствует себя ребенок в ту или иную минуту, потому что находятся вне этой области опыта» (Семья и индивидуальное развитие, р. 15).
Они являются учеными, а не матерями. Таким образом, мы можем сказать, что «чувство» — это женский элемент, состояние бытия, бытия в контакте, знания посредством идентификации, в то время как «думание» это мужской элемент, интеллектуальная деятельность. Как мужчины, так и женщины способны и к мышлению, и к чувствованию. И те и другие могут исключительно концентрироваться на интеллектуальной деятельности и оставаться неразвитыми в своей женской и материнской способностях, что ведет к обеднению их личностей и их способности «знать» в более глубоком смысле. Марджори Бриэрли, как было процитировано выше, пишет:
«Я совершенно уверена в одной вещи: мы чувствуем прежде, чем думаем, даже в образах, и чувствование является поэтому нашим средством понимания того, что с нами происходит, задолго до того, как мы становимся способными к строго когнитивному различению».
Это двоякое понимание «связи» и «знания» в отношении с женским элементом, как мне кажется, дает ключ к проблеме (обсуждаемой в восьмой главе), рассмотренной Винникоттом в работе «Коммуникация и ее отсутствие»: «Является ли индивид в конечном счете и в своей основе изолированным существом?» Он утверждает:
«Хотя здоровые люди вступают в коммуникацию и наслаждаются ею, в равной мере справедлив и другой факт: каждый индивид является изолированным существом, постоянно обособленным, постоянно неизвестным, в сущности ненайденным...
В центре каждого человека есть некоммуницирующий элемент... Нарушение ядра самости, изменение центральных элементов самости в коммуникации, просачивающейся через защиты: для меня это будет грехом против самости... Вопрос состоит в следующем: как быть изолированным, не будучи при этом разобщенным?»
Он суммирует это следующим образом:
«Некоммуникабельность центральной самости, всегда свободной от принципа реальности и всегда молчаливой. Здесь коммуникация является невербальной... абсолютно личной. Она принадлежит к живому бытию... Именно из нее естественным образом вырастает вся остальная коммуникация».
Здесь, однако, наличествует та же самая двусмысленность в значении термина «коммуникация». Винникотт на самом деле не считает, что центральная самость не коммуницирует, однако считает, что она коммуницирует не «мужским» образом:
«Здесь коммуникация является невербальной... абсолютно личной... Именно из нее естественным образом вырастает вся остальная коммуникация (т.е. вербальная коммуникация, основанная на “мужском” мышлении)».
Различие проходит не между коммуникацией и не-коммуникацией, а между вербальной и невербальной коммуникацией, на основе мышления и чувствования, мужского и женского способов связи, знания и коммуникации. Если центральная самость действительно была бы некоммуницирующей, она была бы изолированной, и это разрушило бы тот процесс, о котором говорит Винникотт:
«никакое чувство самости не возникает иначе как на основе этой связи в чувстве бытия»,
а также «знания» и «коммуникации», вовлеченных в базисные взаимоотношения первичной идентификации «мать—младенец». Так как центральная самость может коммуницировать невербально, личностным образом, стало быть, она не может быть изолированной. Определение «изолированный» также имеет двоякий смысл.
«Центральное ядро личности» — это то же самое, что и «не коммуницирующий женский элемент, который приводит нас к бытию». «Делание» — это вторичное развитие. «Ядро самости» не коммуницирует вербально, «мужским» образом, и не вступает в активные объектные связи, а коммуницирует личным и довербальным образом и вступает в объектные связи «женским» образом. Имеются два способа связи: знание и коммуникация. Мужской элемент — это связь посредством активного «делания», знания посредством мышления и коммуникации посредством вербальных символов и идей. Он центрирован на интеллектуальных процессах. Женский элемент — это связь посредством идентификации и разделения чувства бытия, знания посредством чувства и коммуникации посредством эмоциональной эмпатии. Таков способ обращения матери с младенцем, и он позволяет младенцу устанавливать свою эго-идентичность. Лишь когда разрушается такой способ связи, младенец действительно растет «изолированным» в своей сердцевине, неспособным коммуницировать и испытывающим ужас как при обнаружении своей подлинной самости, так и в том случае, если он «останется ненайденным» (утратит контакт с миром). Все это можно усмотреть в знакомых строках: «Мысли, которые оказывают воздействие, часто лежат слишком глубоко для слез», — о, что не выразить словами — переживание блаженства от самого раннего общения с матерью, глубинной дружбы и подлинной супружеской любви. Могут сказать, что это подразумевает экстрасенсорное восприятие, но такая точка зрения лишь ставит телегу впереди лошади. Сенсорный опыт играет свою роль как в эмоциональных, так и в интеллектуальных процессах. В первых он трансформируется в чувства; во втором случае он служит основой образов, идей и мыслей.
Мы можем суммировать эти идеи следующим образом: «делание», естественным образом вытекающее из безопасного чувства «бытия», является частью сбалансированного и интегрированного зрелого развития нашей бисексуальной оснастки. «Делание» не порождает и не поддерживает чувства «бытия», а выражает и удовлетворяет потребности и интересы эго, которое может воспринимать свое безопасное и надежное бытие как нечто само собой разумеющееся, потому что мать заботилась о нем физически, и, что даже еще важнее, ментально. Младенец может расти без необходимости усердно поддерживать свое ментальное функционирование и чувство живого бытия. Когда активность вынужденно направлена на это, возникающее в результате напряжение, перегрузка и истощение блокируют полное свободное развитие.
Проблема женского элемента «бытия» и мужского элемента «делания» как различных факторов нашей природы, которые должны быть комплементарны, однако могут вступать в конфликт, может проявляться клинически в особой форме. Женский элемент может быть определен как способность к восприятию того, что чувствуют другие. Он крайне необходим для матери, если она хочет понимать своего ребенка и его чувства. По контрасту, мужской элемент воспринимается как необходимость предпринимать практические шаги в часто трудном и опасном мире и, если это необходимо, ожесточать свое сердце для совершения неизбежного, что выпадает на долю отца, который не может себе позволить быть излишне сентиментальным. Но обе эти способности нужны как мужчинам, так и женщинам. Никто не сражается более яростно, чем самка, защищающая свое потомство, а мужчина должен брать на себя часть материнского ухода. Однако с точки зрения нашей целостности женский элемент является эмоционально сенситивной самостью, которую можно легко задеть и поэтому она воспринимается как слабость, которой надо сопротивляться, на которую следует негодовать и скрывать за вызывающим внешним видом. Пациенты, не развившие такую жесткую защиту и оставшиеся слишком уязвимыми и восприимчивыми, могут бессознательно ненавидеть свой женский элемент, прятать его и испытывать пугающие деструктивные импульсы по отношению к маленьким девочкам и женщинам. Так, два пациента, один — женатый мужчина, а второй — незамужняя женщина, оба среднего возраста, еще в детстве стали рабами интересов других людей. У мужчины был срыв, связанный с потребностью ходить в туалет ночью; это вынуждало его проходить мимо спальни его маленькой дочери, и он цепенел от ужаса, что он зайдет в спальню и задушит дочь. Затем он стал бояться, что причинит вред своей жене. Женщина-пациентка имела друзей, у которых была маленькая девочка, дружески к ней настроенная. Пациентка приходила в ужас от мысли остаться с ней наедине, потому что испытала желание задушить ее, а также внезапное побуждение напасть на ее мать.
Таким образом, способность к сопереживанию, столь необходимому для матери, ухаживающей за ребенком, воспринимается как женский элемент человеческой природы и при проецировании может быть либо желательным, либо ненавидимым как слабость, которая должна быть разрушена в некоторой женской личности, присущей индивидууму любого пола.
Представление мужского и женского элементов у Микеланджело
Женский элемент в качестве «бытия» и мужской элемент в качестве «делания» поразительным образом представлен Микеланджело в образах четырех мадонн, созданных между 1503 и 1506 годами, в один из его наиболее ярких творческих периодов. В этих четырех работах явно заметна последовательность бессознательной творческой мысли. Первая работа (мадонна Дони) изображает Марию, Иосифа и Иисуса как очень активную группу. По-видимому, в это время Микеланджело влекло назад, к осмыслению прошлого, к тому, что привело к развитию способности к жизненной активности. Затем он создал мраморную статую, The Brughes Madonna, и два мраморных рельефа, Pitti Tondo и Taddei Tondo, в которых он выражает свой ответ на эти вопросы. Можно считать, что его картина четвертая, а не первая работа в этой серии. Статуя Brughes изображает мадонну и младенца в состоянии полного спокойствия. Мадонна сидит абсолютно неподвижно с выражением покоя и мира на лице, что превосходно символизирует «жизнь без активности» или «бытие без делания». Ребенок стоит неподвижно у ее колена в таком же состоянии полного тихого спокойствия. Мать демонстрирует свое «бытие» ребенку, который разделяет ее состояние и может просто «быть» для матери. Они не глядят друг на друга, но показаны «как одно целое» и вместе, таким образом, воплощая наиболее полную и абсолютную безопасность, переживание идентификации и «участие в бытии» матери и ребенка. Здесь мы видим настоящую точку отсчета для развития уверенной в себе витальной активности, и картины такой «активности» разворачиваются в трех его последующих работах. В Pitti Tondo мы наблюдаем движение. Ребенок вновь стоит у колена матери, и мать снова сидит с выражением глубокого и мирного покоя. Однако вместо простой «близости» возникает начало объектной связи. Ребенок развернут к матери и опирается на ее колено. Мадонны Brughes и Pitti изображают закладку основ безопасности и последующей активности ребенка в его отношении к спокойному и стабильному «бытию» матери. Таков женский элемент в человеческом существовании, и поэтому ни в одной из этих двух работ нет изображения мужской фигуры (помимо ребенка).
В третьей работе, или Taddei мадонне, происходит поразительное развитие. Ребенок Иисус начал действовать, и на картине также изображена мужская фигура святого Иоанна. Он протягивает рыбу Иисусу, который, движимый любопытством, привстал, чтобы увидеть, что же это за рыба, а затем внезапно преисполнился тревогой и отпрянул назад; в то же самое время неохотно покидая это место. Он все еще оглядывается назад, устремляясь к матери за защитой. Мать же сидит спокойно и безмятежно, протягивая сыну руку защиты, в то же самое время подбадривающе глядя на святого Иоанна. Тревога утихает в этом эксперименте «делания» на основе стабильного бытия «мать—ребенок», и мы вновь возвращаемся к первой работе, картине Вот, которая должна рассматриваться как конечный результат переживания Микеланджело связи «мать—ребенок». Теперь мы видим сцену полноценной и несдерживаемой активности со стороны ребенка при активной поддержке не только матерью, но также отцом, мужской фигурой, которая теперь должным образом присутствует в картине, темой которой можно считать мужской элемент «делания». Иисус, сильный и мускулистый маленький мальчик, энергично карабкается на плечо матери, Мария, явно физически сильная женщина, сохраняя свое базисное мягкое материнское качество, поддерживает его на пути наверх, а Иосиф, стоя позади них, протягивает мальчику руку, помогая энергии ребенка перейти в действие; в то же самое время выражение лица Иосифа сохраняет некую материнскую заботу о ребенке.
Эго-идентичность в уединении и во взаимоотношении
В то время как точка зрения Винникотта, что «каждый человек является обособленным... постоянно неизвестным, в сущности ненайденным», представляется мне непримиримой с его фундаментально важным утверждением, что «никакое чувство самости не возникает кроме как на основе связи в чувстве БЫТИЯ», в идентификационной связи матери и младенца, тем не менее Винникотт обращает наше внимание на одну из двух основных проблем: потребность человека в сохранении своей индивидуальности от вторжения в нее. Взаимосвязь и зависимость не должны приходить в противоречие с отделенностью и независимостью, но должны поддерживать и питать их.
Мать вначале снабжает младенца основой для его «бытия», в то время как он находится в утробе матери, и должна быть способна продолжать это переживание безопасного «совместного бытия» после его рождения, чтобы, когда младенец начинает испытывать свою физическую и психологическую отделенность от матери на сознательном уровне, он был защищен бессознательным сохранением чувства «совместного бытия» от шока, который в противном случае мог бы привести к чувству «отрезанности», утраты, умирания. Безопасное чувство бытия, разделенное со стабильной матерью как до, так и после рождения, остается в бессознательном как основа, на которой может устойчиво развиваться отдельная эго-идентичность и далее высоко индивидуализированная личность. Младенец не вынесет без тяжелого расстройства ношу сначала физической, а затем психической отделенности, если он ранее утратил коренное переживание «бытия в контакте», пребывания в совместном бытии», в глубочайшем бессознательном чувстве. Самый могучий дуб растет лишь потому, что его корни глубоко в материнской почве. Сознательное эго — это эго разделения, «делания», действия и воздействия, и в этом смысле именно здесь мужской элемент личности. Оно должно приобретать свою силу от глубочайшего бессознательного ядра самости, в котором никогда не исчезает чувство «совместного бытия» с материнским источником жизни. Этот источник внутренней силы может «диссоциироваться» и стать недоступным, если мать плохо ухаживает за младенцем и разрушает его чувство первичной безопасности, мешая идентификации с собой вследствие отвержения или пренебрежения. Два пациента, которые точно отвечали этому описанию, сказали, что чувствуют себя «затерявшимися» в «пустыне» и «отчаивающимися, так как не верят, что их когда-либо найдут». Даже в таком случае на очень глубоком уровне в бессознательном должно оставаться некоторое похороненное воспоминание об этом первоначальном «единстве», и пациент продолжает поиски такого единства, когда проваливается в глубоко регрессивное заболевание, основанное на фантазии возвращения в матку.
Если первичная безопасность взаимоотношения «мать—ребенок» слишком рано становится ненадежной, развитие эго не может получить должного старта или же идет неуверенно и разваливается. Из этого вытекает состояние, в котором психические импульсы не связаны или диссоциированы, потому что эго, выражением которого они должны были бы служить, все еще латентно; нет никакого эффективного эго, которому эти импульсы могут принадлежать. Такой пациент никогда не станет реальной личностью, если не сможет найти обратный путь к отправной точке первичной идентификации, теперь в трасферентной связи с аналитиком в «терапевтической регрессии». Однако процесс эго-развития является, сам по себе, нормальным процессом, в котором ненарушенная психика наращивает свою целостность и дифференциацию в единстве. Чувство «я есть» ведет к вопросу «кто я?», т.е. переживание «бытия» ведет к росту самосознания, знания о себе и самореализации.
У людей, однако, всегда существует некоторое напряжение между потребностью защищать свою индивидуальность и потребностью поддерживать взаимоотношения. Мы видели это в образе жизни «то внутрь, то наружу» шизоидной личности. Мой опыт работы с пациентами говорит о том, что страх изоляции, полного опустошения эго из-за чувства отрезанности от всех объектных связей является более глубоким и подавляющим, чем страх пациента, что его эго испытает насилие или будет разрушено в объектных взаимоотношениях. Полная сепарация, абсолютно отделенная индивидуальность кажется невозможной, ибо она делает существование бессмысленным. Если эго формирует, а затем утрачивает чувство связи, оно начинает распадаться. Мы начинаем в буквальном смысле как часть другого лица, «природы», и, только если это базисное чувство единства и порождаемая им безопасность становятся постоянной бессознательной основой, мы можем выносить отделенность и индивидуальность без тревоги. Переживание идентификации, единства, чувства принадлежности, «неизолированности» является психологическим замещением чувства безопасности, первоначального органического единства с матерью и «природой». Потребность человека сохранять фундаментальное чувство органического единства, которое в то же самое время является латентным чувством связи и через хороший опыт отношений «мать—младенец» может развиваться в способность к эго-объектной связи в конечном счете с самой вселенной. Должно быть, это являлось центральным религиозным переживанием на протяжении многих веков, сколь бы различными и скоропреходящими ни были его выражения в «исторических религиях»; таково «стремление к космической связи» Бубера, и это нечто иное, чем проецирование отцовского образа на вселенную.
Однако мы должны понять, что индивидуальность и отдельная эго-идентичность, столь бы сильными они ни были, всегда ненадежно защищены против угроз внешнего мира. Практическая эксплуатация этого факта проявляется в практике промывания мозгов, физических и психологических методов огромного давления, используемых тоталитарными политическими системами для слома сопротивления тех людей, которые осмеливаются быть личностями. Когда у людей происходит «нервный срыв» и они чувствуют, что «распадаются» под давлением жизни, то это лишь более распространенная версия того же самого. Мы не в состоянии выдержать то, что Винникотт называет «насильственным изменением ядра самости в коммуникации, просачивающейся сквозь наши защиты». Если мы хотим оставаться здоровыми людьми, мы должны чувствовать возможность не впускать внешний мир и сохранять свое право на внутреннее уединение, когда мы этого желаем. Мы не можем выносить, когда нас психологически «затопляют» чужие переживания, или же, опять говоря словами Винникотта, не можем вынести реального страдания вследствие пугающего представления, что наше Я может распасться от непереносимой боли. Однако я не могу усмотреть, что это подразумевает, что «ядро самости является изолированным и некоммуникабельным». На мой взгляд, если эго чувствует себя приближающимся к такому состоянию, оно начинает распадаться вследствие противоположных причин: не потому, что оно насильственно изменяется или переполняется, а потому, что оно чувствует себя опустошенным, вынужденным барахтаться в вакууме, без базисной «взаимосвязи эго», которая должна развиваться из первичного единства идентификации. Так, пациент, испытавший неприятное переживание неожиданного физического оскорбления, адекватно защитил себя, однако впоследствии сказал: «Ко мне вернулось прежнее чувство, что мир — это ужасное место, в котором человек не может преуспеть. Я почувствовал себя полностью опустошенным. Я чувствую, что значимая часть меня, которая представляет собой лишь малую часть, действительно совершенно одинока и отрезана и тянет меня на этот уровень».
Две вещи должны оставаться ненарушаемыми, если человеческая личность хочет быть сильной: (1) внутреннее ядро отдельной индивидуальности, «я-йности», эгоидентичности, достаточно сильной как для завязывания связи с кем-либо, так и для принятия коммуникации от кого-либо, или же, при желании, для ухода от внешнего мира без тревоги по поводу возможной утраты эго; (2) еще более глубокое первичное ядро «единства» — та почва, на которой может вырастать чувство отделенности. Чувство отделенности и индивидуальности при отрезанности от какой-либо основы «единства» является ужасающим и разрушает эго. Это, однако, вовлекает в себя также противоположную опасность базисной потребности в «единстве», грозящей парализовать и уничтожить отделенность, и тогда неуверенно чувствующий себя индивид защищает свою независимость с фанатической решимостью, потому что боится ее утратить, если позволит себе стать реально зависимым, скажем, от терапевта. В нашей культуре трудно достичь понимания того, что подлинная независимость коренится в первичной зависимости и растет лишь из нее.
Винникотт говорит о сложности вопроса о том, является ли центральная самость изолированной: «Это вовлекает меня в огромные затруднения». Но мне кажется, что затруднений можно избежать, если мы не станем делать вывод о том, что взаимоотношения, знание и коммуникация являются только «мужским элементом» деятельности, а «женский элемент» (базисное «чувство» психики, предшествующее росту «мышления и действия») не несет в себе взаимоотношения, знание или коммуникацию. Винникотт в своих работах о взаимоотношениях «мать—младенец» утверждает, что «женский элемент» имеет свои собственные определенные способы взаимоотношений, знания и коммуникации, которые фундаментальны. Он пишет:
«Чувство бытия является чем-то таким, что предшествует идее совместного бытия, возникая тогда, когда еще нет ничего, кроме идентичности».
Но лишь из переживания единства вообще может возникать чувство бытия и чувство самости. Мы пытались провести различия внутри этого переживания, богатого возможностями и никогда, ни в какой момент времени не являющегося статичным. Даже судя по тому, как переживаются идентичность и бытие, они связаны с процессом развития переживания совместного бытия и зарождающейся связи, которое является фактической основой возможности их существования. Если таково начало переживаний вообще, ядро самости вряд ли может быть изолированным.
«Единение» — глубочайшая вещь в человеческой природе. С этой отправной точки психика проходит через сепарацию рождения в «одиночество», которое было бы непереносимо, если бы не существовало это единство ребенка с матерью, и через него с «материнской природой» в том смысле, который приводит Бубер:
«...евреи говорят: “В теле матери человек познает вселенную, при рождении он об этом забывает”».
Однако в глубине своей души человек никогда об этом не забывает. Это остается скрытой основой спокойствия, безопасности и умиротворенности Brughes мадонны, той основой, которая должна быть сохранена и развита в постнатальном росте через идентификацию к объектным связям.
Бубер пишет:
«Ребенку даруется время для обмена духовной связью, т. е. для взаимоотношений, для естественной связи с миром».
Но в глубочайшем бессознательном эта связь никогда не утрачивается, и люди борются за ее возвращение, когда их эго подвергается самым большим опасностям. Если сохраняется эта основа безопасности, тогда не становится угрозой столкновение внешней реальности с эго сознания; и два человека могут быть в молчании и при этом знать, что они находятся «в контакте», «связи» и «коммуникации» в чувстве без слов и действий, на этом глубоком уровне.
Этот самый элементарный психический уровень является «женским» элементом чистого чувства, возникающего как переживание «бытия», которое в действительности есть переживание «бытия в контакте с кем-либо» и не может существовать иначе как в актуальном переживании «бытия в контакте с кем-либо». Это отправная точка и постоянная основа эго-идентичности и эгосилы, спокойствия ядра личности, которое должно быть сохранено нерушимым, не затрагиваемым давлениями внешнего мира. Я полагаю, что именно это имеет в виду Винникотт под
«нарушением “ядра самости”... в коммуникации, просачивающейся через защиты... грехом против самости».
Все это вопрос о «типе коммуникации». Нужно уметь защищать себя от столкновения с «мужским элементом» на сознательном уровне без утраты в глубине «женского элемента» взаимоотношений. Встают серьезные вопросы вследствие попыток психиатров обойти сознательное эго и напрямую контактировать с бессознательным.
Пациент однажды упомянул мне, какое глубокое впечатление произвело на него описание Дэнни Кайэ как вихря активности, остроумия и юмора на сцене, хотя «источником его раппорта с аудиторией было спокойствие в его ядре». Это «ядро самости», включенное в неразрушимое «бытие-в-связи» и коммуникацию особого вида, не вербально, а в чувстве, было источником его раппорта с другими людьми. Лишь если оно диссоциировано, отрезано и недоступно как основа для роста эго (оно не может быть разрушено) из-за слишком плохого материнского ухода, тогда самость насильственно загоняется в изоляцию и становится неспособна развивать чувство «базисной взаимосвязи эго». Таков конечный смысл «эго-слабости» и утраты эго-идентичности. При таком катастрофическом положении базисное «бытие во взаимоотношениях» скрыто в бессознательных глубинах, куда стремится убежать шизоид посредством самоубийства. В здоровом состоянии женский и мужской элементы должны быть интегрированы. Это возможно, потому что сущность женского элемента в том, что он может вступать во взаимоотношения, знать и коммуницировать более фундаментально посредством вчувствования, чем это делает мужской элемент посредством внешних связей и знания. Это основа эго-идентичности, индивидуальности и объектной связи. Проще говоря, безмолвная связь, знание и коммуникация любви — более глубокая вещь в человеческом опыте, чем наука. Наука никогда не «знает человека»; она лишь «имеет информацию о человеке». Наконец, «бытие и делание», чувство и действие не являются неотъемлемо мужскими и женскими биологическими свойствами — это две элементарные составные части личности. Они вне сексуальных различий и принадлежат бытию как элементы целостной личности. В качестве отдельных функций двух полов, каждому из них приходилось «специализироваться» в одной из этих двух составляющих, не теряя при этом способности к другой. Не может быть полного человеческого бытия без интеграции чувства с мышлением и действием, в котором «делание» спонтанно проистекает из фундаментального переживания «бытия».
ЧАСТЬ IV. НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПСИХОТЕРАПИИ
X. РАЗЛИЧНЫЕ УРОВНИ ПСИХОТЕРАПИИ
В предыдущих главах была предпринята попытка провести анализ личности с нарушениями до наиболее глубоких возможных уровней и придти к подлинному пониманию психического недуга. Эту попытку нужно продолжать, и, несомненно, еще очень многое нуждается в нашем понимании. Возможно, наш поиск никогда не приведет к финалу. Когда, однако, мы обращаем внимание на проблемы психотерапии, важно напомнить, что теоретические обобщения здесь уступают дорогу практическим возможностям. Анализ шизоидной проблемы имеет глубокие и далеко идущие последствия для психотерапии, но лишь сравнительно недавно терапевтический анализ смог достичь такой глубины. В психотерапевтической практике мы ограничены тем, что хочет пациент, и тем, что делают возможным его обстоятельства. Психотерапия является функцией по крайней мере трех переменных: личности и опыта терапевта, побудительных причин и природы проблем пациента и содействующего или фрустрирующего окружения. Об этом предупреждает Фрейд, говоря, что многое не может быть поднято из глубин бессознательного одним лишь анализом, и нам часто приходится ожидать воздействия самой жизни для вызова того, что вытеснено. Таким образом, психотерапия на практике не одинакова и определенно не опускается на одни и те же глубины со всеми пациентами. Если бы мы стали рассматривать только самые глубокие проблемы, обнаруженные анализом базисного шизоидного уровня личности, мы бы увидели, что радикальная психотерапия вне пределов наших возможностей. Она может осуществляться, когда терапевт и пациент продолжают совместную работу в течение очень длительного времени.
К счастью, существуют различные уровни психотерапии, и нам нет надобности в своей практике быть перфекционистами, мы можем стремиться лишь к возможному. Несомненно, у всех терапевтов, работающих психоаналитическими методами, было много случаев, когда требовалось лишь облегчение симптома, и этого можно было добиться сравнительно быстро. Это можно назвать психоаналитической первой помощью, которая бывает очень полезной. В качестве примера расскажем случай человека, который считал, что он потерял потенцию, потому что перестал испытывать сексуальные чувства к женщине, к которой ранее был крайне сильно привязан. Его первый брак распался, поселив в его душе тревогу, и он был в очень сильной депрессии до тех пор, пока наконец не понял, что должен взять себя в руки и начать снова контактировать с людьми. Он так и сделал и вскоре установил прочные отношения, которые, как он думал, могли бы перерасти в брак, если бы он не стал чувствовать себя эмоционально холодным. Он не понимал, что в основе такого поведения лежало чувство: «Обжегшись на молоке, дуешь на воду; никогда не рискуй больше вступать в близкие отношения; не дай себя увлечь». Когда это стало ему ясно, он смог встретить страх лицом к лицу и преодолеть его, и к нему вернулась его сексуальная восприимчивость. Для этого оказалось достаточно дюжины сессий, и, хотя они открыли наличие личностных проблем, которые также было бы полезно проанализировать, не было основания для того, чтобы отважиться на это. В описании Маланом (1963) экспериментов группы Балинта по спланированному сокращению сроков психоанализа приводятся веские причины, почему мы должны быть скорее практичными, нежели перфекционистами. Во всяком случае, от первоначальной идеи о «полностью проанализированном человеке» давно уже отказались как от мифа.
Именно с этими оговорками в пользу того, что является практическим, мы можем исследовать возможности «глубинной» психоаналитической терапии еще и потому, что эти ценные находки можно использовать и в коротком анализе. Даже при радикальном лечении есть различные уровни, до которых может продолжаться анализ. Никакая ригидная схема «стадий» не может быть истинной для поразительного разнообразия индивидов, нуждающихся в лечении. Я укажу на три стадии, которые у некоторых пациентов развивались последовательно, а у других наблюдались беспорядочные колебания взад и вперед между этими стадиями, прежде чем был достигнут стабильный результат. Но эта «беспорядочность» лишь кажущаяся, ибо действительный прогресс в каком-либо анализе имеет собственную внутреннюю логику. Однако я замечал у некоторых пациентов вполне последовательный паттерн трех стадий лечения, которые могут быть названы стадиями (1) эдипального конфликта, (2) шизоидного компромисса и (3) регрессии и повторного роста. Все эти стадии являются сложными, и пациенты никогда не прорабатывали их одним и тем же образом или в каком-либо фиксированном порядке. Пациенты могут двигаться взад и вперед между ними, но сами стадии широко узнаваемы.
Прежде чем мы станем более подробно исследовать эти стадии, мне представляется здесь уместным упомянуть о двух общих проблемах. В моей книге (1961) я описал теорию эндопсихической структуры Фэйрберна как «завершенную теорию объектных связей личности». Такое утверждение, как я сейчас полагаю, до некоторой степени вводит в заблуждение. Ошибочно можно посчитать, как это сделал один критик, что под «завершенной» теорией я понимал «окончательную», как если бы теория Фэйрберна была «последним словом» в этой трудной проблеме, что было бы абсурдно. Поэтому теперь я буду описывать его взгляды как «последовательную теорию объектных связей личности». Используя слова «завершенный» или «последовательный», я хочу подчеркнуть, что теория «личных объектных связей» Фэйрберна является базисной концепцией в своей целостности и в каждой ее части, чего нельзя сказать о концепции «ид» Фрейда, которое является безличностным. Для Фэйрберна первоначально целостная, хотя и неразвитая инфантильная психика проходит через процессы внутренней структурной дифференциации под действием опыта частичного удовлетворения и частичной фрустрации у младенца в его самых ранних объектных связях. Это приводит к хорошему росту эго как результату переживания хорошего объекта и к процессам расщепления эго как результату переживания плохого объекта. Такая теория явно требует исследования фактов развития эго на самых ранних стадиях младенчества, и работа Фэйрберна по шизоидным проблемам указывает то же направление. Его работа была не только стимулом к общему движению психоанализа в этом направлении, но и сама явилась частью этого движения, приводя нас еще глубже к наиболее фундаментальным проблемам, чем мы это видели в работах Винникотта. Как однажды сказал мне Фэйрберн, «чем больше мы анализируем эго, тем дольше продолжается анализ».
Это приводит ко второй проблеме. При все большей концентрации внимания на эго, его природе, истоках, раннем развитии, его значимости как ядре человеческого бытия «самости в качестве личности» и на борьбе пациента за достижение и сохранение жизнеспособного эго, с которым можно было бы противостоять внешнему миру, психодинамическая наука становится «теорией личности». Стоит рассмотреть рекомендации для психотерапии этой позиции. Это не означает, что мы в каждом случае вынуждены анализировать структуру личности пациента как целое. Не каждый пациент нуждается или должен быть подвергнут радикальному анализу, если он может достичь достаточной стабильности без анализа. В приватном сообщении Дж.Д. Сазерленд написал:
«Есть одно затруднение, которое вполне следует принимать во внимание при обсуждении вашего тезиса. Я имею в виду, что при описании вами базисного процесса и его далеко идущей значимости как в глубину, так и в ширину, внутри личности, вас . могут обвинить в пренебрежении другими видами патологий, которые лежат в основе традиционных нозологических категорий. Вам сразу же покажется, что данная критика несправедлива, как вы, например, указываете в связи с эдиповым комплексом: то, что изучалось в классическом психоанализе, на ваш взгляд, является конечным продуктом процесса, проистекающего из определенных серьезных конфликтов на ранних стадиях развития. Мне кажется, что об этом стоит говорить много и по-разному, даже с излишком, подчеркивая, что базисный конфликт лежит в основании и может быть обнаружен почти во всех состояниях, хотя и осложнен воздействием последующего опыта».
Это мудрая мера предосторожности, с которой я безоговорочно согласен. В действительности я считаю шизоидную проблему лежащей в основе не только для всех проявлений психического заболевания, но и для концепции того, что мы принимаем за психическое здоровье. Это никоим образом не значит, что именно ее нужно всегда анализировать, и в действительности очень часто достигается «достаточно хорошая» стабильность и вне исследования этой проблемы, как с анализом, так и без него. С другой стороны, мы недостаточно глубоко понимаем какое-либо состояние личности, не принимая во внимание некоторую степень участия в нем этой основной проблемы. Мой клинический опыт, тем не менее, говорит, что даже когда пациент приходит с проблемами шизоидного ухода с самого начала лечения, эдипальный уровень всегда привносится в анализ, и его нельзя обойти в преждевременных попытках разрешить шизоидные проблемы изолированно. Если шизоидные проблемы представляют собой бегство от жизни, эдипальные проблемы представляют собой борьбу за то, чтобы жить, и два этих типа реакций постоянно взаимодействуют на протяжении всей жизни и в ходе всего психотерапевтического лечения. Если шизоидные проблемы слабости эго и ухода представляются первичными, их анализ, вполне вероятно, приведет не к безутешному погружению в глубокую регрессию, а к мобилизации защиты против регрессии, возвращая пациента к насущным проблемам его личных взаимоотношений как дома, так и на работе. Лишь позднее, когда будут проработаны эдипальные паттерны пациента с их виной и самонаказанием, для него может оказаться возможным столкновение лицом к лицу с шизоидным бегством от реальности. Слишком раннее выявление шизоидной проблемы не всегда является наилучшим условием для ее разрешения. Личность становится более сильной при проработке эдипальных конфликтов. Если лечение на этом месте не останавливается, то это, вероятно, наилучшая подготовка для работы с еще более ранними проблемами. Так, Винникотт приводит случай женщины, которая до этого прошла эдипальный анализ, однако обратилась к нему за лечением, так как знала, что некие более глубокие ее проблемы все еще нуждаются в проработке (1958Ь, р. 279). Однажды мне написала пациентка, говоря, что ранее она прошла восьмилетний анализ, который принес ей огромную пользу в том отношении, что для нее стали возможны конструктивные социальные отношения и счастливый брак: однако она сказала, что анализ не устранил то, что она называла своей «самой ранней тревогой сепарации». Иногда полезно анализировать мягкие шизоидные реакции в период проработки эдипальной амбивалентной любви-ненависти и связанных с виной проблем, и они могут представлять не что иное, как затухание на этой стадии «желания выздороветь» у пациента. Пациенты могут ненавидеть не только людей, плохие объекты, но также болезнь, ощущая глубокое раздражение и гнев из-за фрустрации вследствие жизни с такими ограничениями. Пациент получал в разное время достаточное наслаждение для того, чтобы знать, какой хорошей может быть жизнь, и при этом он находит себя постоянно борющимся за то, чтобы дотянуться до морковки, висящей над ним. Он периодически ощущает усталость и тщетность борьбы, год за годом, всегда надеясь на финальный прорыв к душевному здоровью. Фрейд говорил, что в лучшем случае мы можем помочь пациенту обменять его невротическое страдание на обычное человеческое несчастье. Мне кажется, что это излишне пессимистичный взгляд и что у пациента есть возможность воспринимать себя и жизнь намного более реально и стабильно. Однако нет каких-либо быстрых путей к этой цели, и «откладываемая надежда отдается болью в сердце». Периоды безнадежности, переутомления, стремления сдаться и покончить со всем этим будут сменять друг друга, порождая чувство тщетности и желание уйти от решения проблем. Эти чувства вполне могут включать в себя вновь ожившие настроения детства, не приводя при этом к проработке первичных проблем. Так что мы можем продолжать исследовать три стадии, или уровня, психотерапии, проходя их в таком порядке, который представляется наиболее естественным: эдипальный конфликт, шизоидный компромисс и регрессия, не считая это жесткой схемой9.
9 Оставшаяся часть этой главы является переработкой второго раздела работы ‘Психодинамическая теория и проблема психотерапии’, Brit. }. med. Psychol., 36 (1963), pp. 167—173.
1. Эдипальный конфликт. Какой бы диагностический ярлык ни был навешен на пациента: истерия, невроз навязчивости, состояние тревоги, депрессия и т.д., первые несколько лет анализа, весьма вероятно, будут связаны с проработкой проблем ребенка, сражающегося за то, чтобы адаптироваться и сохранить себя в не оказывающей ему помощь семье, с расширением исследования до границ социального окружения. Таков, в широком смысле, «классический эдипальный анализ» защит и конфликтов по поводу амбивалентных объектных связей любви и ненависти, первоначально с родителями и сиблингами, а затем перенесенных в более широкие области жизни. По мере угасания симптомов будут проявляться лежащие в основе конфликты в области секса, агрессии и вины, и мы будем иметь дело с классической депрессией различной силы. Такой анализ может привести к заметным улучшениям, которые крайне желательны, однако иногда оставляют чувство, что все еще остается нечто, что следовало бы проработать. Такой анализ порождает ценные, но недостаточно полные результаты, так как он имеет дело скорее с защитами, чем с первичными причинами. Тем не менее, для пациента может оказаться вполне возможно обрести устойчивость в данной точке лечения, в особенности если его младенчество было хорошим, а расстройство возникло в более поздний период детства.
Так, двенадцать лет тому назад ко мне пришел мужчина, находящийся в очень сильной депрессии после смерти своего отца. Он сказал: «Я могу выделить время и деньги для ста сессий». Я посоветовал ему распределить их на два года, так как развитие требует времени. Вдобавок к его депрессии, он шел по проторенному пути в своей работе, и его бездетный брак вряд ли был счастливым. После ста сессий он чувствовал явное улучшение. Он поменял свою рутинную работу на более интересную, и его дела шли хорошо. Они с женой обсудили свою проблему и усыновили ребенка. Недавно я услышал, что дела идут у него очень хорошо. Ранее я сказал ему, что полностью его проблему нельзя прояснить за сотню сессий, и он согласился с этим. Он сказал, что у него все еще время от времени бывают периоды плохого настроения, однако он понимает, чем они обусловлены, и может с ними справиться, а его работа и домашняя жизнь идут достаточно сносно. Усыновление оказалось успешным. Это ценный результат, хотя и неполный. На практике большая часть лечения в краткосрочной терапии находится на этом уровне. В ранний период психоанализа казалось, что год адекватное время для лечения. Но хотя мы были бы рады добиться, чтобы проблемы оставались на этой стадии, это вряд ли возможно.
2. Шизоидный компромисс. Мы можем обнаружить, что пациент, вместо использования реальных улучшений, лишь проводит время за анализом и сохраняет улучшения, используя рациональный контроль, т.е. модифицированное обсессивное или шизоидное состояние. Даже если удается сохранить такое состояние, оно вполне может представлять «излечение» для практических целей. Однако может оказаться, что оно намного выходит за рамки шизоидного компромисса и представляет собой «наполовину — внутрь — наполовину — наружу» жизнь, в которой пациент не испытывает реального удовлетворения. Пациент не может обойтись без личных взаимоотношений, однако не может полностью в них погрузиться, или же он не может вынести, когда они становятся чрезмерно близкими и затягивающими. Он занимает позицию «посередине», которая, как он надеется, поможет ему продолжать отношения, не будучи в то же время затронутым ими. Если пациент может жить таким образом, неправильно копать глубже, ибо это может привести к столкновению с тем, что превышает пределы его выносливости. Тем не менее, нельзя гарантировать, что эта относительная стабильность будет прочной, и большинство пациентов, прекращая лечение, хотят быть уверенными, что снова смогут вступить в контакт с аналитиком, если это потребуется. Пациент может уйти и позднее столкнуться со стрессами, которые слишком тяжелы и вновь приводят его к распаду. Или он может завязнуть в анализе, не получая от этого реальной пользы, пытаясь сделать сам анализ своим компромиссным решением, получая достаточную поддержку от сессий, однако не изменяясь серьезным образом. Это может привести к разрыву; пациент чувствует себя фрустрированным, покидает аналитика негодуя и обнаруживает, что его негодование по поводу отсутствующего аналитика является вполне полезным, хотя и вряд ли конструктивным способом поддержания своего эго. Наконец, пациент может застрять в анализе и анализировать свои компромиссы, пока постепенно он не оставляет их позади. Обратится ли он к повторному анализу в связи с новым срывом или же будет упорно продолжать анализ, пока не будут достигнуты глубочайшие уровни, результат во многом будет тем же самым.
Способ, каким пытаются достичь шизоидного компромиссного решения и частые неудачи в этом, можно проиллюстрировать двумя случаями. Пациент-мужчина на шестом десятке лет жизни, который принял решение закончить длительный анализ и переехать в другой город, чтобы начать там жизнь заново, сказал: «Предел моих желаний сейчас в том, чтобы идти по жизни без волнений. Хотя эта цель в какой-то мере негативна, она не столь уж плоха; хоть она несет привкус растительной жизни, некоей пустоты. При таких обстоятельствах вы мало что чувствуете. Но такое состояние предпочтительнее плохого самочувствия. Это большое облегчение — не чувствовать себя напуганным, возбужденным. Однако в таком образе жизни есть чувство утраты чего-то». Последнее замечание подтверждало его понимание, что это не финальный позитивный результат, а компромиссное решение, направленное на сохранение улучшений. В нем отсутствовало витальное чувство реальности. Однако лишь он знал, мог ли он вынести проработку более глубинных проблем и в конечном счете почувствовать улучшение. В действительности в течение многих лет вплоть до настоящего времени он сообщал об улучшении своего самочувствия после анализа.
Как хорошо обоснованное компромиссное решение может потерпеть крах, видно в случае женщины в конце пятого десятка лет жизни. Она целиком восстановила свое физическое здоровье после длительного анализа и в преклонном возрасте прошла университетский курс для получения профессиональной квалификации, стала независимой от своих родителей, приобрела собственную квартиру и автомашину и добилась значительного прогресса в каждой из этих сфер. Тот факт, что это желанное улучшение и независимость также включали в себя шизоидный компромисс, защищая ее от какого-либо реального вовлечения в личные отношения, стал очевиден, когда она внезапно впала в панику от перспективы замужества. Она сказала: «Я полагаю, что для меня лучше всего будет сохранить свою свободу и независимость, работу и деньги, квартиру и машину и не испытывать слишком глубокие чувства по поводу чего бы то ни было. Я не хочу испытывать любовь или ненависть. Если у меня появляются чувства, я становлюсь ребенком. Когда я скольжу по поверхности, без сильных чувств, я ощущаю себя более взрослой и тогда в некотором смысле больше наслаждаюсь жизнью, особенно когда веду машину. В действительности я ребенок и ничего не хочу делать; я хочу лишь придти домой к матери и отцу. Я рисую в воображении картину нашей семьи, живущей на необитаемом острове и никогда его не покидающей. Я в действительности не могу противостоять жизни. Я никогда не хотела работать; я хотела сидеть дома и заниматься хозяйством вместе с матерью. Но я знаю, что родители не могут жить вечно, и мне придется подумать о другом образе жизни. Возможно, я все-таки выйду замуж, хотя и не питая на этот счет никаких иллюзий, и каким-либо образом воспользуюсь замужеством». Связанные с браком требования, однако, делали для нее все более трудным сохранение шизоидного компромисса, и она была вынуждена решиться на более радикальное переживание своих базисных страхов вовлеченности в личное взаимоотношение, и в конечном счете была успешна в браке.
3. Регрессия и повторный рост. Проблемы этой стадии совершенно иные, скорее специфически шизоидные, нежели депрессивные. Здесь появляется контакт с преисполненным ужасом младенцем, убежавшим от жизни и прячущимся в своей внутренней цитадели: данной проблеме в ее различных аспектах посвящены главы с первой по девятую. Фэйрберн писал:
«Такой индивид вовлечен в конфликт между крайним нежеланием отказаться от инфантильной зависимости и отчаянными попытками отказаться от нее; и испытываешь одновременно симпатию и жалость, наблюдая за тем, как пациент, подобно пугливой мыши, попеременно то высовывается из укрытия своей норы, чтобы сквозь маленькое отверстие поглядеть на мир внешних объектов, то со всех ног бежит к своему убежищу» (1952а, р. 39).
Два случая дают убедительную иллюстрацию этого.
(1) Замужней пятидесятилетней женщине во время продолжительной истерической фазы приснился голодный, жадный, кричащий младенец, спрятанный под ее фартуком, символическая репрезентация активного орально садистического младенца, которого следует держать под контролем, так как он всем неприятен. Когда она проработала эту фазу, она стала заметно шизоидной, спокойной, закрытой, молчаливой, с трудом сохраняющей какой-либо интерес к жизни, начинающей каждую сессию словами: «Вы находитесь от меня за много миль». Затем у нее была фантазия о мертвом, или, иначе, спящем младенце, погребенном заживо в ее матке, и ей казалось, что внутри ее живота был некий сгусток, как если бы она была беременна.
(2) Вторым пациентом был мужчина, у которого сначала анализ был связан преимущественно с садомазохистским оральным материалом и сильными конфликтами по поводу сексуальных и агрессивных импульсов, которые он с большим трудом контролировал. Он достиг стадии, где его первоначальная обусловленная виной депрессия постепенно исчезла, и он смог вести успешную, хотя и обсессивную, тяжелую профессиональную работу. Затем тяжелые семейные проблемы вновь породили у него острый кризис. Когда он вернулся к лечению, он явно боролся против могущественного регрессивного стремления, чувствуя себя истощенным и питая фантазии о младенце, вновь помещенном в теплую и уютную матку.
Именно этот материал впервые навел меня на мысль о том, как это излагалось в предыдущих главах, что Фэйрберн называет либидинальным эго, соответствующим либидинальному аспекту фрейдовского «ид», зависимому нуждающемуся младенцу, которое само претерпевает дальнейшее и окончательное расщепление. Оно уже расщеплено и изолировано в личности посредством вытеснения фрейдовскими эго и суперэго или тем, что Фэйрберн называет центральным эго и антилибидинальным эго. Это равносильно внутреннему преследованию, на которое инфантильное эго продуцирует двойную реакцию «гнева и бегства», а также «страха и бегства». Это приводит к самому глубокому эго-расщеплению: на активное оральное эго и беспомощное регрессировавшее эго как финальную скрытую опасность. Психоанализ дал первое описание «превратностей развития в эго» гнева и агрессивных, или противостоящих, импульсов перед лицом угрозы. Он не дал столь же полного описания «превратностей развития в эго» страха и бегства от жизни и подходящего концептуального описания регрессии. На практике в психиатрии к регрессии обычно относятся как к мелочи, на которой не стоит заострять внимание. Это слишком поверхностный взгляд. Регрессивные тенденции, в действительности, проистекают от той части целостной самости, которая испытала глубокий уход, преимущественно шизоидного эго, от скрытой самости в шизоидной цитадели. Эго пациента претерпело двухстадийный уход: вначале от преследующего внешнего мира плохих внешних объектов, а затем от преследующего внутреннего мира внутренних плохих объектов, и в особенности из-за преследований со стороны антилибидинального эго (ср. седьмую главу). При подходе к этой глубине мы наконец приближаемся к непробужденному потенциалу подлинной самости пациента.
Психотерапия может достигать ценных результатов, которые во многих случаях для практических целей могут оказаться достаточными; но она не будет радикальной, если не достигнет и не высвободит эту утраченную сердцевину самости, которая не только вытеснена, но и испытывает огромный страх перед повторным появлением на свет. На мой взгляд, хотя мы и подошли к пониманию разными путями, и наша терминология различна, именно об этом говорит Винникотт, когда описывает пациентку, завершившую успешный эдипальный анализ, а позднее пришедшую к нему за лечением, которое Винникотт называет «терапевтической регрессией, направленной на возрождение подлинной самости», необходимой потому, что «классический анализ оставил ядро ее болезни неизменным» (1958, р. 249). Это оправдывает наши собственные слова, что все, что было до сего времени открыто психоанализом, лишь свидетельствует, насколько трудна радикальная психотерапия.
У нас остались две последние проблемы психотерапевтического исследования.
(1) Первая из них — это сопротивление лечению. Оно обусловлено не только бессознательной виной по поводу бессознательных деструктивных фантазий и импульсов, сексуальных или агрессивных, но также виной из-за слабости, страха унижения при раскрытии слабости, и самое глубинное — из-за подлинного страха коллапса внутри самости, которая слишком слаба и боится противостоять жизни. Инфантильную зависимость, которую Фэйрберн считал базисной причиной невроза, в современной культуре учат презирать и бояться в процессе взросления как подрывающую возможность исполнять свои взрослые обязанности. Пациент всегда в некоторой степени сопротивляется какой-либо реальной зависимости от терапевта, считая, что такая зависимость скорее отбросит его назад к наиболее слабой части его личности, нежели приведет к эмоциональной безопасности, делая его свободным для повторного роста. То, что Балинт (1952) называет «первичной пассивной любовью», является необходимым отправным пунктом для «нового начала», если базисное эго было слишком сильно повреждено в раннем детстве. Однако пациент часто проводит свою жизнь, сражаясь против этих чувств и испытывая в связи с ними сильно выраженное презрение и ненависть к себе. Именно потому, что истерик, по-видимому, не борется против таких чувств и легко их приемлет, он навлекает на себя так много нетерпимой критики. Это чувство более элементарно, чем моральное суперэго: не страх плохих импульсов, а страх слабости, хотя он также может включать в себя вину по поводу «паразитизма» за счет других людей. Один пациент сказал: «Я теряю всех своих друзей. Они не могут выносить те требования, которые я к ним предъявляю». Я думаю, что антилибидинальное эго Фэйрберна сохраняет страх испуганного ребенка по поводу своей слабости, его отчаянную борьбу за преодоление этой слабости посредством самопринуждения и отрицания всех потребностей, в особенности пассивных, борьбу, основанную на идентификации с отвергающими лицами в реальной жизни. Таков «либидинальный катексис плохого объекта» (Fairbairn, 1952а, рр. 72 и сл.), порождающий сопротивление хорошим терапевтическим взаимоотношениям с аналитиком, в которых могла бы возникнуть контролируемая конструктивная регрессия до той степени, какая необходима, чтобы сделать повторное развитие возможным. «Сопротивление» исследовалось в седьмой главе, но вызванные им осложнения требуют намного большей работы по их преодолению.
(2) Если, наконец, пациент сможет испытать и принять терапевтически контролируемую регрессию, возникает вторая и еще более трудная проблема. Он будет испытывать ужасные состояния отчаяния, полной внутренней отрезанности и безнадежности какого-либо возрождения. В течение длительного времени пациент осциллирует между регрессией и сопротивлением. Анализ эдипальных конфликтов представляется сравнительно простым по сравнению со сложными инфантильными шизоидными страхами и тревогой преследования, которые первоначально мешали росту сильного базисного эго, а теперь не дают дорогу повторному возрождению утраченной сердцевины самости. Одна пациентка сообщила, что однажды, когда она сидела в автобусе, она внезапно испытала странное, чисто ментальное переживание. «Я почувствовала, что я пустое место, ни тело, ни душа или дух. Я почувствовала, что я, реальное “Я”, это сплошная пустота». Здесь мы видим открытие пациенткой базисной потребности в нахождении своей реальной самости.
Данная проблема обусловлена не только существованием страхов преследования, но также сохранением состояния неразвитого, слабого инфантильного эго; порочного круга, в котором страхи блокируют развитие эго, а слабое эго чрезмерно подвержено страхам. Психотерапия некоторым образом должна обеспечить новую безопасность, в которой может начаться новый рост. Как много страхов может быть у пациента, видно из письма женщины-пациентки, в конце пятого десятка лет жизни, о которой упоминалось на стр. 420 и сл.
«Меня пожирает страх. Я всегда ужасно боялась и до сих пор страшусь чего угодно и кого угодно. Страшусь что-либо делать, слишком испугана, чтобы просто жить. Всю свою жизнь я убегала и пыталась спрятаться. Как раз это я и делаю на своей работе и у себя дома. Я хочу спрятаться, и чтобы меня не тревожил внешний мир и другие люди. Я хочу заснуть, и чтобы мир проходил мимо меня. Однако во мне есть и другая сторона, которая страстно желает жить и хочет быть в состоянии действовать и жить интересной жизнью, свободной от страха. Но это такая изматывающая борьба — всегда бороться со страхами. Перспектива замужества выдвинула эти страхи на передний план. Я отчаянно хочу любить и в то же самое время боюсь принять любовь или даже в нее поверить. Я пыталась заставить себя приспосабливаться к жизни в одиночку, но я отчаянно нуждаюсь в помощи».
Представляется, что те реальные достижения развития ее «эго повседневной жизни», которые были получены в результате ортодоксального анализа в начале лечения, позволили ей смотреть в лицо регрессировавшему младенцу в себе. Но до тех пор, пока этот младенец не вырастет, никакая терапия не может быть завершенной. Безопасно ли и возможно ли заходить столь глубоко в лечении каждого пациента?
В данном месте возникают три практические проблемы: (1) Нас могут спросить, позволит ли нам увеличение знания о регрессировавшем инфантильном эго в шизоидной цитадели быстрее его обнаруживать и таким образом сокращать все удлиняющийся процесс психоаналитического лечения? Я не думаю, что это практически осуществимо полностью. Преждевременная интерпретация существования наиболее ушедшей части сложного эго не приведет к какому-либо результату, так же как преждевременная интерпретация какой-либо другой проблемы. Пациент либо не поймет такую интерпретацию, либо же воспримет ее смысл только разумом. Если пациент приблизился к эмоциональному проявлению этого базисного ухода, прежде чем он сможет это вынести, интерпретация этого ухода лишь усилит его защиты. Нет какого-либо короткого пути. Сильнейшие защиты пациента постоянно мобилизуются для того, чтобы скрывать его регрессировавшее эго и его пассивные потребности, ибо когда они начинают проявляться, он полагает, что действительно «распадается на части». Все эдипальные и компромиссные позиции, вовлеченные в его систему защиты, должны терпеливо прорабатываться, и в ходе этого процесса пациент начинает чувствовать себя достаточно сильным и достаточно хорошо понимаемым и поддерживаемым, для того чтобы столкнуться лицом к лицу с включением переполненного страхом младенца в лечение.
(2) Хоть мы и согласны с тем, что шизоидная проблема является основной, необходимо избежать ловушки, что ничто иное не имеет значения. Если мы пытаемся прямо добраться до этого стержня всех проблем, то лишь подгоняем состояние пациента под нашу теорию и блокируем его развитие, пытаясь заниматься решением проблем не в ходе их естественного развертывания, и в результате не узнаем ничего нового. Это приводит нас к преждевременной попытке свести все проблемы психотерапии к одной, во многом точно так же, как это сделал Ранк (1929), которому казалось, что он может сразу подойти к «травме рождения» и быстро все прояснить. Это было бы иллюзией. Пациент будет регулировать, как быстро может продвигаться анализ, тем, что и в каком объеме он может выдержать в ходе анализа. Можно иметь дело лишь с тем, что пациент продуцирует, и давать возможность следующей фазе развиваться из этого. Можно лишь тщательно следить за любыми признаками ухода, проявляемыми пациентом, и заботиться о том, чтобы не задерживать анализ, воспринимая конфликты по поводу секса и агрессии как конечные, когда пациент готов углубиться за их пределы. Мы не можем себе позволить концентрировать внимание исключительно на чем-то одном, будь это эдипальная проблема, депрессивная проблема или шизоидный уход и регрессия. Мы можем лишь признавать, что психоаналитическое исследование открывало эти проблемы именно в таком порядке, по мере все более глубокого проникновения. Мы должны использовать все концепции, которые релевантны проявлениям пациента, и принимать то «новое», что он открывает в себе. Психодинамическая теория не подходит к финалу. Когда пациенты начинают с продуцирования шизоидных и регрессивных реакций, они более тяжело больны, и в таких случаях сложность таких реакций огромна, и нам еще слишком мало известно о первичном развитии эго. Поэтому мы не должны превращать теорию в догму, а можем использовать ее в качестве указателя.
(3) Третий вопрос, который может быть здесь поставлен, заключается в том, что регрессировавший шизоидный пациент хочет, чтобы к нему относились как к ребенку, а аналитик считает, что пациенту не следует потакать в этом. Это является грубым упрощением. Даже когда истерическая драматизация болезни очевидна, внутри пациента скрывается младенец, подорванное базисное эго, которое нуждается в том, чтобы его принимали таким, каков он есть, чтобы ему помогли в той степени «терапевтической регрессии», которая окажется необходимой. Но в пациенте также наличествует антилибидинальное эго, которое ненавидит этого внутреннего младенца. Если пациент чувствует, что терапевт защищается от его глубочайших потребностей, это может принудить пациента выдвинуть эти потребности на передний план и стать требовательным и манипулятивным по отношению к аналитику (родителю), который отвергает его базисным образом. Если же, однако, он медленно осознает, что аналитик будет принимать и помогать ребенку внутри него, то в таких взаимоотношениях его антилибидинальные защиты могут быть открыто выражены, и пациент сопротивляется лечению, чтобы не зависеть от помощи аналитика. Анализ этой ситуации приводит к намного большему реальному прогрессу в движении к безопасной, спокойной, не охваченной тревогой и спонтанно любящей личности. Требовательный пациент, подобно требовательному ребенку, шумно требует любви, в которой, как он считает, ему отказывают. Сопротивляющийся пациент страшится принять любовь, которая, как он подозревает, окажется удушающей. В любом случае вполне вероятно, что пациент будет точно чувствовать базисное отношение аналитика, скрывающееся за его поведением. Вероятно, пациент с наиболее глубокими шизоидными проблемами — это пациент наиболее зависимый, в длительной перспективе, от степени реальной зрелости терапевта для достижения успешного результата. Мы нуждаемся в большем знании о повторном росте глубоко ушедшего инфантильного эго, спрятанного в глубинах бессознательного, и о том, какая связь с аналитиком требуется пациенту, чтобы сделать это возможным. Один пациент просто сказал: «Если я могу чувствовать, что меня любят, я уверен, что буду расти. Могу ли я быть уверен в том, что вы искренне заботитесь о ребенке во мне?» — утверждение, которое делает ясным, что в конечном итоге пациент ищет родительского руководства, достаточно надежного, чтобы аннулировать результаты ранней неудачи роста.