Человеческая природа и социальный порядок
Глава VII. Враждебность
Простой или животный гнев — Социальный гнев — Функция враждебности — Теория непротивления — Контроль и преобразование враждебности с помощью разума — Враждебность как удовольствие и боль — Значение общепринятых социальных норм — Страх
Я посвящаю эту главу враждебности не только потому, что она является важной стороной человеческой природы, но и потому, что мне хотелось бы использовать ее как типичный пример развития инстинктивной эмоции в социальной жизни. Процесс преобразования, о котором здесь пойдет речь, во многом аналогичен тому, что претерпевает чувство страха, любовь, горе и другие эмоции, которые я не стану рассматривать подробно.
Как и другие эмоции, гнев, похоже, существует с рождения как простая, инстинктивная, животная склонность и подвергается дифференциации и развитию вместе с ростом воображения. Перес, говоря о детях в возрасте примерно двух месяцев, пишет: «Они начинают отталкивать предметы, которые им не нравятся, их охватывает настоящий приступ волнения, дрожи, лицо их хмурится, краснеет, и иногда наворачиваются слезы». Они также выказывают гнев, когда не получают грудь или бутылочку, или когда их моют, раздевают, или когда отбирают у них игрушки. В возрасте примерно одного года «они готовы бить людей, Животных и неодушевленные предметы, если сердятся на них»104, бросают вещи в обижающих их людей и т. п.
104 The First Three Years of Childhood, p. 66.
Я наблюдал подобные явления, и, без сомнения, они знакомы всем, кто хоть немного общался с маленькими детьми. Если есть такие авторы, которые считают сознание новорожденных чуть ли не tabula rasa105 в том, что касается специфических инстинктов, содержащих нечто большее, чем только лишь способность восприятия и упорядочения впечатлений, то им было бы полезно повозиться с младенцами: они не смогут не заметить, сколь несомненны признаки четко выраженной и часто неистовой эмоции, явно идентичной с гневом и яростью взрослых. То что при этом чувствуют взрослые люди, отличается не по эмоциональной сути, а по степени видоизменения благодаря ассоциации с гораздо более сложной системой представлений.
105 Чистой доской (лат.) — Прим. ред.
Этот простой, животный род гнева, немедленно возбуждаемый чем-то неприятным для чувств, не полностью исчезает во взрослой жизни Наверное, большинству из нас, кому доводилось наступить на обод бочки или стукнуться головой о низкий дверной косяк, знакома эта вспышка инстинктивного гнева, направленного на предмет, причинивший боль. Даже наши более постоянные и стойкие чувства враждебности, похоже, часто имеют примесь этой непосредственной и стихийной эмоции. Большинство людей, и особенно те, кто обладает чувствительной, впечатлительной натурой, испытывают антипатию к тем или иным местам, животным, людям, словам — по сути, к самого разного рода вещам, — которая, по-видимому, исходит непосредственно из подсознательной жизни, минуя всякое размышление. Некоторые полагают, что животная, или инстинктивная, антипатия к людям иной расы естественна для всего человечества. И среди людей одной национальности всегда находятся типы, к которым окружающие испытывают отвращение — и не потому, что подозревают их в какой-то враждебности, а просто из животной антипатии. Даже когда наша враждебность направлена на сугубо интеллектуальные или моральные черты людей, мы часто их олицетворяем, ощущаем как нечто внешнее, то есть мы видим это как поведение, а не как мысли или чувства. Так, двуличность отвратительна независимо от того, понимаем мы ее мотивы или нет, и вызывает столь явственное ощущение чего-то скользкого и опасного, что человек невольно представляет себе некое извивающееся животное. Подобным же образом непостоянство, раболепие, чрезмерная напыщенность или самоуничижение, а также многие другие черты могут быть физически неприятны для нас хотя мы и не представляем их в качестве душевного состояния.
Но у социального, одаренного воображением существа, чьи главные интересы лежат в коммуникативной области мысли и чувства, основная сфера проявлений гнева, равно как и других эмоций, перемещается именно сюда. Враждебность перестает быть простой вызываемой простыми стимулами, и разбивается на бесчисленные враждебные чувства, ассоциированные с личными представлениями на высших уровнях воображения. В этих высших формах она становится враждебной симпатией или враждебным сопровождением симпатии.
Иными словами, мы, так сказать, входим при помощи симпатии или возражения в душевное состояние других людей (или думаем, что входим), и, если обнаруживаем там идеи, которые кажутся нам оскорбительными или противоречащими нашим собственным сокровенным мыслям, мы ощущаем приступ гнева.
Все это убедительно показано в небольшом, но замечательном исследовании антипатии Софи Бриан. Хотя антипатия, которую она описывает, принимает весьма утонченные формы, из ее анализа явствует, что его приемы применимы к любой форме опирающейся на воображении враждебности.
«Л вызывает на разговор В, чтобы почувствовать то, что чувствует он. Если новое чувство гармонирует, явно или подспудно, со всей системой сознания Л или его частью, идентичной его желаниям, то за этим следует тот радостный всплеск чувства я, который и есть симпатия. Но если этого не происходит — то есть если новое чувство не соответствует системе желаний А, а вносит в нее помехи и разлад, — тогда следует реакция целого против этой враждебной части, которая проецируется на В и отторгается вместе с В как угрожающая ему и оскорбительная антитеза собственному я». «Антипатия, — говорит она, — полна ужасной нервотрепки». «Особый ужас антипатии состоит в непроизвольной ответной реакции на то, что нам ненавистно. Мы реально ощущаем себя такими же: эгоистично тщеславными, безжалостно Деспотичными, ловко притворяющимися, неискренними, недобрыми и т. д.» «Существует некое сходство между людьми, испытывающими антипатию друг к другу»106. Сходное по смыслу замечание есть у Торо: «Удар можно получить только от того, что вас притягивает», а «тот, кому нанесено оскорбление, является до некоторой степени соучастником обидчика»107.
106 Mind, New series, vol. iv, p. 365.
107 Thoreau. A Week on the Concord and Merrimack Rivers, pp. 303, 328.
Таким образом, мотивы враждебности кроются в воображении и симпатии, ее вызывает недоброжелательность, приписываемая другому сознанию. Мы не можем испытывать ее по отношению к тому, что совершенно отлично от нас, поскольку таковое не доступно нашему воображению и не интересует нас. Враждебность, как и все социальные чувства требует единства сходства и различия.
Понятно, что тесное общение и глубокое знание друг друга — это еще не гарантия возникновения враждебных чувств. Смягчает близость наше чувство к другому человеку или нет, зависит от истинного отношения его мыслей и чувств к нашим, которое близость как раз и обнаруживает. Есть множество людей, с которыми мы очень хорошо ладим соблюдая определенную дистанцию, и которые стали бы для нас совершенно невыносимы, если бы мы жили с ними в одном доме. Наверное все мы в той или иной форме испытывали неприязнь и раздражение от вынужденной близости с людьми, которые вполне устраивали бы нас просто как знакомые и которых мы ни в чем особенно не можем упрекнуть, кроме излишней назойливости. Генри Джеймс, говоря об отвращении братьев Гонкур к Сен-Бёв, замечает, что это было «растение, орошенное частым общением и огражденное точными замечаниями»108. Правда, активное чувство справедливости может многое сделать для преодоления неразумной неприязни; но в жизни так много неотложных поводов для его приложения, что не следовало бы истощать его чрезмерной и ненужной нагрузкой. Справедливость предполагает напряженную и обоюдную работу воображения и разума, которую никто не может выполнять постоянно; и тому, кто сполна проявляет это качество в нужный момент, вполне можно извинить какие-то капризы или обиды в близком общении.
108 См.: James Я. On the Journal of the Brothers Goncourt.
Ни утонченность, ни культура, ни изысканный вкус сами по себе еще не обеспечивают ослабления враждебности. Они способны вызвать более глубокую и тонкую симпатию, но в то же время создают больше поводов для антипатии. Они напоминают острое чувство обоняния, которое может доставить наслаждение, а может и вызвать отвращение. Даже самая чувствительная симпатия и тонкая душевная организация не защищают от враждебных страстей. Совершенно очевидно, как показывает изучение жизни гениальных людей, что именно эти черты особенно мешали их нормальному и спокойному существованию. Почитайте, например, исповеди Руссо, и вы увидите, насколько тонкая, страстная натура, исполненная подлинного социального идеализма, подвержена необычайным страданиям и ошибкам из-за своих чувствительности и воображения. Чем больше в человеке симпатии и идеализма, тем острее его страдания от непонимания и неудач, тем сложнее ему упорядочить множество сильных впечатлений и сохранить трезвый взгляд на вещи. Отсюда пессимизм, нелепые обвинения по адресу реальных или мнимых обидчиков и нередко, как в случае с Руссо, почти безумные муки зависти и подозрительности.
Наиболее распространенные формы воображаемой враждебности коренятся в социальном чувстве я и проистекают из чувства обиды. Мы приписываем другим людям оскорбительные мысли в отношении чего-сокровенного в нашем я, и это вызывает гнев, который мы именуем досадой, злобой, обидой, отчуждением, раздражением, недовольством, ревностью, негодованием и т. д. — в зависимости от оттенка, предполагаемого этими словами. Все эти чувства питаются ощущением того, что представления о нас другого человека носят оскорбительный характер, так что сама мысль о нем уже задевает наше я. Допустим, например, что какой-то человек имеет основания полагать, что поймал меня на лжи. И даже не важно, прав он на самом деле или нет — если у меня еще осталось хоть какое-то чувство собственного достоинства и я убежден, что он невысокого мнения обо мне, я буду чувствовать возмущение и обиду всякий раз, когда вспомню об этом человеке. Или, допустим, какой-то человек видел, как я в панике бежал с поля боя — что, кроме ненависти, мог бы я испытывать к нему? Такие ситуации, возможно, редки, но все мы знаем людей, которым приписываем невысокое мнение о нашем характере, друзьях, детях, наших деловых качествах, искренности нашей веры или человеколюбия; такие люди нам не нравятся.
Возмущение предложенной помощью или жалостью представляет собой хороший пример враждебной симпатии. Если у человека есть чувство собственного достоинства, его оскорбляет недооценка его мужества, выражение сочувствия или подачки. Чувство собственного достоинства означает, что сознательное я соответствует социальному стандарту, а последний требует, чтобы человек не рассчитывал на жалость или благотворительность иначе как в исключительных обстоятельствах. Поэтому предположение, что он нуждается в них, оскорбительно — независимо от того, так это или нет; именно таким оскорблением для женщины было бы выражение сочувствия из-за ее некрасивой внешности и дурного вкуса и предложение носить вуаль или советоваться с кем-нибудь при выборе платья. Любопытно было бы знать, имеется ли у бродяги чувство собственного достоинства, если он обманывает того, кто оказывает ему помощь, и при этом чувствует превосходство над ним, не только зависимость. Тогда нам было бы легче понять, почему преступники презирают бедняков, живущих на пособие.
Слово «негодование» означает высшую форму воображаемой враждебности. Оно подразумевает, что это чувство направлено против нарушения норм справедливости и права, а не является простым импульсом, как ревность или раздражение. Оно гораздо более рационально и включает представление о разумных пределах личных притязаний которые переступают вызывающие его помыслы и поступки. Мы часто видим, что в своих простейших формах обида не имеет под собой никакой разумной основы, никаких серьезных оправданий; зато негодование апеллирует к всеобщим, социальным основаниям. Мы негодуем при мысли о том, что фаворитизм, а не реальные заслуги помогают служебному продвижению, или о том, что богатый человек получает право свободного проезда по железной дороге и т. д.
Таким образом, враждебность можно грубо классифицировать по трем пунктам, в соответствии со степенью присущей ей умственной организации, а именно:
— Первичная и непосредственная, или животная.
— Социальная, симпатическая и воображаемая, или личная; сравнительно непосредственная, то есть не подчиняющаяся каким-либо нормам справедливости.
— Разумная, или этическая; она сходна с предыдущей, но считается с нормами справедливости и голосом совести.
Функция враждебности состоит, без сомнения, в том, чтобы активизировать энергию сопротивления, усиливать эмоциональную мотивацию, направленную на самосохранение или развитие.
Эта функция на уровне непосредственной, или животной, враждебности достаточно очевидна. Вспышка ярости, охватывающая бойцовую собаку, подстегивает и концентрирует ее энергию в моменты битвы, от победы или поражения в которой зависит жизнь или смерть; и простой, неистовый гнев детей и импульсивных взрослых — явление явно того же порядка. Жизненная сила получает взрывной выход во вспышке агрессии; сознание оказывается полностью затопленным неистовым инстинктом. Ясно, что такого рода неконтролируемая враждебность характерна для примитивной общественной организации или для военного времени; но она же может стать источником беспорядков и ослабления высокоразвитого общества, которое предполагает соответствующую организацию индивидуального сознания.
Различие между безрассудным гневом и гневом, питаемым воображением и размышлением о людях, выражающим все оттенки и аспекты представления личности о самой себе, — это различие плавного, чти незаметного перехода. Сама эмоциональная вспышка, которую переживаем в гневе, ничем, по-видимому, существенно не отличается в обоих случаях, разве что по интенсивности; основное различие заключается в представлении, вызывающем гнев. Это похоже на то, как если бы гнев был острой и специфической приправой, которую можно добавлять как к самой простой, так и изысканной пище, добавлять, не мудрствуя, только ее одну, обильно или же в замысловатых и изощренных комбинациях с другими приправами.
В то время как животный гнев является одним из тех инстинктов, которые вполне объяснимы потребностью в самосохранении, подобное оправдание социализированного гнева, возможно, не столь убедительно. Я думаю тем не менее что, при всей своей тяге к безудержности и неуправляемости, при том, что он становится все более сдержанным по мере общественного развития, при том, что большинство его форм справедливо считаются вредными, гнев все же играет необходимую роль в жизни.
Человечество в массе своей инертно, и лишь какое-то возмущение способно его расшевелить; а это и есть функция гнева как на высшем, так и на низшем уровнях жизни. Окружите человека лестью, тешащей его тщеславие, и в девяти случаях из десяти он окажется неспособным сделать что-либо стоящее, зато скатится к той или иной форме сенсуализма и дилетантизма. Для натуры сильной и стойкой необходимо тонизирующее средство, например огорчение — «erquickender Verdruss»109, как говорит Гете. Жизнь без противостояния и вражды есть Капуя. И не важно, какая роль отведена человеку в этой жизни — он сможет добиться чего-нибудь на своем пути, только энергично штурмуя препятствие, а штурм требует яростных чувств, своего рода страсти. Большинство из нас способны на это только в состоянии возмущения; я убежден, что и здравый смысл, и внимательный взгляд подтвердят, что лишь немногие выдающиеся люди бывают лишены сильного враждебного чувства, которому они дают волю при случае. В этом нет ничего невероятного, 10 большинство людей настолько непроницательны и ненаблюдательны — как по отношению к себе, так и по отношению к другим, — что способны поверить, будто гнев, который принято осуждать, считая его злом, не может служить мотивом для моральных личностей. Представьте себе человека, который выделяется из общей массы тем, что агрессивно, упорно и успешно выступает в защиту справедливости. Он делает то, что все остальные считают правильным и необходимым, но сами не делают — особенно если это связано с личностным противостоянием. В то время как другие лишь на словах порицают коррупцию в политике, но не торопятся покидать свои посты и исправить ситуацию, он смело бросает вызов коррумпированным чиновникам в своей округе, подает на них в суд или публично разоблачает в прессе — и все это стоит ему боли и нервов, но он не рассчитывает на почести или какое-то вознаграждение. Задумаемся: а чем, собственно, он отличается от других честных и добросовестных людей таких же способностей и возможностей? Наверное, главным образом, тем, что в нем больше этой желчной раздражительности. Он обладает природным запасом враждебности, но, вместо того чтобы слепо растрачивать его во вред окружающим, направляет его против того, что мешает общему благу, удовлетворяя свою врожденную склонность к негодованию моральным и плодотворным образом. Побольше бы людей такого склада — это пошло бы только на пользу моральному состоянию страны. Современные условия, похоже, мало способствуют консолидации праведного гнева против зла — гнева, который, если он разумно направлен, является главным инструментом прогресса.
109 тонинизирующая неприятность (нем.) — Прим. ред.
Томас Хаксли, если обращаться к самым известным именам, был человеком, преисполненным плодотворной враждебности. Он не искал ссор, но, когда враги того, что он считал истиной, поднимали голову, он не колеблясь шел в бой; он и не скрывал — может, с излишним жаром нарушая известную заповедь, — что он любит своих друзей и ненавидит своих врагов110. Но это была благородная ненависть, и читатель его «Жизни и писем» едва ли усомнится в том, что он был не только великим, но и добрым человеком, — как и в том, что быть таковым ему помогал его воинственный характер. В самом деле, я не думаю, что наука или литература могут обойтись без духа противоречия, хотя это отнимает много энергии и омрачает многие умы. Даже такие люди, как Дарвин и Эмерсон, которые, похоже, больше всего на свете желали жить в мире и ладу с окружающими, развивали свои взгляды с необычайной последовательностью и силой, не боясь никаких авторитетов. Всякая интеллектуальная деятельность чем-то напоминает жизнь политической партии: мнения более или менее четко разделяются на оппозиционные группы, которые вынуждают друг друга яснее формулировать, доказывать и корректировать свои взгляды, чтобы оправдать себя в глазах сторонников, к которым они апеллируют. Необходимо, чтобы эта полемика не прекращалась, а велась с искренним и неизменным уважением к истине.
110 См.: Huxley T. Life and Letters, vol. ii, p. 192.
Праведное возмущение — это не только необходимый стимул для воинственной справедливости: оно способно благотворно повлиять и сознание человека, против которого направлено, пробуждая ощущение значимости тех чувств, которые он попрал. На высшем уровне жизни понимание, основанное на воображении того, что в сознании других людей поселилось чувство возмущения против нас, выполняет ту же роль, что и физическое сопротивление на низших уровнях111. Это выпад против моего я, и, как симпатическое и одаренное воображением существо, я чувствую его сильнее, чем простой физический удар. Он заставляет меня либо считаться с чужим мнением, либо противопоставить ему более сильные аргументы. Таким образом, чужое мнение властно вторгается в наши моральные суждения.
111 Ср: Simon N. Pattern's Theory of Social Forces, p. 135.
Our love that we may be
Each other's conscience»112.
Нашу любовь, чтобы мы могли быть
Совестью друг друга.
112 Thoreau. A Week, etc., p. 304.
Я думаю, что характер и намерения человека могут заслужить уважение, только если его считают способным на отпор и возмущение. Мы полагаем, что если человек искренне предан какому-то делу, то любые нападки на это дело должны вызывать у него враждебное чувство; если же этого не происходит сразу или спустя какое-то время, то и к его делу, и к нему самому начинают относиться с презрением. Ни один учитель, например, не сможет поддерживать дисциплину, если его ученики чувствуют, что его не возмущает ее нарушение.
По той же причине мы редко по-настоящему осознаем неправильность собственных действий — пока наконец не обнаружим, что они бывают возмущение у окружающих; с каким бы агрессивным эгоизмом мы ни вели себя, но если он не встречает сопротивления, то мы вскоре начинаем смотреть на свое поведение как на нечто нормальное, само собой разумеющееся. Размышления и опыт позволяют мне не доверять теории, согласно которой непротивление, как правило, оказывает смягчающее влияние на агрессора. Я не хочу, чтобы люди подставляли мне другую щеку, потому что хуже от этого будет прежде всего мне самому. Я быстро привыкну к повиновению и буду думать о страдальце-непротивленце не больше, чем о ягненке, чье мясо ем на обед, с другой стороны, отчаянное сопротивление и обличение ничуть не лучше — они, скорее всего, спровоцируют меня на припадок безумного гнева. Но для всех нас было бы благом, если бы каждый отстаивал свои права и права тех, кому он оказывает сочувствие, проявляя справедливое и твердое негодование против любой попытки их попрать. Основанное на опыте осознание того, что нарушение моральных норм вызовет возмущение в умах тех, чье мнение мы уважаем, служит главным фактором поддержания таких норм.
Но теория непротивления, как и все идеи, взывающие к добропорядочным умам, содержит в себе скрытую истину, несмотря на кажущуюся вопиющую абсурдность. Подлинный смысл этой доктрины в том виде, как она излагается в Новом завете или проповедуется многими лицами и целыми сообществами в наши дни, сводится, наверное, к следующему: мы должны отказаться от грубых средств и приемов сопротивления в пользу более утонченных и возвышенных и угрожать моральным возмущением вместо кулаков или судебных тяжб. Несомненно, что с пороками обычных людей лучше всего бороться, взывая к лучшим качествам их личности, чем порицая худшие. Если нам кажется, что человек готов совершить какой-то жестокий или бесчестный поступок, мы можем противостоять ему двояко: либо опуститься до его уровня и сбить его с ног ударом кулака, а потом вызвать полицию, либо попытаться достучаться до высших этажей его сознания, убеждая в своей уверенности, что он, с его-то чувством собственного достоинства и приличной репутацией, не уронит себя. Но если столь невероятная беда случится, он должен быть готов к тому, что мнение о нем тех, кто прежде думал о нем хорошо, резко изменится. Другими словами, мы в самой вежливой форме угрожаем его социальному я. Этот метод часто гораздо более эффективен, чем первый, он морально убеждает, а не унижает; он обычен для тактичных людей, отнюдь не претендующих, что о добродетельнее других.
Это похоже на то, что понимают под непротивлением, но сам термин вводит в заблуждение. Это и есть сопротивление, и оно нацелено на предполагаемое самое уязвимое место врага. Стратегически это атака на его фланг, удар по незащищенной части его позиции. Оправданием, в конечном счете, тут служит успех. Если же он не достигнут, не подобрали ключ к душе такого человека и не убедили его принять вашу точку зрения, то весь маневр был напрасен и принес только вред — злодей лишь утвердится в своем поведении; уж лучше было бы послать его в нокаут. Это правильно, что мы взываем к высшим мотивам и верим, что их можно пробудить, но настоящее непротивление злу — это просто малодушие. Наверное, есть такие — не слишком, впрочем, влиятельные — секты и проповедники, которые действительно верят в это учение и считают, что название «непротивление» было присвоено апелляциям к высшему я в силу превратного и незрелого представления, будто сопротивление обязательно должно принимать ту или иную осязаемую материальную форму и будто бы всем учителям приходилось менять свою тактику сообразно типу людей, с которыми они имеют дело. Хотя Христос и учил подставлять другую щеку обидчику и отдавать последнюю рубашку, он, похоже, не предлагал осквернителям храма удвоить свои старания — наоборот, считая, видимо, что бесполезно взывать к их морали, «вошел в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих во храме, и опрокинул столы менял и скамьи продающих голубей»113. Кажется, он даже прибегнул при этом к плети. Я не вижу в вопросе о непротивлении ничего, кроме путаницы в терминах и разнобоя во мнениях о том, какого рода сопротивление наиболее эффективно в тех или иных случаях.
113 От Матфея 21:12 — Прим ред.
Мы часто и привычно слышим утверждения об исключительном значении любви в человеческих идеалах. Никто, я полагаю, не поверит, что нормальный человек смог бы долго выдержать жизнь ангелов Фра Анжелико, изображенных в его «Страшном суде» порхающими над цветущей лужайкой Рая. Если такая жизнь иногда и кажется прекрасной и желанной, то, наверное, потому, что в нашем мире любви, дружбы и покоя куда меньше, чем хотелось бы. Многим из нас случалось в жизни страдать от жары и жажды, когда казалось, что островок тени и глоток холодной воды — это предел земных желаний. Но стоило нам оказаться в прохладе и рядом с водой, и мы тотчас же начинали думать о чем-то другом. То же самое и с идеалами покоя и любви. Даже те чувствительные души, которым они наиболее дороги, едва ли могли бы прожить только ими одними. Сплошные и неизменные дружеские отношения в конечном счете, невыносимы.
Человеческие идеалы и человеческая природа должны развиваться совместно, и нам не дано предвидеть, какими они могут стать; но в настоящее время представляется, что честный и разумный идеализм должен быть направлен скорее на упорядочение и управление страстями по законам добра и справедливости, чем на вытеснение одних страстей другими. Я сомневаюсь в том, что может существовать сколь-нибудь здоровая и действенная любовь, оборотной стороной которой не было бы негодование. Как можно что-то любить и не возмущаться нападкам на предмет своей любви?
Очевидно, что высшая функция враждебности — противостоять злу, и, чтобы выполнять эту функцию, она должна разумно руководствоваться идеалами справедливости. Человек со здравым и активным социальным воображением чувствует необходимость в таком руководстве и более или менее энергично — в зависимости от остроты ума — старается сдерживать свое негодование по отношению к тому, что кажется ему несправедливостью и злом. Воображение представляет нам всевозможные спорные точки зрения, которые разум, чья суть — организация, пытается упорядочить и контролировать в соответствии с неким универсальным принципом, нормой справедливости: моральные принципы проистекают из инстинктивной потребности сознания достичь единства во взглядах. Все специфические импульсы, в том числе и чувство враждебности, выносятся на суд совести и оцениваются по критериям, вырабатываемым сознанием. Признанное правильным и законным негодование одобряется и усиливается волей; праведное негодование позволяет нам даже гордиться собой. Но если окажется, что оно никак не связано с универсальным принципом, мы, хорошенько поразмыслив, отвергаем его и стараемся со всей возможной энергией игнорировать и подавить. Так, мы не обращаем внимания на случайные обиды, сдерживаем или избегаем мелких антипатий; другое дело — возмущение. Последнее носит устойчивый характер, так как основано на холодном рассудке, тогда как импульсивный и безрассудный гнев быстро проходит.
Предположим, к примеру, что человек обращается с просьбой некоему должностному лицу и встречает грубый отказ. В первый момент его конечно же охватывает слепой и бездумный гнев. Но потом он начинает осмысливать ситуацию, пытаясь представить себе мотив и чувства, которыми руководствовался чиновник, и гнев принимает более острую и личную форму, он терзает там, где сначала только ужалил. Но если это воистину разумный человек, привыкший считаться нормами справедливости, он успокаивается и старается посмотреть вещи шире, поставить себя на место своего обидчика и оправдать, если это возможно, его поведение. Может быть, этого чиновника постоянно задают настойчивыми просьбами, так что холодность и резкость необходимы ему для того, чтобы справляться с делами и т. д. Если такого объяснения недостаточно и грубость чиновника все равно воспринимается как элементарная наглость, мы продолжаем им возмущаться всякий раз, когда вспоминаем о нем, так что, будь у нас возможность, мы, вероятно, постарались бы пресечь его деятельность, и наши действия как в чужих, так и в собственных глазах были бы морально оправданы.
Или, допустим, человек вынужден стоять в длинной очереди на почте, ожидая получения своей корреспонденции. Очередь движется медленно, это утомляет и раздражает, но он относится к этому спокойно, так как понимает, что все в очереди находятся в одинаковой ситуации. И вдруг картина терпеливого ожидания меняется: кто-то бесцеремонно пытается пролезть к окошку без очереди. Разумеется, это вызывает гнев нашего персонажа. Грозящая задержка — дело всего нескольких секунд, но это вопрос справедливости, веский повод для негодования, для осмысленной вспышки гнева.
Другой аспект преображения враждебности при помощи разума и воображения состоит в том, что она становится более разборчивой или избирательной в отношении представления о том человеке, против которого она направлена. В известной мере высшие формы враждебности носят менее личностный характер, чем низшие, — в том смысле, что это уже не слепая враждебность к человеку в целом, а такая, которая как-то различает между теми сторонами и склонностями его личности, которые вызывают неприязнь, и теми, которые вполне терпимы. Это не просто мысль о выражении лица X или другой символ, который пробуждает негодование, а мысль о проявленных им неискренности, высокомерии или чего-то еще, что может нам не понравиться; при этом мы можем сохранить расположение к нему за другие его качества. Вообще говоря, в каждом человеке, если присмотреться, немало положительного и располагающего к себе, так что если мы чувствуем к кому-то одну лишь враждебность, то, наверное, потому, что мы воспринимаем его личность односторонне. Безудержный гнев, как и любая другая недисциплинированная эмоция, всегда приводит к такому одностороннему и неразборчивому восприятию, так как он подавляет взвешенную мысль и заставляет нас видеть все лишь в собственном свете. Но более сдержанное чувство делает возможным и более справедливый взгляд, так что начинаешь верить, что мы должны любить своих врагов, но и не мириться с недостатками наших друзей. Справедливых родителей или учителей возмущает непослушание ребенка, но они не перестают из-за этого любить его; тот же принцип остается в силе в отношении преступников и всех прочих объектов справедливой враждебности. Отношение общества к преступным элементам должно быть суровым и все же сочувственным, как отношение отца к непослушному ребенку.
В современной жизни наметилась тенденция — благодаря развитию воображения и растущему взаимопониманию разных людей — не доверять и воздерживаться от поспешных заключений импульсивной мысли, будто, например, все, кто совершил насилие или кражу, суть закоренелые и презренные злодеи, и только; кроме того, мы начинаем сознавать фундаментальное единство и сходство человеческой натуры, в чем бы она ни проявлялась. Негодование против зла, без сомнения, не должно исчезнуть. Но в то же время, продолжая бороться со злом самыми действенными средствами, мы, кажется, все больше начинаем понимать, что люди, совершавшие преступления, очень похожи на нас самих и действуют, исходя из мотивов, которые свойственны и нам.
Часто утверждают, что враждебное чувство по самой своей сути неприятно и мучительно для человеческого сознания и живет, так сказать, вопреки нашей воле, потому что навязывается нам конкурентными условиями существования. Эта точка зрения едва ли верна. На мой взгляд, ментальный и социальный вред гнева, как показывает опыт, обусловлен не столько его особым характером как враждебного чувства, а тем фактом, что, как и вожделение, он перенасыщен инстинктивной энергией, так что его трудно контролировать и удерживать в нормальных функциональных рамках; а если его не дисциплинировать должным образом, он конечно же вносит беспорядок и болезненное расстройство в душевную жизнь.
Для нормального и здорового человека, обладающего массой нерастраченной энергии, всеобъемлющий гнев — это не только не болезненное переживание, а, наоборот, можно сказать, это благотворная разрядка, если только этот порыв полностью контролируем. Человек ярости ощущает всю полноту жизни и не спешит выходить из этого импульсивного состояния, отмахиваясь от увещеваний, когда его пытался успокоить. И, лишь когда оно начинает надоедать ему, его на самом деле удается утихомирить. Такое поведение наблюдается у импульсивных детей и тех взрослых, которые не владеют своими страстями.
Стойкая и постоянная ненависть тоже может служить источником удовольствия для некоторых умов, хотя, наверное, это уже редкость в щи дни и со временем станет еще реже. Тот, кому доводилось читать сильное и искреннее, хотя и несколько болезненное эссе Хэзлитт «Об „довольствии ненавидеть“», мог убедиться, что такое возможно. В большинстве же случаев человек чувствует угрызения совести и опустошенность после того, как утихает припадок ярости; он начинает отдавать отчет в его деструктивной несовместимости со сложившимся порядком и гармонией своего сознания. Приходит мучительное чувство греха, разрушенного идеала — точно так же как после подчинения любой другой безудержной страсти. Причина этого болезненного переживания, по-видимому, лежит не в особом характере самой эмоции, а в ее чрезмерной интенсивности.
Любая простая и сильная страсть, вероятно, сопровождается болезненными и вредными последствиями, поскольку она разрушает ту гармонию и синтез, к которым стремятся разум и совесть; и пагубность этих последствий осознается все больше и больше по мере развития цивилизации усложнения ее умственной жизни. Условия цивилизации требуют от нас усиленного и непрерывного расхода физических сил, так что мы уже не обладаем таким переизбытком эмоциональной энергии, чтобы позволить себе щедро разбрасываться ею. Навыки и принципы самоконтроля естественным образом формируются по мере усиления потребности в экономном и рациональном управлении эмоциями, и любое их нарушение вызывает опустошение и раскаяние. Любая грубая и буйная страсть ощущается как «бесстыдная растрата духа». Спазмы яростного чувства характерны для человека, ведущего апатичный образ жизни, чьей нерастраченной энергии они дают выход, и столь же неуместны в наши дни, как и привычка наших саксонских предков к сильному пьянству. Людям, ощущающим сильную потребность во враждебности как стимуле для самореализации, присущ, я полагаю, переизбыток жизненной энергии вкупе с несколько вялым темпераментом — таковы, например. были Гете и Бисмарк, заявлявшие, что враждебность им необходима. Много случаев архаического проявления личной ненависти встречается до сих пор в отдаленных и глухих местах, — например в горах Северной Каролины, да, наверное, и повсюду, где люди еще не слишком сильно ощущают на себе влияние цивилизации. Но для большинства из тех, кто целиком живет жизнью своего времени, сильная личная враждебность мучительна и деструктивна, и многие тонкие натуры не будучи в силах побороть ее.
Наиболее характерный для нашего времени тип человека, как я его понимаю, не позволяет ввергать себя в пучину сугубо личной ненависти, он проявляет терпимость к разного рода людям. Но при этом тем не менее он испытывает пусть умеренный, но твердый антагонизм к любым проявлениям или намерениям, которые противоречат его истинному я, всему, что ему особенно близко и с чем он себя отождествляет. Он всегда вежлив, старается, по возможности, питать к окружающим те дружеские чувства, которые не только приятны и облегчают общение, но и во многом способствуют успеху его деловых начинаний; он не тратит энергию на пустые волнения и способен ясно мыслить и действовать непреклонно, когда находит, что антагонизм необходим и неизбежен. Человек современного мира почти никогда не ведет себя столь драматично, как шекспировские герои. Он, как правило, держится очень сдержанно и если вынужден, например, прибегать к угрозе, то умеет выразить ее движением губ, построением фразы в вежливом замечании. Если необходима более жесткая и прямолинейная тактика, чтобы урезонить грубую натуру, он, скорее всего, переложит эту неприятную работу на подчиненного. Бригадир железнодорожных рабочих должен быть громкоголосым, с крепкими кулаками и откровенно агрессивным человеком, но президент железнодорожной компании обычно говорит тихо и обладает мягкими манерами.
В контроле за враждебностью сознанию во многом помогает наличие готовых и социально одобренных норм справедливости. Страдая от чужих и собственных болезненных и злых страстей, человек старается опереться на какие-то правила и критерии, позволяющие определять, что справедливо и законно в отношениях между людьми, и тех самым смягчать антагонизм, устраняя чувство острой обиды. Как таковые, противоречия между людьми, не выходящие из определенных границ, должны быть признаны частью разумного порядка вещей. С это точки зрения функции моральных норм аналогичны функциям юстиции при более крупных конфликтах. Все добропорядочные граждане заинтересованы в четких и энергично проводимых в жизнь законах, ограждающих от смуты, ущерба и разрушений, сопровождающих анархию. Точно так же здравомыслящие люди заинтересованы и в четких моральных нормах, подкрепленных общественным мнением, защищающих от душевного опустошения и неистовства неуправляемых чувств. Человек, встревоженный охватившим его враждебным чувством, испытывает большое облегчение, когда принимает точку зрения, с которой враждебность предстает как зло и иррациональное чувство, так что он может, не колеблясь и опираясь на разум, подавлять ее. Еще лучше, наверное, питать враждебное чувство с явного одобрения разума, когда одолевают излишние сомнения. Неопределенность в такой ситуации хуже всего.
Подобный контроль над враждебностью на основе общепризнанных правил хорошо иллюстрируют спортивные соревнования. Организованные должным образом, они способствуют ясному пониманию того, что честно и справедливо, и, пока эти правила честной игры соблюдаются, никому не приходит в голову всерьез выходить из себя, получив ушиб или какое-то повреждение. То же самое происходит и на войне: солдаты не обязательно испытывают гнев к противнику, который ведет по ним огонь. Все это воспринимается как неизбежное соблюдение правил игры. Говорят, начальник штаба адмирала Севера как-то сказал адмиралу Сэмсону: «Понимаете, в этом нет ничего личного». Но если белый флаг выбрасывают вероломно, применяют разрывные пули или как-то иначе попирают моральные нормы, это вызывает тяжелое чувство. Во многом то же самое происходит с многообразными конфликтами интересов в современной индустриальной жизни. Отнюдь не очевидно, что конкуренция, как таковая, ведется она чистоплотно или нет, как-то способствует нарастанию враждебности. Конкуренция и столкновение интересов неотделимы от деятельности и воспринимаются как должное. Неприязнь процветает в активном, динамичном обществе не более, чем в застойном. Проблема наших индустриальных отношений состоит не столько в расширении конкуренции, сколько в недостатке прочно устоявшихся законов, правил и обычаев, определяющих, что в ней честно и справедливо. Этот недостаток стандартов связан с быстрыми изменениями в промышленности и производственных отношениях между людьми, за которыми развитие права и моральных критериев просто не успевает. А это порождает огромную неопределенность в том, что могут честно и справедливо требовать отдельные личности и классы от других личностей и классов, и такая неопределенность дает волю разгневанному воображению. Теперь должно быть ясно, что я не рассматриваю любовь, гнев или любое другое чувство как сами по себе хорошие или плохие, социальные антисоциальные, прогрессивные или реакционные. Мне кажется, по-настоящему благим, социальным и прогрессивным фактором в этом отношении является организация и дисциплина всех эмоций с помощью разума и в гармонии с развивающейся общественной жизнью, подытоженные нашей совестью. То, что общественное развитие имеет тенденцию окончательно изжить враждебное чувство, не очевидно. Деятельно-добрые, справедливые люди, реформаторы и проповедники — не исключая и того, кто изгнал менял из храма, — были и остаются, по большей части, людьми, способными испытывать негодование; и непонятно, как может быть иначе. Многообразие человеческих сознаний и стремлений составляет, по-видимому, сущностную черту всеобщего порядка вещей, и нет никаких признаков, что оно уменьшается. Это многообразие предполагает конфликт идей и интересов, и люди, относящиеся к конфликтам серьезно, будут, скорее всего, испытывать враждебное чувство. Но оно должно стать менее своенравным, неистовым, горьким, менее личным в узком смысле слова — и более дисциплинированным, рациональным, осмотрительным и отходчивым. То, что оно должно исчезнуть, конечно же невероятно.
Сказанное о гневе в основном верно и по отношению к любой отчетливо проявляющейся инстинктивной эмоции. Например, если мы возьмем страх и попытаемся вспомнить наше переживание его начиная с раннего детства, то станет ясно, что эта эмоция сама по себе почти не изменяется, тогда как представления, события и воздействия, которые возбуждают ее, зависят от уровня нашего интеллектуального или социального развития и, таким образом, претерпевают большие изменения. Это чувство имеет тенденцию не исчезать, а становиться менее сильным и хаотичным, приобретая все более социальные формы в отношении объектов, которые возбуждают его, и все более покоряясь, в лучших умах, дисциплине разума.
Страх маленьких детей114 в основном вызывается непосредственными чувственными переживаниями — темнотой, одиночеством, резкими звуками и т. д. Впечатлительные люди часто остаются во власти иррациональных страхов подобного рода на протяжении всей жизни, эти страхи, как известно, играют заметную роль в истерии, безумии и других душевных недугах. Но у большей части здоровых взрослых со знание привычно и равнодушно реагирует на столь простые раздражители и направляет свою эмоциональную восприимчивость на боле сложные интересы. Эти интересы по большей части связаны с отношениями симпатии, в которые вовлечено наше социальное, а не материальное: то, как мы предстаем в сознании других людей, благополучие тех, кого мы любим и т. д. Тем не менее эти страхи — страх одиночества, потери своего места в жизни или утраты симпатий окружающих, страх за репутацию и успех близких — часто носят характер именно детского страха. Человек, потерявший привычную работу, надежное положение в мире, испытывает ужас, подобный тому, что испытывает ребенок в темноте, — столь же импульсивный и, возможно, беспредметный и парализующий. Основное различие, по-видимому, состоит в том, что страх взрослого подогревается сложным представлением, предполагающим наличие социального воображения.
114 Ср.: Hall G. S. Fear // The American Journal of Psychology, vol. 8, p-
Социальный страх нездорового рода ярко изображен Руссо в том месте его «Исповеди», где он описывает чувство, побудившее его к ложному обвинению горничной в воровстве, им же самим и совершенном. «Когда она вошла, мое сердце чуть не разорвалось на части, но присутствие стольких людей действовало на меня так сильно, что помешало моему раскаянию. Наказания я не очень боялся, — я боялся только стыда, но стыда боялся больше смерти, больше преступления, больше всего на свете. Мне хотелось исчезнуть, провалиться сквозь землю; неодолимый стыд победил все; стыд был единственной причиной моего бесстыдства, и чем преступнее я становился, тем больше боялся в этом признаться и тем бесстрашнее лгал. Я думал только о том, как будет ужасно, если меня уличат и публично, в глаза, назовут вором, обманщиком, клеветником…»115116.
115 Ж.-Ж. Руссо. Исповедь. М., 1949, ее. 102–103.
116 Ужасы наших снов вызваны в основном социальными образами. Так, Стивенсон в одном из своих писем говорит о «моих обычных снах о социальных бедствиях и недоразумениях и всякого рода страданиях духа». — Stevenson R.L. Letters, i, p. 49. Многим из нас знаком сон, когда мы оказываемся неодетыми в людном месте.
Итак, мы можем выделить, как и в случае с гневом, высшую форму социального страха — страха, который не носит узколичностного характера, а связан с неким идеалом добра и справедливости социального происхождения. Например, ужас солдата при звуках орудийных залпов и свистящих пуль — это ужас низшего, животного типа. Боязнь бесчестья за бегство с поля боя была бы уже социальным страхом, хотя и не самого высшего рода, так как при этом боятся не совершения неправого дела, а стыда — сравнительно простой и внерациональной идеи. Люди часто идут на заведомое зло под влиянием такого страха, как это и произошло с Руссо в упомянутом выше случае. Но если допустит, что высший идеал солдата заключается в победе его армии и страны, то его страх перед поражением, превозмогающий все низшие грубые страхи — эгоистические страхи, как их обычно называют, — был бы моральным и этичным.





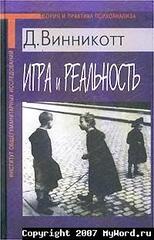
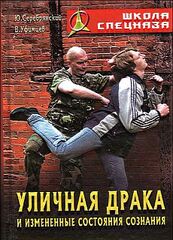


![Секретный мир детей в пространстве мира взрослых[4-е издание], Осорина Мария](http://bookap.info/book/osorina_sekretnyy_mir_detey_v_prostranstve_mira_vzroslyh4_e_izdanie_2008/cover-large.jpg)



