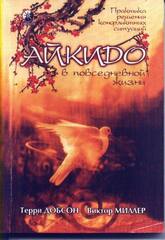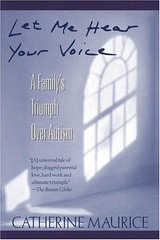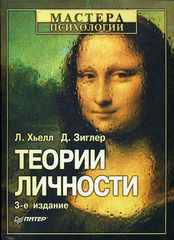Глава 5
В отличие от доктора Бермана, который до сих пор сомневался в правильности диагноза Анн-Мари, мы потеряли всякую надежду на то, что он ошибочен. Состояние дочери явно ухудшалось день ото дня. К середине января она даже перестала поднимать голову, когда кто-нибудь входил или выходил из квартиры. Часто, сидя на полу, она смотрела на мелкие пылинки, подносила их к глазам и долго разглядывала, словно под гипнозом. Она отрывала ворсинки с ковра, нитки с мебели или волосы с куклы, а потом накручивала их на пальцы и с увлечением рассматривала. В другой раз она ритмично сталкивала перед собой два предмета, заинтересованная сочетанием звука и картинки (?).
Её занятия становились всё более странными. Я почти в панике наблюдала за тем, как она сотрировала части мозаики "пазл", а потом раскладывала их по парам, всегда под прямым углом друг к другу, и неотрывно смотрела на них. Ну пожалуйста, детка, ради Бога, не делай этого! Почему ты это делаешь?
На Рождество мы подарили ей игрушечного медвежонка. Мы надеялись, что она будет обнимать и гладить его, как любой нормальный ребёнок. Вместо этого у неё появился странный ритуал: она снова и снова протаскивала медвежонка через нижние перекладины стула.
Её поведение также становилось всё более необычным. Ещё с того момента, когда дочь сделала свой первый шаг, она иногда ходила по дому на цыпочках. В последнее время это стало её постоянной привычкой. Кроме того, однажды я заметила у неё новую особенность в поведении: девочка, как всегда, сидела на полу с мечтательным выражением лица, как вдруг она вытянула шею и заскрежетала зубами. При взгляде на такое я с трудом удержалась, чтобы не закричать от ужаса. Меня переполняло сознание собственной беспомощности. Иногда я даже замечала, что тихонько постанываю, глядя на какую-нибудь новую странность.
Однажды утром безо всякой причины Анн-Мари подняла обе руки и стала бить ими себя по лицу: один, два, три удара последовало до того, как я в страхе кинулась к ребёнку, и отняла руки от лица.
Нам всё труднее становилось завоёвывать её внимание. Она либо проводила бесконечные часы, уставившись на что-то в своих руках, либо бесцельно слонялась из комнаты в комнату, обращая внимания не на людей, а на вещи.
Сколько времени прошло с рождения Мишеля? Несколько недель? Казалось, что прошла целая жизнь. Дни превратились в череду длинных пустых часов, которые надо было прожить с неумолимой определённостью. Было очень важно держаться всем вместе, делать то, что я должна была делать для всех троих детей. Я была их матерью, и они нуждались в моей заботе и любви. Я старалась не плакать слишком много в течение дня: не хотелось пугать Даниэля.
Однако, одним утром, он пришёл ко мне в спальню и застал меня в слезах. Он остановился испуганный. Мамы не должны плакать. Его тёмно-карие глаза тут же наполнились слезами. — Мамочка, ты плакаешь? — Да, милый, но сейчас уже всё прошло. Он стоял передо мной, пытаясь понять и облечь в слова то, что чувствовал. Я не могла представить, как он воспринимал окружавшую его атмосферу кризиса и страха. Мы постоянно ходили куда-то, взяв с собой Анн-Мари, говорили о ней по телефону, фокусировали на ней всё наше внимание. Это становилось похоже на манию. Даниэль до поры до времени казался достаточно довольным и спокойным, но я знала, что он был очень чувствительным и ранимым ребёнком. Я ждала, пока он заговорит. — Мамочка, ты ходить к доктору? — в его голосе была тревога. — Да. — Ты брать с собой Аммави? — Да. — Аммави заболела? Я встала на колени и взяла его руки в свои. — Она выздоровеет, мой сладкий. Не волнуйся. Мама и папа всегда будут с тобой, и Анн-Мари, и Мишелем.
Он улыбнулся мне, счастье снова восстановилось в его мире.
Я переживала за Даниэля. Надо было слишком много всего сделать, столько всего выяснить и обдумать в течение дня, поэтому совсем не было возможности проводить с мальчиком всё утро или день и отвечать на сотни вопросов трёхлетнего почемучки.
Хуже того, бывали моменты, когда малыш плакал, Анн-Мари стояла в углу, делая нечто странное, звонил телефон и Даниэль хныкал и сердился на меня. В такие минуты, я была опасно близка к тому, чтобы накричать на него. Я чувствовала, как вспышка гнева разрастается у меня в груди, вот, она доходит до моего рта, щеки, и горло, будто стягивается железными ремнями.
– Отстань от меня, — хотелось мне закричать на сына, — перестань задавать столько вопросов! Перестань без конца цепляться за мою юбку! Я не могу! Я не в силах думать ещё и о тебе сейчас!
Я научилась распознавать такие моменты и заставляла себя избегать их — уходить в свою комнату и закрывать дверь, включать телевизор, чтобы мультфильм отвлёк Даниэля, — делать всё, что могло купить несколько минут тишины и покоя, в течение которых я могла взять себя в руки. "Ты этого не сделаешь! — приказывал внутренний голос, собирая остатки рассудка, — ты не выдашь своей паники и не поднимешь голоса на ребёнка."
Но во мне кипел гнев, и это не давало мне покоя. Я постепенно превращалась в вечно недовольного лунатика. Во мне было зло, и поэтому другое зло овладело мной. Только злая женщина может сердиться на собственного ребёнка.
Необходим был какой-то перевес, какая-то защита против опустошающей ненависти к себе, против горя, гнева, беспомощности.
Надо было научиться успокаиваться, компенсировать силы, хоть немного. Каждый день я старалась выделить хоть несколько минут, чтобы побыть наедине с Даниэлем. Эти моменты были коротки, но я старалась сделать их как можно более наполненными и умиротворёнными. За неимением другого выбора мне пришлось пересмотреть своё понятие "времени с пользой".
Мы уходили в мою комнату, в то время, как Пэтси или Марк могли заняться другими детьми. Я закрывала дверь и пыталась отключиться от мрачной повседневности для того, чтобы направить своё внимание только для радостей, забот и вопросов моего маленького сына. Мы читали книжки или говорили о чём-то, что интересовало его. Я всегда старалась обнимать и гладить его как можно больше, зная, что за день я одёргивала его гораздо чаще, чем он того заслуживал: "Не сейчас, Даниэль", "Позже", "Я это сделаю через минуту", "Мы будем печь печенье завтра", "Тихо! Мама разговаривает по телефону".
Эти светлые моменты, проведённые с Даниэлем, были, как бальзам на рану, нанесённую моему самоуважению.
По секрету от самой себя больше всего на свете мне хотелось быть хорошей матерью: терпеливой, любящей и нежной, знающей, как формировать и направлять юную жизнь, как мудро и правильно её воспитывать. Несмотря на то, что я воспринимала работу, как радость и с большим трудом достигнутое право, которое должно быть доступно каждой женщине, я знала, что если бы мне было предложено выбрать, какой дорогой пойти, то я, не колеблясь, предпочла бы карьере счастье быть с детьми. Мне не раз уже приходилось сталкиваться с полушоковой реакцией, вызванной нашим решением иметь троих (троих!) детей, да ещё и близких друг к другу по возрасту. На улицах Верхне-Восточной части Манхэттэна мне случалось слышать немало удивлённо-критических замечаний от прохожих, часто сделанных далеко не самым любезным тоном, при виде беременной женщины с двумя маленькими детьми. "Общественный контроль рождаемости", — называла это явление одна моя подруга. Это было что-то вроде полуобморочного ужаса, преобладающего среди рафинированной публики. На коктейлях и приёмах я научилась не принимать близко к сердцу снисходительность двадцатипятилетних особ в нарядах от Армани и обуви от Гуччи, карабкающихся изо всех сил по лестнице карьеры, и не тушеваться при вопросе, который был квинтэссенцией Нью-Йоркской жизни: — Чем вы занимаетесь? (Перевод: "Насколько вы привлекательны, престижны и влиятельны?") Ответ (намеренно немного провокативный): "Я — мать". — О! (Оцепенение. Как интересно. Как смело и благородно. Как скучно). Я полагала, что после того, как родился Даниэль, и я не без труда привыкла к образу жизни неработающей матери, я обеспечила себе приятное существование в зелёной долине жизни, где можно быть в миру с самой собой и своим выбором. Я была матерью — не без недостатков, но всё-таки хорошей матерью. Я смирилась с тем, что скука, одиночество и беспорядок были моими частыми гостями, но в то же время умела находить утешение в маленьких ежедневных радостях и победах.
Сейчас, мой налаженный жизненный механизм был выведен из строя. В те дни я очень остро чувствовала, что не могу наладить контакта с детьми, и это касалось не только Анн-Мари, но и Даниэля с Мишелем тоже. Что-то было не в порядке, и я постоянно сопротивлялась ощущению, что я не справляюсь с ролью матери. Я с трудом удовлетворяла нужды и просьбы своих здоровых детей и была совершенно беспомощна перед моей больной девочкой.
Так, тот час, проведённый с Даниэлем был очень ценен для меня. Возможно, что для меня он был даже важнее, чем для Даниэля. Я слушала его лепет, любовалась им, обнимала и ласкала его. В твоих глазах столько счастья, сынок! Не думай о грустном, ничего не бойся. Мы вместе, и ты счастлив.
Также, во время этого зловещего периода, у меня появилась техника по выживанию и по отношению к моему новорожденному сыну. Я была физически истощена, так как малыш не имел привычки спать долее, чем три часа подряд, будь-то днём или ночью. Он просыпался всегда голодный, и сразу начинал громко плакать, пока его не брали на руки или не давали ему поесть. По ночам я ставила его колыбель рядом с нашей кроватью, и стоило ему проснуться, как я сонно вынимала его из колыбели и клала рядом с нами на кровать. В течение дня я механически ухаживала за ним: кормила, купала, меняла пелёнки, в то время как мои мысли разбредались в тысячах разных направлений, тревожно пульсируя во всём моём теле.
Но потом обязательно наступало время, когда Даниэль и Анн-Мари мирно спали в своих кроватках, а у Мишеля сна не было ни в одном глазу. Тогда я подходила к его колыбели с желанием взять его на руки, пообщаться с ним. При звуке моих шагов, он поворачивал головку в мою сторону и его лицо, я это видела, вмиг освещалось радостью — это было его первым подарком, преподнесённым мне. Когда я брала его на руки, аккуратно поддерживая маленькую головку, его глаза удивлённо смотрели на меня, такой взгляд бывает только у младенцев в первые недели их жизни.
Я заставляла себя наслаждаться этими моментами, несмотря на то, что падала с ног от усталости. Я поднимала малыша, вдыхала его чистый сладкий детский запах и дотрагивалась своей щекой до его удивительно мягкой кожи. Его маленькие кулачки были сложены у него на груди. Всё его тело могло поместиться в одной моей ладони, настолько он был маленький.
Я нужна тебе, мой самый маленький. Спасибо тебе за это. Спасибо за то, что даёшь мне кормить тебя молоком, давать тебе своё тепло и любовь. Я обнимала его, пока он ел (?), и снова, как с Даниэлем, я утешалась тем, что он давал мне. Теперь его глаза были полузакрыты, и тело полностью расслаблено. Скоро он уснёт, тёплый и сухой, накормленный и любимый. Если ты заплачешь, я утешу тебя, если холодно — согрею. Я нужна тебе, ты нужен мне. Когда я обнимаю тебя/Моё сердце тает от любви/ Которая давно уже покинула этот мир. Мой Мишель. Обопрись на меня своей хрупкой головкой, и я защищу тебя от любого зла.
Но если от Даниэля и Мишеля исходили как стресс, так и утешение, то Анн-Мари была постоянным источником тревоги и боли. Она уходила в мир теней, и я не знала, как можно было её позвать. С каждым днём она казалась всё более погружённой в себя, в свой мир мечты, где она скиталась в одиночестве. Мы теряли её.
– Ты помнишь, как она когда-то говорила мне "Привет, папа!"? — сказал Марк однажды вечером.
Когда это было? Неужели она в самом деле была такая дружелюбная и общительная, неужели она когда-то была привязана к нам?
Мы попытались отследить момент в прошлом, когда она стала уходить в себя. Мы достали альбомы с фотографиями и видеозаписи и потратили вечер на их изучение, пытаясь что-то выяснить для себя.
Мы нашли несколько фотографий, где Анн-Мари — совсем ещё крошка — улыбалась прямо в объектив фотоаппарата, но чем старше она становилась, тем реже она смотрела на снимающего её человека, улыбаясь куда-то в сторону.
Мы также просмотрели видеозапись нашего отпуска в Испании. Всех детей собрали на пляже, чтобы сделать групповой снимок. Марк снимал на видеокамеру, а другой родственник фотографировал.
Анн-Мари, единственная из всех детей, начала плакать, когда их стали собирать в группу. Тогда мы думали, что она чем-то расстроена — чем именно, мы, разумеется, не могли знать. Может быть она устала, а может быть неловко чувствовала себя в окружении такого количества двоюродных сестёр и братьев. Возможно её беспокоил шум и беготня? Когда всё закончилось через несколько минут, она сразу же успокоилась.
Сейчас мы внимательнее присмотрелись к образу дочери на плёнке и почувствовали холодный укол прозрения. В тот короткий момент она была не "расстроена", она была до ужаса напугана: она протягивала руки в сторону, как будто хотела убежать; рот был открыт, из него был готов вырваться крик. — Ты видишь это? — едва слышно спросила я Марка. — Да. Я взала в руки несколько полароидных фотографий. Дети играли на площадке перед музеем Метрополитэн. Даниэль забавно пожимал плечами, засунув руки в карманы, он смеялся прямо в камеру. Анн-Мари сидела в своей коляске, ноги безвольно болтались, глаза смотрели в пол, кончики рта были опущены вниз.
Мы чувствовали себя непростительно виноватыми за то, что не заметили сразу, что Анн-Мари начала отдаляться от нас. Как мы могли ходить в ресторан, поехать на свадьбу Дениса во Францию, делать что-либо, в то время как с дочерью творилось нечто страшное? Как могли мы жить с ней в одном доме и ничего не замечать? Врачи, с которыми мы встречались, уверяли нас, что мы забили тревогу довольно рано, по сравнению с большинством случаев, когда диагноз ставится только в 4-5 лет, после того, как обнаруживается, что дети не в состянии находиться в яслях или детском саду. Но у нас было ощущение, что мы предали свою дочь. Мы не увидели этого в течение года, мы не прекратили этого раз и навсегда в самом начале, что бы "это" не значило.
Проблема была в том, что "этим" сейчас была наша дочь. Она "была" аутистом, как кто-то "является" мужчиной или женщиной, низким или высоким. Это было не похоже на те случаи, когда ребёнок болен раком, или СПИДом, или другой ужасной болезнью. Я ни в коем случае не хочу преуменьшить боль этих трагедий, или сказать, что такие болезни легче переносятся — на семьях, переживших такое жестокое невозможное горе, лежит особый груз. Я имею ввиду то, что аутизм овладел самой сущностью Анн-Мари. Нельзя сказать, что у неё был аутизм, она сама была аутистом. Она уже была такой чужой, такой отдалённой. Теперь в её глазах не было никакого проблеска, когда она скользила по нам взглядом, улыбка узнавания не пробегала по её лицу. Мы не могли распознать в ней личность. Сейчас она была холодной и равнодушной. У меня было ощущение, будто я держу её только кончиками пальцев. С каждым днём всё менее заметным становился трепет её души, "медленно сгущавшиеся сумерки, как опускавшиеся шторы".
Мой судорожный сон был отмечен ежедневными кошмарами. Анн-Мари в тёмном лесу, Анн-Мари одна в пустом доме, Анн-Мари, забытая в машине. Однажды мне приснилось, что мы все были на пляже и играли с летающей тарелкой. Я испытывала нарастающий страх, поскольку знала, что должна удержать всех троих детей, иначе их унесёт течением. Даниэль цеплялся за мою ногу, одной рукой я обнимала маленького, а другой держала Анн-Мари за руку. Вдруг её ладонь выскользнула из моей. Она была под водой! Я не могла найти её! Я задыхалась и кричала. Моя свободная рука скребла по океанскому дну, пытаясь нащупать её тело. Радость моя! Где ты? Кричала я. Я проснулась в холодном поту, дрожа от страха.
У Анн-Мари тоже был неспокойный сон. Одной из возможных особенностей синдрома было нарушением у ребёнка ритма сна и бодрствования, он становился произвольным и непредсказуемым. Она спала всё меньше и меньше. Иногда я вставала ночью, чтобы проверить, как она, и в два часа ночи находила её с открытыми глазами, она молча смотрела прямо перед собой.
Как-то раз она проснулась посреди ночи и заплакала — было ли это от страха? Может быть ей приснился кошмар? Я выскочила из кровати и побежала к ней в комнату. Если что-то её испугало, я хотела утешить её. Я подошла к кроватке, чтобы взять девочку на руки. Её тело задеревенело, она стала сопротивляться моему обьятию и повернула голову к стене. Затем медленно, уставившись в пустоту, она заползла под одеяло и натянула его себе на голову.
Утро не приносило облегчения. Она никогда не звала меня. Она даже перестала лепетать и шумом привлекать к себе внимание, чтобы кто-нибудь подошёл к ней и вынул её из кроватки. Она равнодушно сидела в постели, пока я не подходила, чтобы переодеть её. Однажды утром мы с Марком зашли к ней в спальню. Она стояла там, вперив взгляд в стену. — С добрым утром, сладкая моя! — позвала я. Она даже не повернула головы в нашу сторону.
Неожиданно для себя я опустилась на пол, спиной к стене.
– Это не Анн-Мари, — прошептала я. — Я не должна больше любить её, так как она не Анн-Мари. — Я была очень сердита. Вот. Она отталкивает меня; я тоже отталкиваю её. Я была очень спокойна и рассудительна. Так лучше. Это холодное равнодушие принесло облегчение. Это лучше, чем кружить, как раненый зверь, сходя с ума от боли. Я на самом деле не должна больше заботиться об этом странном ребёнке, так как она не моя Анн-Мари.
Это враждебное оцепенение продолжалось несколько часов. Потом оно было разбито вдребезги налетевшим, как шторм, горем, которое было тем тяжелее, что я пыталась игнорировать его. Нет, я никогда не смогу отвернуться от своей дочери. Она заблудилась в своём неведомом мире, и я не могла проникнуть в её чувства, но знала одно: она не была счастлива там. Мне было достаточно только взглянуть на её скорбное личико, на опущенные вниз уголки рта и на пустые глаза, чтобы понять, что где-бы не находилось сейчас это двухлетнее существо, это место не было хорошим и радостным. Моё счастье и спокойствие были неразрывно связаны с ней. У нас было общее будущее. Когда она всё дальше и дальше удалялась в этот тёмный лес, она несла в своих руках моё разбитое сердце. Никаким движением воли или разума я не могла бы приказать своему сердцу оторваться от неё. Она заблудилась, она была одна, и она не знала, как найти дорогу к нам. Я не могла отвернуться от неё.
Что если, — рыдала я на плече у Марка, — что если она больше никогда не будет любить нас?
На мгновение он задумался. — Мы научимся любить, не получая любви в ответ, — сказал он. — Но если она будет страдать до конца своей жизни? И снова он ответил так, будто уже не раз обдумывал этот тяжёлый вопрос. — Она не будет страдать. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы обеспечить ей хорошую жизнь.
Только с Марком я могла позволить себе дать волю слезам. В течение дня страх и боль копились во мне, и к вечеру я с трудом держала себя в руках. Каждый вечер он входил в дверь, и я делилась с ним снедающей меня тревогой. Ночью, он обнимал меня, и я, сотрясаемая рыданиями, выплёскивала на него всю дневную порцию боли. Он слушал меня, обнимал меня, скорбил вместе со мной. Он ничего не обещал, так как ему нечего было обещать, кроме своей преданности. Мы пройдём через это вместе, мы будем держаться друг за друга, что бы не случилось.