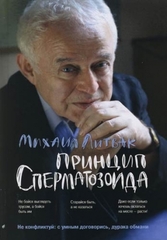История первая
Вася Масленкин
Самый младший герой нашего "исторического романа" — 13–летний Вася из города Иваново. У Васи для жизни есть все ~ мама Оля, целых четверо старших ~ два брата и две сестры, и даже племянник ~ полугодовалый Ванечка.

Мама Оля: Ребенок для чистой радости. Я его очень люблю.
Он для меня все — сын, любимый человек, тепло, и радость, и свет в окошке. Оправдание бестолковой моей жизни и её содержание. Солнышко, Котенок, Клоп (отзывается на все), медведь Балу (или кто–нибудь другой на сегодня, например Шрек, или Джеки Чан, или любимые его Петров и Васечкин в одном лице, или Горлум — а что, похож, но я предпочитаю, чтобы он был кем–нибудь хорошим).
Он — награда моя неизвестно за что. Когда он был крохой, я на собрании родителей детей–инвалидов услышала от священника, что это нам за наши грехи. Потом другой батюшка, к которому я бросилась за советом, сказал: «А я не знаю, наказание это или награда…» Я теперь знаю, давно знаю — награда. Он вообще награда, не мне лично. Какое же это наказание, кому — эти глазки удивительные доверчивые, эта готовность каждого обнять?
Я начинаю скучать по нему, как только расстанусь. Я готова с ним обниматься целый день: сержусь за что–нибудь, ругаю, а головка рядом окажется — забудусь и поцелую.
Он ребёнок, который никогда не вырастет. Горькое «дети выросли, стали чужими» к нему неприложимо. У меня была такая теория, что в доме всегда должен быть младенец до трёх лет — для чистой радости. Вот Бог и послал мне — навсегда — такого чистого младенца. Которому я не перестану быть нужна. Который всегда меня будет любить, и при этом не постесняется об этом сказать, и поцеловать, и утешить, и прижаться крепко–крепко…
А когда он родился, когда впервые услышала эти ужасные слова — синдром Дауна, трисомия, — я ведь была в постоянном ужасе, отчаянии. Долго была. Стыдилась из подъезда выйти. Если бы любая другая инвалидность — я готова принять и героически преодолевать трудности, но только не умственная отсталость. У меня, отличницы… Жила отдельно от мира, как за стеклянной стеной. Совершенно была не готова. Никто не бывает готов, наверное. Ничто не утешало: только вот если бы проснуться и понять, что все это — дурной сон.
Он чувствовал и был как ангел: не капризничал, давал выспаться ночью. Он у меня пятый, мне есть с чем сравнить. А я все вглядывалась в его лицо и не верила, но не могла не видеть что–то особенное.
Потом привыкла. Обиды на жизнь не было никогда: почему, если кругом столько несчастья, меня оно должно обойти?
А потом оказалось, что это НЕ НЕСЧАСТЬЕ.
Он рос, и начал ходить, и сказал «мама», и выучил первые буквы, и прочёл первое слово… И был очень смешной, и милый, и всех любил, и обнимал незнакомых бабушек в трамвае, с мужчинами здоровался за руку, и у всех (ну, почти у всех) теплели при этом лица.
Он очень хотел к детишкам. Когда приходили с ним за братишкой в детский сад, его было трудно оттуда вытащить. Но однажды нас попросили уйти с утренника — а вдруг будет мешать? Не потому, что мешал, а впрок, заранее. Шли домой и плакали — оба.
Начитавшись всего прогрессивного, пыталась устроить в детский сад: знала, как важна для него ранняя социализация. Если была согласна воспитательница, противилась няня, даже не видевшая его («ты не одна здесь работаешь»), если уговаривала заведующую и врача, то отговаривали в поликлинике («зачем вам это надо?»). В логопедическом саду попросили бумагу из управления образования. Я принесла ходатайство от начальника этого управления: «Прошу вас по–матерински отнестись…» Не помогло, всё равно не взяли. В специальном саду для детей с олигофренией даже не стали смотреть: «Мы берём обучаемых детей». Такого хорошего. Такого умного. С прекрасной характеристикой от учительницы, которую приглашали специально, частным образом, готовить его к этой проклятой комиссии. Характеристику читать не стали, а мне сказали фразу, которую не забуду никогда: «Что ваш ребёнок может дать нашим детям?»
И сейчас хочется кричать, всем «не пущающим», теперь уже в нормальную школу, чиновникам: может! И больше, чем вы думаете! Даже если у него ничего из школьной премудрости не получится усвоить! Он даст вашим детям (а на самом деле они все наши) возможность ВИДЕТЬ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, не такого, как они. Понимать, жалеть, помогать, уважать — и тем расти душой самим, и уводить мир хоть на один шажок от войны — к миру, от равнодушия — к любви, от хаоса — к красоте…
Все годы его жизни, моей борьбы за его полноценную жизнь меня удивляло одно: ведь те, кто мне отказывает, в абсолютном большинстве женщины, матери. Что, они не представляют, что у них или их дочерей мог родиться такой ребёнок? Что, и тогда они говорили бы так же? Ничего не поделаешь — у каждого из нас своё испытание. Сейчас, пережив все, легко судить других, но ведь я помню, как в детстве на другую сторону улицы переходила, увидев умственно отсталого подростка!

Почему–то люди боятся наших детей. В основном, конечно, потому, что не знают.
Хотя и многие из нас опасаются, что здоровые дети будут наших обижать. Полно, почему мы так любим повторять, что мир жесток, ведь мир — это мы с вами? Какое-то время мой сын все–таки учился в почти обычной школе. Он радовался общению с детьми, и они радовались ему. Я не помню, чтобы кто-то его обидел. Ему дарили игрушки, пытались учить, обнимали при встрече и прощании. Мальчик, любивший подраться со всеми подряд, его не тронул ни разу. Учитель его уважал. Надо ли говорить, что и другие родители не высказывали никаких претензий?
Сейчас Васе 13 лет. Я могу рассказать целую повесть о мытарствах с его учёбой. О пролитых слезах, обидах, отчаянии, о глупых стереотипах, несправедливости, надеждах, о маленьких и больших успехах, которые никого не интересуют, о том, почему я забирала сына оттуда, где его соглашались держать, и пробивалась туда, куда его брать не хотели. Я могу, но не буду. У каждого из нас есть своя история хождения по мукам. Друг друга мы не удивим, а оппонентов не убедим. Нужны вдохновляющие примеры побед, но это не мой случай. Я далеко не все сделала для своего ребёнка, далеко не всё, что знала и могла. Я виновата перед ним больше чужих дядь и теть…

Я вожу его в специальную школу и не перестаю мечтать о массовой. При этом я то и дело падаю духом, а в моменты просветления пытаюсь себе внушить, что все происходит как надо, что главное — не зацикливаться, не переставать жить, что есть вещи, которые мне никто не может помешать делать для ребёнка, а я в своих не нужных никому переживаниях их не делаю.
Я против всяких инвалидных ёлок и фес–тивалей, как и любых «черт оседлости». Конечно, я понимаю, что мой сын не такой, как все, и никогда таким не будет. И слава Богу. Вообще не существует никаких «всех», только единственные и неповторимые, но на нашей крошечной планете, в нашем Ноевом ковчеге нам всё равно спасаться — или погибать — вместе.
Просто я хочу, чтобы его жизнь была полноценной. Хочу, чтобы он общался со здоровыми детьми, учился у них всему. Чтобы у него были друзья вне дома. Чтобы его мир был как можно богаче: с музыкой, живописью, книгами, творчеством. Чтобы научился плавать, управлять лошадью. Чтобы вёл дневник. Чтобы учил английский, и историю, и химию с физикой тоже, и победил математику, и писал сочинения. И мы бы путешествовали с ним. И чтобы был здоровым и уравновешенным, но по–прежнему умел бы радоваться и любить. В общем, я хочу для него всего того, что и для других своих детей. Кроме семьи. Не верю я, что у него будет семья, хотя и знаю о таких случаях. А может, не готова отпустить от себя. Вот и думай, кто кому больше нужен. Да, других детей я готова выпустить из–под крылышка, даже хочу, чтобы выросшие дети скорее стали самостоятельными. Но не Клоп. Как же я смогу без него? Наверное, поэтому я не представляю, как он будет жить после меня.
Я хочу, чтобы он работал и чтобы работа ему нравилась. Он, как мой старший сын, историк, определился с детства: его любовь — животные. Он знает о них в сто раз больше меня, не знаю даже откуда. Теперь, водя его на кружок при живом уголке, я тоже выучила что–то, но до него мне далеко. Может быть, получится, чтобы он работал в нашем зоопарке? Пока мне кажется, что это приносило бы ему радость. Только надо, хоть и поздновато уже, научить его не бояться труда. Ведь в любой работе есть не только интересное…
Я знаю, чего не сумела пока. Слава Богу, он живёт в семье, и у него есть братья и сестры, которые его любят. Но! Он все–таки на особом положении: маленького, любимого, набалованного дитяти, хотя уже совсем большой. Ну, кровать свою он кое–как убирает. Ходит иногда в магазин за чем–нибудь несложным. Но этого мало: помощником себе я не воспитала его. И часто делаю за него то, что он мог бы сделать сам. Вот это я считаю большим упущением.
Второе. Он часто капризничает — и дома, и на людях, и как–то это ему сходит с рук. Понятно как — учитывая диагноз. Этого нельзя делать, ибо социальные навыки и культура не врождённые, они воспитываются, и инвалидность не может быть здесь помехой. А у меня нет достаточной твёрдости, уверенности, последовательности в требованиях к нему. И этим я предаю его, осложняю его будущую жизнь, жизнь без мамы, которая всегда рядом.
Третье. Я очень страдаю из–за того, что общество и государство (да, и государство, которое приняло хорошие законы, но не выполняет их: не хочет знать моего ребёнка, не видит в нём полноценного гражданина, изгоняет из общества здоровых — от детского сада до трудоустройства) враждебны по отношению к инвалидам. Но пока я страдаю, страдает и ребёнок: оттого что я невесёлая, нервная, от моих, возможно, нереальных задач и требований к нему. Ну не родились мы с ним в Америке или ещё где–нибудь. Значит, так надо было.
Вообще я думаю, что самое главное — это верить в него и быть последовательной. Сделать так, чтобы наша жизнь не зависела ни от каких чиновников. Или хотя бы меньше зависела.
Господи, знаешь ли Ты, как я благодарна Тебе за Ваську? Как мы все, я и мои четверо старших, его любим? Он дал мне так много, как никто, точно. Он мне прочистил мозги, отнял возможность гоняться за ложными ценностями вроде карьеры и славы и показал истинные. Он научил меня любить. По крайней мере его. Разве можно его не любить? Других, здоровых, труднее — но после Васьки понимаешь, что и они столь же неповторимы и столь же беззащитны. Смотреть внутрь. Прощать. И самому трудному: думать не о себе… И продолжает учить каждый день. Открытости миру и каждому встречному. Верности. Умению радоваться всякой мелочи…
Мы садимся в маршрутку, он снимает шапку и сует мне. Вскрикивает, люди озираются, я ругаю его. Тут же беспринципно прошу дать поцеловать лохматую головку. И носик. И глазки. И шепчу: «Говори слова». Он говорит: «Все, спим». Утыкаемся друг в друга и засыпаем до своей остановки.
Приехали. Бужу, тороплю, тащу за руку по улице. Опять опаздываем! Ему до этого дела нет: он сто раз подряд спрашивает меня, чем сова отличается от филина. Ну не знаю я! Нет, не верит. Должна знать. Узнала! Филин больше, и у него уши. Правда, есть ушастая сова, но она маленькая…
Я пишу, а он похрапывает на моей кушетке. Сейчас лягу и я, поглажу мордочку, и, не просыпаясь, он поцелует мою ладонь…
Сынок, ты знаешь, как я тебя люблю?
Все, спим.
Пока книга проходила свай, путь к изданию, в жизни Василька и его мамы произошло радостное событие: их приняли в общеобразовательную школу рядом с домом. Вася ходит ту да с удовольствием, ребята и взрослые в школе относятся к нему хорошо, появились друзья. Дай Бог, чтобы так было и впредь.