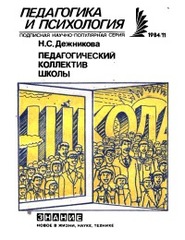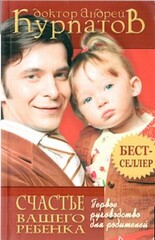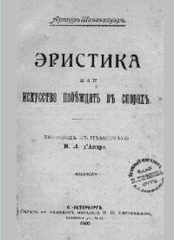Книга 3. ЭГО, ИЛИ ПРОФИЛАКТИКА СМЕРТИ
Рисунки на шуме жизни
Стихи
В некотором царстве, в некоем государстве есть остров, где текут параллельные реки с параллельными берегами в параллельных долинах, и параллельные горы параллельными линиями поднимаются к небу с параллельно плывущими звездами.
У деревьев на этом острове параллельные ветви и листья, у цветов параллельные лепестки.
Дождевые капли, как и везде, впрочем, падают параллельно, так же как и снежинки, а люди строгую параллельность при ходьбе соблюдают в движениях ног и рук. Параллельно работают магазины, радиостанции, телепрограммы; параллельно пишут писатели, выходят газеты, мыслят мыслители; у ослов параллельные уши. Параллельные взгляды на один и тот же предмет не сходятся, ибо, как им и полагается, идут мимо. Пересекаться нельзя. На концертах музыка и аплодисменты следуют параллельно, так что слушатели и исполнители не мешают друг другу.
На этом острове не бывает транспортных катастроф. Злятся и ссорятся в результате одних и тех же параллельно влияющих атмосферных событий. Мамы пугают капризных детишек: «Вот придет Лобачевский, отдам тебя Лобачевскому!» И детишки с параллельно остриженными головками делают параллельно что полагается, параллельно текущими зелеными слезками плачут, никогда ни одна слезинка не пересечется с другой.
Каждый смеется над чем-то своим.
Это напоминает мне одно замечательное заведение в наших краях. (Где иногда происходит, в порядке исключения, параллельное кое-что. Например, футбол). Влюбленные любят друг друга непересекающейся любовью.
Один только раз, говорит легенда, какие-то двое, нарушив закон, слились — и раздался взрыв: погибли, родив Вселенную.
Остров, однако же, уцелел, хотя были выбиты абсолютно все стекла.
I. ПАМЯТЬ ЗЕРКАЛ
а может быть, река,
не знаю.
Были облака,
их больше нет —
горит заря,
но где-то там,
а здесь — не знаю,
откуда свет,
благодаря
какому чуду…
…Вспоминаю:
он светит сам,
да, светит сам,
но он обязан
и жемчугу
своим экстазом,
и изумруду…
Здесь я был
тому назад всего лишь вечность.
Я плыл,
я видел оконечность
полувоздушной суши — мыс,
себя теряющий,
как мысль,
и эти скалы —
их оскалы
прикрыл покладистый песок,
а где не вышло — как лекала
лишайник лег наискосок
и лбы украсил сединами…
И это дерево — я был им,
боговетвистым,
солнцекрылым,
я плыл сквозь воздух, я пылал
спокойствием —
мои стрекозы
и птицы — я их целовал,
дарил плоды, цветы и слезы,
а ветер — ветер веселил
мне волосы, венки сплетая
и расплетая — и спросил,
страницы снов моих листая,
однажды: «что такое смерть?»
Я отвечал: «Как посмотреть.
Вот небо. Небо убивает».
— «Ты шутишь. Смерти не бывает».
— «Шучу, конечно. А земля сегодня любит ноту «ля».
— «О, это пустяки. А можно тебя погладить осторожно?»
— «Как хочешь. Только не усни. И ветку к ветке прикосни…»
— «А что такое сон?» — «Работа, но у нее другая нота.
Два дуновения, и ты
пройдешь сквозь ближние кусты,
вздохнешь,
травинку потревожишь,
волну к губам своим приложишь,
волна уснет,
но полный сон
бывает только в унисон…»
И он летел на дальний берег, где камень камню слепо верит. (Кому светлей, кому темней, не знают камни или знают, но спят и духов заклинают).
Там оборот ночей и дней иной, короткий, а шепчущий отшельник в лодке — мой медиум…
18 ноября
Мой хлещущий ноябрь,
раздетый, проливной,
в такую непролазь подстать в тюрьму садиться.
Как пухнут облака, как будто из пивной,
и каждое тебе на голову садится, мой стынущий ноябрь…
Февральский Водолей,
тебе в противовес, зыбучими снегами
стремится замести скоропостижность дней
и растворить, и смыть безумными слезами.
Роди меня, роди — и проходи скорей,
мой слепнущий ноябрь…
(Венецианский дождь представился мне вдруг, гондолы и шпионы
в монашьих клобуках). О, как нещаден дождь,
святая благодать!..
Так плачут Скорпионы,
когда, не торопясь, зима в гнездо ползет
прищуренной змеей — хозяйкой, а не в гости.
Послушники любви, зачем вам не везет
и злой осенний яд пронизывает кости?
Ты смеялся и плакал. Ты долго работал, дожидаясь меня, и уже перед сном я тебя посетил, спохватившись, и подал поздний завтрак и чашу с холодным вином.
Сколько раз я тебе изменял, наверное,
не припомнится,
дух мой бедный, затравленный мой господин. Ты прощаешь мне все, словно я не слуга,
а любовница, или ведаешь, что не дожить до седин.
Спорю с зеркалом. Две морщины на переносице нарисованы нежно.
Пока еще жив. Сокровенное шепчет.
Сокровенное просится и уходит, ответа не получив.
К зеркалу я подхожу, чтобы оставить свое лицо, а там видно будет.
Осторожнее с зеркалами, пожалуйста,
зеркала ранимы, беспомощны,
не обижайте их,
не одаривайте своими проблемами,
у них хватает своих.
Зеркала, вы наверное знаете, населены
всякой всячиной, и чего только нет в их пространстве,
лишенном времени: диспуты, вечные поцелуи, нескончаемые рукопашные, слезы…
У зеркала, даже самого мутного, есть одна черта абсолютного совершенства: бессмертная, неуничтожимая память.
Самое лучезарное я увидел в нотариальной конторе: чисто вымытое, сумасшедшее.
Оно предъявило мне дарственную от двоюродного прадедушки
на предметы (перечисление): понт,
цепочка от понта, коньки фигурные, бородавка.
Тот, другой — там, напротив — изменник, изменяющий верностью — да, тот пожизненный твой современник, твой двойник, двоянин, двоенет.
устраняет останки стыда.
Ну, а часики справа налево,
и другой коленкор у монет.
Как он прав. Но где право, там лево,
а где лево, там право всегда.
Он смеется: «Да в этом ли дело?
Разве это не твой кабинет?
Ну и что ж, что где лево, там право?
Разбираться не стоит труда:
справа яма, а слева канава,
посредине играет кларнет».
Замечает твою слабонервность.
Терапия нежна и тверда:
«Не печалься: где верность, там ревность,
а где ревность, там верности нет.
Все эмоции связаны как-то
с несомненною пользой вреда:
роковой перевертыш инфаркта —
милый доктор, веселый брюнет».
«Но ведь полк же не клоп, — ты лопочешь, — и ведь клоп же не полк». — «Ерунда, мне без разницы. Если захочешь, для клопов мы напишем сонет». Он смеется — ты тоже смеешься, он напьется — и ты хоть куда, отвернется — и ты отвернешься, тень без тени и след без следа…
Умывается утро
на старом мосту,
вон там, где фонтан как будто
и будто бы вправду мост,
а за ним уступ
и как будто облако,
будто бы вправду облако,
это можно себе представить, хотя
это облако и на самом деле,
то самое, на котором мысли твои улетели,
в самом деле летят.
..А потом ты опять один. Есть на свете пространство. Из картинок твоей души вырастает его убранство. Есть на свете карандаши и летучие мысли, они прилетят обратно, только свистни и скорее пиши.
Эти мысли, Бог с ними,
а веки твои стреножились, ты их расслабь,
это утро никто, представляешь ли,
никто, кроме тебя,
у тебя не отнимет.
Смотри, не прошляпь
этот мост, этот старый мост, он обещан,
и облако обещает явь,
и взахлеб волны плещутся, волны будто бы
рукоплещут, и глаза одобряют рябь.
А потом ты опять один.
Музыка к кинофильму
Нет грусти. Хруст костей. Кадят реторты. Кавалергарды громоздят гробы на грудь горбуньи. Грумы-септаккорды стремглав промчались на призыв трубы.
Игра остра. Магистр-администратор, затраты страсти сократив, срастил гротеск и пастораль, и страх кастратов соединил с безумием горилл.
А в партитуре дротики и копья,
и колоколу некуда упасть,
и драит хвост дракон, и шлет Прокофьев
ему бемоль в разинутую пасть.
Я садился в Поезд Встречи. Стук колес баюкал утро. Я уснул. Мне снились птицы. Птицеруки, птицезвуки опускались мне на плечи. Я недвижен был, как кукла. Вдруг проснулся. Быть не может. Как же так, я точно помню.
Я садился в Поезд Встречи. Еду в Поезде Разлуки. Мчится поезд, мчится поезд сквозь туннель в каменоломне.
Кто ты такой? Незанятое место. Сквозняк. Несвязных образов поток. Симфония без нот и без оркестра. Случайный взгляд. Затоптанный цветок.
Толпа сырая собственной персоной: слияние святого, подлеца и сироты — под оболочкой сонной потертого гражданского лица.
А глаз твоих седых никто не видит и это тело как бы не твое, и душит чья-то боль, и бьет навылет чужих зрачков двуствольное ружье.
Как важно знать, что ничего не значишь, что будучи при всем, ты ни при чем, что душу превратил в открытый настежь гостиный дом с потерянным ключом.
Кто здесь не ночевал, кто не питался, кто не грешил?.. Давно потерян счет. А скольких ты укоренить пытался, уверенный, что срок не истечет?
Казалось иногда, что жизнь приснится — еще чуть-чуть — и сам себя простишь, но сны в глаза вонзались, как ресницы, когда под ветром на горе стоишь, и мчались облака, летели дроги сквозь мельтешенье знаков путевых, и гнал толпу всесильный Бог Дороги, не отличая мертвых от живых.
Инициал
В бытность студентом-медиком на обязательной практике под руководством На-Босу-Голову, преподавателя гинекологии, носившего лысину девственной чистоты, а на ней шапочку, смахивающую на ботинок короля Эдуарда, помните? — был король, только не помню чей и не помню был ли, — так вот, под присмотром На-Босу-Голову я делал аборты.
Во всех прочих случаях, объяснял нам На-Босу-Голову, искусственное прерывание жизни называют убийством. А самых маленьких можно.
Я их выковыривал штук по пять, по шесть в сутки, иногда по десятку.
Уже на второй день я стал виртуозом.
«Музыкальные руки, — сказал мне На-Босу-Голову, — у тебя музыкальные руки».
В то время я увлекался геральдикой и поэзией Шелли, любил Пушкина, Рильке, а они шли, разноликие, разнопышные, разношерстные, ложились под мясорубку, веером раздвигали ляжки.
(Потом накидывали простыню. Шелест поникших крыльев…)
Я ничего не видел кроме я ничего не видел кроме я ничего не видел, но там, в пространстве, там цель была — там творился Инициал, подлежавший…
Сперва вы чувствуете сопротивление плоти, отчаянное нежное сопротивление — плоть не хочет впускать железку, но вы ее цапаете востроносым корнцангом, плоть усмиряется, вы раоотаете.
Странно все же, как целое человечество умудрилось пройти сквозь твое тесное естество.
«Ни одного прободения, — удивлялся На-Босу-Голову, — ну ты даешь, парень, ты вундеркинд, ей-богу, хорошо, что тебя не выковыряли».
После сорокового я это делал закрыв глаза.
Самое главное — не переставать слышать звук работающего инструмента: хлюп-хлюп, а потом… Простите, я все же закончу: сперва хлюп-хлюп, а потом скрёб-скрёб, вот и все, больше не буду.
«Уже в тазике, уже в тазике, — приговаривал добрый На-Босу-Голову, утешая хорошеньких, — у тебя была дочка, в следующий раз будет пацан, заделаем пацана».
Я ничего не слышал кроме я ничего не слышал.
Но один раз кто-то пискнул.
В теплом красном кишмише шевелился Инициал. Он хотел выразить идею винта формулой музыкального тяготения, его звали Леонардо Моцартович Эйнштейн.
Я есмь — не знающий последствий слепорожденный инструмент, машина безымянных бедствий, фантом бессовестных легенд. Поступок, бешеная птица, слова, отравленная снедь. Нельзя, нельзя остановиться, а пробудиться — это смерть.
Я есмь — сознание. Как только уразумею, что творю, взлечу в хохочущих осколках и в адском пламени сгорю.
Я есмь — огонь вселенской муки, пожар последнего стыда. Мои обугленные руки построят ваши города.
Вселенная горит. Агония огня рождает сонмы солнц и бешенство небес. Я думал: ну и что ж. Решают без меня. Я тихий вскрик во мгле. Я пепел, я исчез. Сородичи рычат и гадят на цветы, кругом утробный гул и обезьяний смех. Кому какая блажь, что сгинем я и ты? На чем испечь пирог соединенья всех, когда и у святых нет власти над собой? Непостижима жизнь, неумолима смерть, а искру над костром, что мы зовем судьбой, нельзя ни уловить, ни даже рассмотреть…
не ведая куда, среди паучьих гнезд,
но чересчур глупа красавица Земля,
чтоб я поверить мог в незаселенность звезд.
Мы в мире не одни. Бессмысленно гадать,
чей глаз глядит сквозь мрак на наш ночной содом,
но если видит он — не может не страдать,
не может не любить, не мучиться стыдом…
Вселенная горит. В агонии огня
смеются сонмы солнц, и каждое кричит,
что не окончен мир, что мы ему родня,
и чей-то капилляр тобой кровоточит…
Врачующий мой друг! Не вспомнить, сколько раз
в отчаяньи, в тоске, в крысиной беготне
ты бельма удалял с моих потухших глаз
лишь бедствием своим и мыслью обо мне.
А я опять тупел и гас — и снова лгал
тебе — что я живу, себе — что смысла нет,
а ты, едва дыша, — ты звезды зажигал
над головой моей, ты возвращал мне свет
и умирал опять. Огарки двух свечей
сливали свой огонь и превращали в звук.
И кто-то Третий — там, за далями ночей,
настраивал струну, не отнимая рук…
Мы в мире не одни. Вселенная плывет сквозь мрак и пустоту —
и, как ни назови, нас кто-то угадал.
Вселенная живет, Вселенная летит со скоростью любви.