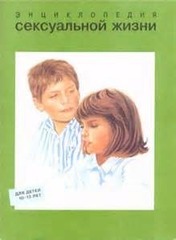Часть II. В сторону интеграции: развертывание языковой ткани.
Глава 9. Категориальное поле.
9.2. Функция и значение грамматической формы: употребление кратких и полных форм прилагательного в современном русском языке.
Возможность альтернативного употребления краткой и полной формы прилагательного (в дальнейшем — Sh и L) в роли именного предиката и связанные с этой возможностью формальные, смысловые и стилистические факторы, определяющие выбор одной из форм, являются интересной и характерной чертой современного русского языка. История изучения этого вопроса связана с различными попытками найти такой инвариантный признак (или иерархически организованный набор признаков), на основании которого можно было бы противопоставить эти формы друг другу во всех случаях их употребления в речи, объяснив таким образом логику выбора каждой из них в каждом конкретном случае.
Наиболее широко известное решение проблемы состоит в том, что выбор краткой или полной формы признается зависящим от отношения выражаемого прилагательным признака ко времени: L представляет признак в качестве постоянного свойства субъекта, тогда как Sh обозначает признак, ограниченный во времени; ср. Он был больной 'у него было плохое здоровье' и Он был болен 'он болел (некоторое время в прошлом)'.131
131 В. В. Виноградов. Русский язык. Грамматическое учение о слове, М., 1947, стр. 263.
Такое определение остроумно объясняет целый ряд конкретных случаев, реально наблюдаемых в речи; но оно же оказывается совершенно неприменимым ко многим другим случаям, столь же обычным в практике употребления языка. В частности, именно Sh обязательна во многих научных определениях, философских сентенциях, общежитейских суждениях, несмотря на то что такого рода выражения имеют панхронический характер, то есть утверждают признак, не ограниченный во времени: Треугольники АВС и DEF подобны. Выражение Х многозначно. Жизнь прекрасна.
С другой стороны, некоторые другие научные определения, казалось бы, совершенно аналогичные предыдущим и по стилю, и по смыслу, требуют как раз L: Эти прилагательные — краткие. Угол АВС — прямой.
Очень часто в языковой практике встречаются параллельные выражения какс Sh, так и с L, равным образом обозначающие постоянное свойство либо равным образом относящиеся к ограниченному по времени состоянию. Так, к обоим альтернативным выражениям Он (был) болен я Он (был) больной можно с одинаковым успехом (хотя и с различным стилевым эффектом) присоединить указатели как панхронического характера, типа ' всегда', ' постоянно', ' всю жизнь', так и имеющие ограничительное временное значение: 'сейчас', 'сегодня', 'вчера', 'в прошлом году'.
Столь очевидные противоречия традиционной интерпретации132 побудили авторов большинства работ на эту тему, появившихся в последние тридцать лет, искать иные инвариантные признаки, которые обладали бы большей объяснительной силой. Назовем наиболее важные из них.
132 Убедительные примеры, противоречащие "стандартной" теории, приводятся в работах: А. В. Исаченко, "Трансформационный анализ кратких и полных прилагательных". — Исследования по структурной типологии, М., 1963, стр. 73; Leonard Harvey Babby, A Transformational Grammar of Russian Adjectives,The Hague & Paris: Mouton, 1975, стр. 190-192' Johanna Nichols, Predicate Nominals: A Partial Surface Syntax of Russian, Berkeley-Los Angeles-London: University of California Press, 1981, стр. 302; Н. А. Казавчинская, "О состоянии изучения функций кратких и полных форм прилагательных в позиции предиката". — Acta et commenlationes Universitatis Tartuensis, 760, Tartu, 1987, стр. 123.
1) Указывалось, что Sh часто обозначает (или подразумевает) различные степени признака, тогда как L выражает признак абсолютно, безотносительно к степени его проявления.133
133 Впервые на этот признак указала Грамматика русского языка, под ред. В. В. Виноградова, М.: АН СССР, 1954, т. II, Синтаксис, ч. I, стр. 451. Из работ последнего времени см. Н. А. Казавчинская, "Оценочные функции качественных прилагательных в краткой форме". — Ada et commentationes Universitatis Tartuensis, 896, Tartu, 1990, стр. 90-97.
2) Согласно интерпретации, предложенной Н. Ю. Шведовой,134 L выражает отвлеченное качество, свойственное целому классу, к которому принадлежит данный предмет, тогда как Sh приписывает свойство непосредственно данному предмету. В высказываниях Китайскийязык труден. Это вино вкусно — речь идет о нашем непосредственном впечатлении от предмета, безотносительно к каким-либо обобщениям; но высказывания Китайскийязык трудный. Это вино вкусное — подразумевают, что данный предмет принадлежит к разряду 'трудных языков' или 'вкусных вин'.
134 Н. Ю. Шведова, "Полные и краткие формы имен прилагательных в составе сказуемого в современном русском литературном языке" -Ученые записки МГУ, вып 150, Русский язык. М., 1952, стр. 86; ср. также Nichols, op. cit., стр. 302-303.
3) Наконец, еще одна линия исследований обращает внимание на то, что в современном употреблении L и Sh сохраняется противопоставление определенности vs. неопределенности грамматического субъекта, которому приписывается признак, то есть значение, которое было присуще членной и именной форме прилагательного в древнецерковносла-вянском языке.135
135 Н. А. Казавчинская, "Об артиклевых функциях кратких и полных форм прилагательных в современном русском языке". — Acta et commentationes Universitatis Tartuensis, 825, Tartu, 1988, стр. 93-100. Следует заметить, что "артиклевое" значение членной формы в древнейших церковнославянских текстах проявляется с полной ясностью лишь в избирательных примерах. Представление о том, что древнейшее состояние языка заключало в себе "первоначальное" значение формы в более "чистом" виде, является, конечно, иллюзией, питающейся лишь ограниченностью нашего знания о контекстах, в которых отражены языковые употребления древней эпохи.
Каждая из этих интерпретаций удачно объясняет целый ряд конкретных примеров. Более того, интуитивно ощущается, что каждая из них имеет непосредственное отношение к описываемому явлению, верно схватывая какую-то его сторону. Каждое из найденных различными исследователями свойств L и Sh проявляется, более или менее выпукло, в целом ряде благоприятствующих случаев; однако попытка возвести любое из этих свойств в ранг "общего значения", представить его в качестве общего правила немедленно наталкивается на контрпримеры. Так, идее об абсолютности и/или объективности свойства, выражаемого L, противоречит широкое употребление Sh в научных определениях, которым как раз присуще объективное и абсолютное значение. Обобщенный, родовой характер признака, выражаемого L, больше зависит от характера предмета, чем от самой этой формы как таковой: если выражение Китайскийязык трудный удачно интерпретируется в том смысле, что данный язык принадлежит к классу трудных языков, то выражение Этот чемодан очень тяжелый едва ли можно без натяжки истолковать в том смысле, что данный предмет принадлежит к классу очень тяжелых чемоданов.
Смысловое соотношение выражений с L и Sh осложняется стилистическими различиями. Со времени Пешковского принято считать, что L тяготеет к разговорному и неформальному стилю, Sh — к книжному и формальному.136 Но уже Виноградов упоминает такие случаи, противоречащие этой картине, как употребление L в высоком поэтическом стиле.137 В последующих работах было показано со все большей подробностью, что обе альтернативные формы в принципе обладают широким стилевым спектром, хотя в отдельных конкретных случаях соотносительные выражения с L и Sh могут быть четко противопоставлены стилистически.138 Остается, однако, невыясненным, каким образом стилистические и смысловые параметры соотносятся между собой: имеется ли какая-либо связь между различной стилистической окрашенностью, свойственной разным конкретным выражениям с L и Sh, и различными аспектами их значений?
136 А. М. Пешковский, Русский синтаксисв научном освещении, 7-е изд., М., 1956, стр. 225-226.
137 Виноградов, op. cit., стр. 265.
138 Большое место уделено стилистическому фактору в работе: Sven Gustavsson. Predicative Adjectives with the Copula byt' in Modem Russian, Stockholm, 1976, стр. 114 и след. Николе, отчасти опираясь на выводы этой работы, идет еще дальше, указывая на возможность не только обшестилевых, но индивидуальных авторских вариации в выборе предикативной формы (Nichols, op. cit., стр 312).
Эти трудности побудили некоторых исследователей вовсе отказаться от смысловой интерпретации, переведя проблему в план формальных синтаксических отношений. Различие между выражениями с L и Sh объясняется в этом случае тем, что они, несмотря на внешнее (поверхностное) формальное сходство, имеют различную глубинную синтаксическую структуру, которой соответствует различная трансформационная история: Sh непосредственно присоединяется к связке в качестве именного предиката, тогда как L в роли предиката представляет собой трансформ именной фразы. Так, выражение Елка была высока складывается непосредственно из сочетания субъекта 'елка' и предиката 'была высока'; Sh, в сочетании со связкой, выступает в такой же синтаксической роли, как глагольный предикат. Но выражение Елка была высокая заключает в своей трансформационной истории две разные фразы: предикативную — елка была и атрибутивную — высокая елка', иначе говоря, смысл такого выражения интерпретируется как '(эта) елка была высокая елка'.139
139 Впервые выдвинутая Исаченко, эта идея получила подробную разработку, в терминах генеративной грамматики, в книге Л. Бэбби (Babby, op. cit.).
Множественность и разбросанность получающейся картины, наличие контрпримеров, встающих на пути любой конкретной интерпретации, не означает, однако, что в рассмотренных выше гипотезах мы имеем дело с "неправильно" сформулированным признаком, который должен быть заменен каким-то другим, лучше объясняющим доступный нашему наблюдению корпус примеров. Специфика подхода, предлагаемого на этих страницах, состоит в том, что он вообще не исходит из возможности и необходимости формулирования единого инвариантного признака, который возвышался бы над всем конкретным материалом и его частными обобщениями в качестве вершины пирамиды. Напротив, основой нашего анализа будет служить представление о языковом употреблении и языковых функциях, принципиально избегающее телеологической направленности к последнему и конечному, обладающему полной обобщающей силой решению.
В предыдущей секции этой главы уже говорилось о том, что совокупность реально встречаемых в языковой деятельности случаев употребления какой-либо языковой формы представляет собой поле, в котором взаимодействуют различные факторы — синтаксические, интонационные, смысловые, образные, — имеющие разное значение и разную силу. Более того, и значение, и относительная весомость каждого из таких факторов представляют собой переменную величину; она изменяется в зависимости от наличия и характера других взаимодействующих с ним факторов, а также от общих коммуникативных, стилевых, ситуационных условий употребления.
В силу такой множественности и переменности действующих сил, описываемый феномен — в данном случае выбор формы прилагательного в предикативной позиции — приобретает подвижный, динамический характер. Он не столько "реализует" некую изначально заданную твердую систему ценностей и правил, сколько "развертывается" в разнообразных, все время меняющихся конфигурациях, отражающих переменный набор признаков и тех ценностей, которые эти признаки каждый раз приобретают во взаимодействии друг с другом в конкретных (тоже все время меняющихся) коммуникативных условиях.
Не следует думать, что динамический подход означает отказ от понимания грамматической категории как целого, растворяя ее в бесконечных "частных случаях". Просто характер обобщения и интеграции в этом случае оказывается иным; его предметом становится взаимодействие и пластические перевоплощения различных факторов как общий принцип, согласно которому говорящие осуществляют выбор и осмысление языковых форм. Будучи однажды продемонстрирован с достаточной убедительностью, этот принцип может затем применяться ко все новому материалу, все новым ситуациям. В этих ситуациях первоначально продемонстрированные параметры будут подвергаться все новым трансформациям — при сохранении, однако, общего принципа их динамического взаимодействия. Такой подход отказывается от попыток построить языковую машину, способную автоматически порождать неограниченное число эмпирически правильных языковых фактов; динамическая модель — это такой "механизм", который сам все время изменяется в процессе своей работы. Его невозможно поэтому "построить" в буквальном смысле — но можно описать общий характер его работы.
Обращаясь с этой точки зрения к различным случаям употребления краткой и полной формы прилагательного, можно высказать предположение, что различие между этими двумя формами лежит не в значении приписываемых субъекту признаков как таковых; но скорее — в том, как, каким способом эти признаки приписываются субъекту. Это различие отражает опыт употребления каждой из форм — все поле прецедентов употребления, в составе которого каждая форма существует в представлении говорящих.
L участвует в выражениях двоякого рода, занимающих различное место в контурах высказываний: с одной стороны, в сочетании со связкой, то есть в качестве именного предиката, и с другой — в сочетании с существительным, в качестве его атрибута. Между этими двумя типами выражений имеется тесная связь; выражения с L в роли предиката и в роли атрибута часто имеют тождественный словесный состав, так что различное синтаксическое расчленение отмечается лишь разным расположением слов: Было I сырое и туманное утро (связка 'было' — сказуемое, 'сырое и туманное утро' — именная фраза: подлежащее со своими атрибутами)- Утро!было ту'манное и сырое ('утро' -подлежащее/было туманное и сырое' — предикативная фраза: составное сказуемое). Более того, в силу широких возможностей свободного словорасположения, свойственных русской речи, даже это формальное различие может затушевываться всевозможными вариациями порядка слов, имеющими разные стилистические и эмоциональные оттенки. Например, в следующей фразе из Достоевского ("Белые ночи"): Небо было такое звездное, такое светлое небо — читатель сначала интерпретирует L в первой части фразы, на основании порядка слов, как предикат ('Небо / было такое звездное'); однако во второй части фразы аналогичные по форме прилагательные явно выступают в роли атрибутов ('было / такое звездное, такое светлое небо'), что дает возможность ретроспективной переоценки их роли и в первой части фразы как атрибутов, которые оказались в позиции после связки лишь в силу "поэтической" инверсии.
Такого рода соскальзывания от одного типа выражений к другому возможны не только в литературном стиле, но и в непринужденной разговорной речи. Сравним полную естественность для разговорной речевой ситуации таких оборотов, как Эта книга совсем слабая, совсем слабая книга, — где первоначальное утверждение и его перифраза-подтверждение по-разному располагают субъект и относящееся к нему — то ли в качестве атрибута, то ли в качестве именного предиката — прилагательное. В сущности, говорящим в таких случаях нет необходимости делать четкий выбор между двумя альтернативными контурами: "мерцающее" совмещение двух разных ходов языковой мысли составляет неотъемлемую характеристику такого рода высказываний. Можно утверждать, что в языковых представлениях говорящих проглядывает неопределенно большое число сходных выражений-прототипов, в которых различие между атрибутивной и предикативной фразой с участием L затушевывается, принимая характер полутонов, тонких оттенков, легко соскальзывающих один в другой, в зависимости от контекста и интонационного воплощения фразы.
С другой стороны, предикативная роль Sh фиксирована, в силу того, что в опыте говорящих атрибутивных выражений с этой формой просто не существует. Поэтому предикативность Sh (то есть противопоставленность, совместно со связкой, субъекту-существительному) сохраняется независимо от перемещений ее в высказывании относительно субъекта и не затушевывается разговорной или поэтической инверсией. Например, в стихе Просты мои песни и грубы (Демьян Бедный) — тот факт, что одно из прилагательных предшествует существительному, а другое следует за ним, нисколько не затушевывает строй фразы, в котором оба прилагательных недвусмысленно выступают в предикативной роли.
Тесная аналогическая связь между атрибутивным и предикативным употреблением L накладывает свой отпечаток на тот смысл, который эта форма получает в роли сказуемого: попадая в предикативную позицию, L сохраняет оттенок атрибутивности; заняв место предиката в контуре высказывания, полная форма как бы "растягивает" смысл этой позиции, привнося в нее отпечаток своих употреблений в качестве атрибута, непосредственно относящегося к существительному.
Различие между атрибутивной и предикативной отнесенностью признака к предмету состоит в том, что в первом случае признак как бы растворяется в предмете как его неотъемлемая часть; в выражении тихая ночь речь не идет о 'тишине' и 'ночи' как двух раздельных компонентах смысла, но именно о 'тихой ночи' как целостном представлении. С другой стороны, эффект предицирования состоит в том, что мы активно приписываем данный признак данному предмету. Выражение Ночь тиха исходит из первичной идеи 'ночи', отвлеченной от признака 'тишины'; утверждение о том, что данный предмет характеризуется наличием у него данного признака, и составляет цель и смысл высказывания. Мы получаем представление о принадлежности данного признака данному предмету именно в силу того, что говорящий создал высказывание, чтобы сообщить нам об этом.
Это интерпретирующее, квалифицирующее, анализирующее отношение к предмету, направленное на то, чтобы приписать ему некоторый признак, ослаблено в случае, когда в предикативной позиции оказывается L. Конечно, всякий акт предицирования до некоторой степени предполагает интерпретирующую позицию говорящего по отношению к предмету высказывания; ведь предикат — это и есть то, что говорящий "сообщает" о данном предмете. Но в выражении с L аналитическое отношение к предмету размывается прецедентами атрибутивного употребления этой формы. Говорящий не расчленяет предмет и его свойство; он представляет предицируемый признак как непосредственно "присущий" данному предмету — как неотъемлемую часть той общей картины, которую являет собой данный предмет. Акт предицирования признака формой L высвечивает для нас предмет в его целости и непосредственности, обращает наше внимание на то, что он таков, каков он есть. Роль говорящего по отношению к предмету оказывается пассивной: не он совершает операцию над предметом, вычленяя в нем и приписывая ему некое свойство, но скорее предмет производит на него определенное "впечатление", оборачивается к нему такой стороной, при которой становится видно это свойство. Высказывание такого рода не представляет собой суждение о предмете, но скорее передает целостное ощущение предмета как данности, на которую говорящему остается лишь указать; оно приобретает скорее деиктический, нежели анализирующий характер.
С деиктическим оттенком тесно сопряжен апеллятивный оттенок, также присущий высказываниям с L. Указывая на предмет, как бы под влиянием непосредственного впечатления, говорящий тем самым приглашает собеседника разделить с ним это впечатление. Понять такого рода высказывание — означает не столько принять к сведению его смысл, сколько приобщиться к тому ощущению, которое данное высказывание вызывает в виде целостного, нечленимого образа. В высказывании-суждении, модус которого задается Sh, на первый план выдвигается каузальный подтекст: те подразумеваемые "почему" и "для чего", в силу которых говорящий счел нужным сообщить данное сведение о предмете. Но в высказывании-указании на первый план выдвигается эмпатический, апеллятивный подтекст: ожидание, что адресат примет предмет в этом его состоянии как данность, как впечатление, не подлежащее расчленению и анализу.
Например, высказывания с Sh типа Он смертельно болен. Он несчастен в личной жизни имеют объяснительный смысл. Говорящий произносит свое суждение на основании имеющегося у него "знания" о субъекте, а не на основе производимого субъектом впечатления; состояние субъекта, о котором нам сообщается, может никак не проявляться в том внешнем впечатлении, которое он оставляет: он может казаться здоровым или веселым, а между тем говорящему известно, что он болен или несчастен, и он хочет поделиться этим своим знанием с адресатом. Но в высказываниях Он совсем больной. Он такой несчастный речь идет именно об образе субъекта, несущем на себе печать этого своего состояния. Говорящий выражает свое впечатление/ощущение и стремится передать это впечатление адресату. В первом случае адресат "узнает" нечто о предмете высказывания; во втором — он приобщается к тому впечатлению от предмета, которое ощущает и которое стремится выразить говорящий.
Различие смысловой перспективы, задаваемой двумя формами, проявляется также в том, что в случае с Sh в фокусе внимания оказывается признак, приписываемый предмету, тогда как в случае с L внимание сосредоточено на самом предмете, несущем этот признак.
Это различие с полной безусловностью проявляется в безличных предложениях. Безличные предложения принципиально "беспредметны", они исключают определенное, конкретизированное представление о субъекте высказывания. В этих условиях предикат в форме L оказывается полностью невозможен: ведь такой предикат должен выдвигать на первый план именно представление о предмете. Вот почему конкуренция двух предикативных форм существует только в личной конструкции:
Ночь была тиха и светла. — Ночь была тихая и светлая. Но в безличном предложении возможно только Sh: Ночью было тихо и светло. Безличное предложение представляет собой наиболее радикальный случай утверждения признака в отвлечении от предмета, и этому его свойству хорошо соответствует функция, выполняемая Sh. Характерное отклонение от этого принципа находим, однако, в сцене из "Носа" Гоголя, когда цирюльник Иван Яковлевич обнаруживает нос, запеченный в хлебе:
Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. "П л о т н о е!- сказал он сам про себя, — что бы это такое было?"
Хотя предмет речи здесь предстает в "анонимной" замаскированности, типичной для безличного предложения, его осязаемость, "предметность" ощущения всячески подчеркнута; этим и вызывается предпочтение L. Ср. аналогичное различие в смысле таких выражений, как Тут мокро. Горячо!, с одной стороны, и Тут мокрое. Горячее!- с другой. Первые передают ощущение как таковое, безотносительно к вызвавшему его предмету, вторые — сообщают о "некоем предмете" (пусть еще не опознанном), вызвавшем данное ощущение.
Модус целостного образа, непосредственного ощущения, сообщаемый высказыванию полной формой, и модус суждения о субъекте, сообщаемый краткой формой, отнюдь не являются "общими значениями", способными сами по себе объяснить все разнообразие употреблений каждой формы. Дело в том, что они вовсе не являются какими-либо определенными значениями, а именно разными модусам и, в которых может быть представлен тот или иной смысл. Поэтому их роль может по-разному проявляться в различных ситуациях, в зависимости и во взаимодействии с многими факторами: такими, например, как характер субъекта (одушевленный или неодушевленный, конкретный или абстрактный); характер признака (конкретно представимый или отвлеченный, имеющий или не имеющий оценочный оттенок); отношение высказывания к более общему содержанию коммуникации и к той подразумеваемой ситуации, в которой и по поводу которой это высказывание создается; взаимоотношения между говорящим и адресатом; стилистическая и жанровая фактура сообщения. В этой переменной смысловой и стилевой среде модус каждой формы проявляется как смысловой "вектор", который, взаимодействуя со всеми другими факторами, каждый раз дает несколько иную равнодействующую, имеющую несколько иную смысловую и коммуникативную направленность.
Можно сказать, что картина предмета, наделенного теми или иными признаками, предстает в различной перспективе, как бы в разном освещении, в зависимости от того, выражены ли данные признаки полной либо краткой формой адъективного предиката. Но в зависимости от многих переменных условий это различие перспективы дает разные результирующие эффекты; оно воплощается во множестве конкретных значений, образующих целый континуум смыслов. В одних ситуациях на первый план выступает различие в интерпретации самих признаков: их постоянного либо переменного характера, относительности либо безусловной заданности, степени их существенности для понимания предмета, степени их "объективности" либо, напротив, импровизационной окказиональности. В других — различие перспективы не вносит каких-либо существенных изменений в понимание признака как такового, но проявляется в первую очередь в характере позиции, занимаемой говорящим по отношению к предмету сообщения и к адресату: позиции интимного соучастия либо формально-отстраненного обмена суждениями, непосредственно адресованного апеллятивного "жеста" либо объективированного сообщения. Иногда, наконец, это различие отражает не столько подразумеваемые отношения говорящего и адресата, сколько различную жанровую рамку сообщения: высказывание приобретает оттенок "разговорности" либо "научности", эмоционально заряженной импровизационности либо отчетливой и резкой аподиктичности, непритязательной небрежности либо ораторского или поэтического пафоса.
Рассмотрим некоторые линии, по которым происходит эта игра различных коммуникативных сил, воплощающая значение каждой из конкурирующих форм во все новые, бесконечно разнообразные конфигурации.
1) Предметное содержание сообщения.
Целостное образное отношение к предмету, к которому тяготеют высказывания с L, проявляется в предпочтении для этого типа высказывания квалифицирующих признаков, способных вызывать непосредственное образное представление. И напротив, высказывания с Sh естественным образом обращаются с признаками, имеющими отвлеченный смысл, невоплотимый в осязаемом образе. Это различие наглядно проявляется в тех случаях, когда какое-либо физическое свойство подвергается метафорическому переосмыслению, приобретая более отвлеченный смысл; отражением такого сдвига служит предпочтение, оказываемое в этом случае Sh. Сравним:
Голос у него негромкий. Он совсем простой.
Мой дар убог, и голос мой негромок. (Баратынский) Зорич был очень прост. (Пушкин)
В первом случае речь идет о конкретных, образно представимых свойствах: 'негромкость' как тембр голоса, 'простота' как определенная внешность и манера поведения. Во втором — эти свойства получают вторичный, метафорический смысл, невоплощаемый в чувственный образ: негромкость поэтического голоса символизирует определенную эстетическую позицию, простота интерпретируется как 'наивность, глупость'. Этому различию соответствует предпочтение L для первого случая и Sh — для второго.
Характерен следующий пример из басни Крылова "Волк на псарне" — слова "ловчего"-Кутузова, обращенные к "волку"-Наполеону:
Ты сер — а я, приятель, сед!
Употребление в этом случае L лишило бы фразу всякого смысла; она превратилась бы в простое указание на цвет шкуры "волка" и цвет волос "ловчего". Но Sh придает физическим свойствам вторичную символическую ценность: "серый" цвет выступает как знак лицемерного камуфляжа, седина — как символ житейской мудрости и опыта.
Сказанное, конечно, не означает, что высказывания с L всегда имеют дело с физически осязаемыми свойствами, а высказывания с Sh — с абстрактными; такое различие наглядно проявляется лишь в случаях, подобных приведенным выше, когда эффект символического переосмысления признака вызывает явный сдвиг в значении прилагательного. В большинстве случаев такого резкого сдвига не происходит, так что один и тот же признак с равным успехом воплощается в обеих конкурирующих формах. Но и в этих случаях воплощаемый признак получается не совсем "одним и тем же". Тяготение к аналитической абстрактности, исходящее от формы Sh, может придавать даже физически конкретному признаку оттенок всеобщности, освобождая его от связи с определенной, конкретно представимой ситуацией:
Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!
Чуден Днепр при тихой погоде. (Гоголь)
Сравним выражение типа Погода чудная, где отношение к предмету приобретает характер деиктической непосредственности: такое высказывание указывает на состояние погоды "здесь" и "сейчас".
В этом случае определяющую роль играет не характер самого признака как такового, но скорее общий характер подразумеваемой ситуации: ее конкретность, непосредственное наличие, делающее естественным "указательный" языковой жест, либо, напротив, поэтическое обобщение, возвышающееся над конкретно представимой картиной.
Однако и характер ситуации не является конечной инстанцией, определяющей выбор формы прилагательного. Естественное тяготение более конкретных и осязаемых ситуаций к L и более обобщенных и абстрагированных к Sh может перекрываться влиянием, исходящим от стиля и жанра сообщения. Смысл высказывания, несущего отпечаток торжественной книжности, либо поэтической приподнятости, либо аподиктической категоричности, не ограничивается одним конкретным актом сообщения, но апеллирует к более широкому и абстрактному адресату. На этих стилевых "подмостках" высказывание как бы возвышается над эмпирической конкретностью, даже если его непосредственный смысл относится к определенной, конкретно представимой ситуации:
Ты бледен, речь твоя сурова. (Пушкин)
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездою говорит. (Лермонтов)
"Перевод" такого рода высказываний в модус эмпирически конкретного, непринужденного контакта между говорящими даст выражения типа Какой ты бледный! Ночь совсем тихая! Сравним пример из Маяковского, где традиционно поэтический пейзаж подается с непринужденной интонацией, нарочито лишенной "литературности"; этой стилевой установке соответствует появление L:
Будто бы вода — давайте мчать болтая,
Будто бы весна — свободно и раскованно!
В небе вон луна такая м о л о д а я,
Что ее без спутников и выпускать рискованно.
Итак, большая или меньшая образная воплотимость признака, более или менее конкретный или обобщенный характер ситуации, наконец, более непринужденный либо книжно сублимированный модус сообщения — таковы различные оси смысловых тяготений, взаимодействие которых определяет вектор выбора одной из конкурирующих форм прилагательного. Результирующий эффект почти никогда не бывает полностью и заведомо предсказуемым, потому что он не зависит исключительно от одного из этих факторов. Если один из признаков выражен более явно, недвусмысленно тяготея к определенному полюсу выбора, весомость других признаков соответственно снижается, как бы отступает на второй план. Например, чем отчетливее тяготеет смысл выражения в сторону выбора одной из форм, тем большую вариабельность стилистических условий допускает и может адаптировать такой выбор. И напротив, если смысловой фактор выражен не так отчетливо — стилистический характер высказывания выступает на первый план в качестве определяющего критерия выбора.
Такие выражения, как Человек он был простой. Голосу него был негромкий и приятный, по самой сути обозначаемой ситуации естественно тяготеют к выбору L. Поэтому стилистический спектр их употребления относительно широк и свободен — от непринужденного разговора до беллетризованных форм повествования. С другой стороны, форма Sh, будучи применена к такого рода ситуациям, вызывает эффект нарочитого повышения стиля, даже ходульности. Краткая форма в этом случае делается возможной только тогда, когда стилистическая сублимация достигает такой резкости, что перекрывает конкретность и предметность самого признака. Таков, например, отзыв о Ленине в очерке М. Горького, произносимый неким анонимным "рабочим": Прост, как правда.
Однако чем более абстрактным и/или "высоким", относящимся к духовной сфере, является значение признака, тем с большей естественностью допускает он воплощение в форме Sh — тем, соответственно, свободнее становятся стилистические условия употребления этой формы. В частности, переносное употребление признака 'простой', о котором говорилось выше, возможно с Sh и в непринужденной речи: Ну и прост же ты, братец! (то есть 'глуп, наивен'). Соответственно, такой признак оказывается труднее воплотить в форме L. В этом случае суживается стилистический спектр полной формы: она может появиться только в подчеркнуто непринужденной, даже нарочито непритязательной речевой ситуации. Так, печать явной разговорности лежит на выражении Эта книга, действительно, прекрасная; без вставной конструкции, подчеркивающей "импровизационность" фразы, ее трудно было бы употребить даже в разговорной речи. Но уже выражение Погода была прекрасная обладает более широким стилистическим спектром употребления: от разговорной речи до литературного повествования. Различие состоит в том, что феномен 'прекрасной погоды' отличается большей предметной осязаемостью, чем феномен 'прекрасной книги'. В одном случае более благоприятные смысловые предпосылки употребления L допускают большую гибкость стилистических условий, в которых может произойти выбор этой формы; в другом — употребление L оказывается возможным лишь при условии резкой стилистической маркированности, перекрывающей тяготение смысла ситуации к Sh.
2) Позиция говорящего.
Вернемся к исходному тезису о том, что Sh задает модус "суждения" о предмете, а L — модус "представления" предмета. Это различие определяет разницу в самоощущении говорящего в его отношении к предмету своего высказывания. Модус суждения определяет стремление к четкости, точности, аподиктичности; модус представления, напротив, тяготеет к импрессионистичности и импровизационности. Поэтому всякое уточнение вводимого признака, обставление его квалифицирующими ограничениями (прямо упоминаемыми либо подразумеваемыми) расширяет возможности употребления Sh; и напротив, подчеркивание неточности, субъективной приблизительности признака повышает вес L.
Например, выражения Он серьезно болен. Он болен эпилепсией. Он был болен два года практически не допускают возможности употребления L. Последняя, однако, естественным образом появляется в высказываниях типа Он ведь больной. Он совсем больной, в которых признак не получает точной квалификации, растворяясь в неопределенно-целостном образе.
По этой же причине Sh явно предпочитается в выражениях с подразумеваемым объектом, даже если последний прямо не назван: Он виноват ['в чем, перед кем']; Как похож! ['на кого']; Ты, кажется, влюблен ['в кого']. В эту же категорию попадают все выражения со страдательным причастием: написан, сломан, рассказан ['кем']. Во всех подобных случаях смысл ситуации предполагает некое ограничение, определенное условие, которым обставляется наличие данного признака. Такой квалифицирующий, аналитический подход к ситуации естественно укладывается в смысловую перспективу, задаваемую Sh.
В этих неблагоприятных для нее смысловых условиях L может появиться только при поддержке сильной стилистической компенсации — в условиях явной сниженности, даже субстандартности речи. Ср. знаменитый возглас Катюши Масловой в "Воскресении": Не виноватая я! — в котором наглядно предстает социальная пропасть, отделяющая ее от Нехлюдова.
С другой стороны, добавление выражений, создающих эффект приблизительности, импрессионистической субъективности,- таких, как 'будто', 'словно', 'как', 'как бы', 'как будто', — резко повышает тяготение в сторону L: Ты словно мертвый. Этот домик как нарисованный. Платье как будто вырезанное из модного журнала. В последнем случае, как видим, даже наличие причастия и уточняющего объекта не препятствует появлению L, поскольку выражение как будто аннулирует (или, по крайней мере, смягчает) квалифицирующий эффект; все же наличие этих противоположно тяготеющих факторов создает в данном случае возможность и для употребления Sh: Платье как будто вырезано из модного журнала. Эта возможность практически отсутствует в предыдущих двух примерах, не имеющих такого противовеса.
Некоторые оценочные слова и обстоятельственные выражения могут с равным успехом инкорпорироваться в состав выражений с L и Sh. В этом случае они приобретают различные оттенки смысла, адаптируясь к двум разным смысловым перспективам. Так, выражения, содержащие указание на конкретный, легко обозримый отрезок времени в настоящем или прошлом, не препятствуют употреблению L. В этом употреблении, однако, они не столько уточняют время и место, сколько придают ситуации черты непосредственной данности, т. е. адаптируются к смысловой перспективе, задаваемой L. Высказывание Ты вчера был невесел определяет отрезок времени, в течение которого признак наличествовал у субъекта; утверждается, что субъект был таков именно ' вчера' (' в отличие от его состояния сегодня', или'в отличие от его обычного состояния'). Но в выоказывании Ты вчера был невеселый обстоятельство времени указывает не столько на продолжительность действия признака, сколько на время, в течение которого говорящий воспринимал предмет своего высказывания в этом состоянии. Сколько времени субъект находился (объективно) в этом состоянии — в данном случае несущественно; важно, что 'вчера' говорящий "застал" его в этом состоянии, воспринял этот его образ.
Выражения с L и Sh по-разному реагируют на ситуацию, когда субъекту одновременно атрибутируется несколько признаков, выраженных сочинительной цепочкой прилагательных. Такая ситуация оказывается благоприятной для полной формы: повышается вероятность ее употребления, расширяется (от чисто разговорного в сторону нейтрального и даже книжного) ее потенциальный стилистический спектр. И напротив, возможность выбора Sh снижается и приобретает резко отмеченный характер. Например, такие выражения с единичным прилагательным, как Ночь была холодная и Ночь была холодна, составляют приблизительно равноценную смысловую и стилистическую альтернативу: первая тяготеет к несколько большей разговорности и непосредственности, вторая — к книжности и аподиктичности. Однако в такой паре выражений, как Ночь была тихая, светлая и холодная и Ночь была тиха, светла и холодна, — равновесие явно нарушается в пользу первой альтернативы. Первое предложение воспринимается как нейтральный, наиболее вероятный выбор, вполне уместный не только в разговорной речи, но и в книжно окрашенном повествовании; второе — представимо только в качестве "крайнего случая": при наличии сильной смысловой эмфазы либо в условиях возвышенного поэтического стиля.
Это различие объясняется тем, что множественность атрибуцируемых признаков усиливает ощущение импрессионистической приблизительности в характеристике предмета. Чем больше признаков приписывается предмету, тем труднее представить их раздельно, в качестве дискретных параметров, характеризующих предмет. Различные признаки совмещаются друг с другом, сливаясь в единое комплексное представление. Ощущение, что мы не столько характеризуем предмет с разных сторон, сколько получаем его комплексный образ, находит свое естественное выражение в предпочтении L. С другой стороны, употребление подряд нескольких Sh делает смысловую фактуру слишком напряженной: слишком много суждений о предмете оказывается "упаковано" в оболочке одного высказывания. Такое высказывание приобретает оттенок крайней резкости и категоричности. Характерен следующий пример из Тургенева ("Бретер"):
- Лучков неловок и груб, — с трудом выговорил Кистер, — но... — Что "но"? Как вам не стыдно говорить "но"? Он груб и неловок, и зол, и самолюбив.140
140 Пример взят из кн.: В. В. Виноградов, ор. cil., стр. 715.
3) Эвристическая установка высказывания.
Существенным фактором, определяющим динамику выбора формы, является представление о "новизне" либо, напротив, самоочевидности мысли, выраженной в высказывании. Высказывание с Sh приписывает предмету определенный признак, сообщая о наличии у него этого признака в качестве нового сведения; высказывание с L выражает непосредственное впечатление о предмете, с целью вызвать соответствующее впечатление у слушателя. В силу этого чем более очевиден и тем самым непосредственно узнаваем признак, тем с большей естественностью он может быть подан в модусе указания, свойственном L; и напротив, чем в большей мере наличие признака является предметом рассуждения, тем более повышается вероятность и необходимость употребления Sh.
Эта разница с особенной наглядностью проявляется в научной речи, где различие между постулируемым, принимаемым как данность исходным определением и таким, которое является результатом логического вывода, имеет принципиальное значение и проводится с полной отчетливостью. Определения первого рода неукоснительно выражаются с помощью L, второго — с помощью Sh. Когда мы говорим: Эти прилагательные — краткие. Этот угол — прямой, — мы ничего не "сообщаем" о предмете; мы просто указываем на наличие предмета 'краткое прилагательное' или 'прямой угол'. Высказывание такого рода есть акт узнавания предмета ('я узнаю эту грамматическую форму: это краткое прилагательное', или 'я знаю из условия задачи, что это прямой угол'), а не акт его познавания. Но утверждение типа Эти треугольники подобны выражает результат некоторого рассуждения и в этом качестве требует Sh.
Различие между познавательным и указательным характером высказываний с Sh и L лежит в основе их двойственного отношения к временной протяженности признака. Мы могли уже убедиться, что обе формы способны обозначать как постоянный, так и переменный признак. Однако и это постоянство, и эта переменность имеют разный эвристический смысл для каждой из форм.
Высказывание-суждение, относится ли оно к постоянному либо переменному свойству предмета, всегда имеет относительную ценность, в том смысле, что на него можно возразить, его можно опровергнуть. Когда я говорю: Эти треугольники подобны, я высказываю суждение, которое не имеет временных ограничений; его эвристическая относительность заключается, однако, в том, что я могу ошибаться, мне могут возразить — Нет, эти треугольники неподобны.
С другой стороны, высказывания с L могут относиться и к постоянным свойствам предмета, неотъемлемым от самого его существования, и к мимолетным, преходящим и субъективным впечатлениям-ощущениям. Но в обоих этих случаях высказывание служит как бы "снимком" с предмета, воссоздающим его целостный облик; сколько бы других снимков-впечатлений того же предмета ни было предложено — они не отменяют данной, однажды запечатленной картины. В этом смысле высказывание с L имеет абсолютную эвристическую ценность, даже если оно относится к мимолетному и заведомо поверхностному ощущению. Сказать об одном и том же лице: Он глуп и Он умен — значит произнести два несовместимых суждения, одно из которых должно быть отвергнуто как ложное. Но высказывания Какой ты глупый!'и Какой ты умный!, обращенные к одному лицу, не содержат в себе противоречия: они запечатлевают два разных снимка субъекта, в которых он предстает в различных ситуативных и эмоциональных ракурсах.
Можно утверждать, что различие между высказываниями с L и Sh лежит в эпистемологическом, а не эмпирическом плане; их отличительным свойством является, соответственно, эвристическая абсолютность и относительность — а отнюдь не эмпирическая постоянность или временность, объективность или субъективность, определенность или неопределенность вводимого признака. Высказывания с L, по сравнению с Sh, и более непосредственны, и более абсолютны — как абсолютно всякое прямое указание на предмет, в сравнении с описанием или суждением о том же предмете.
Различие в эвристическом статусе высказываний с L и Sh определяет также различие той роли, которую они играют в развертывании коммуникации в целом. Высказывание с Sh содержит в себе нечто такое, о чем говорящий считает необходимым сообщить: что-то объяснить, доказать, на что-то возразить. В этом смысле у него всегда имеется реальная или подразумеваемая предыстория — то исходное состояние знания или суждения о предмете, на фоне которого данное высказывание выступает в качестве "нового" сообщения. Но высказывание с L утверждает образ-снимок предмета как данность, которую слушателю остается лишь принять.
Например, высказывание Чемодан тяжел получает осмысление на фоне той или иной презумпции: мы выбираем чемодан в магазине и считаем, что этот чемодан нам не подходит — слишком 'тяжел'; или: мы укладывали вещи, и, очевидно, их оказалось больше, чем мы предполагали,- чемодан 'тяжел'; или: я не хочу, чтобы вы поднимали этот чемодан, — он 'тяжел', и т. п. Наше высказывание занимает свое место в коммуникативном "сюжете", состоящем из подразумеваемых исходных интенций, их подтверждения, либо отрицания, либо уточнения в данном высказывании, и вытекающих из этого потенциальных следствий. Но высказывание Чемодан тяжелый прежде всего передает само ощущение, возникающее непосредственно в момент контакта с предметом.
Аналогично, например, фраза Эта задача трудна может иметь различный смысл, в зависимости от различных презумпций: 'трудна по сравнению с другими предложенными задачами', 'трудна для вашего уровня подготовки', 'требует повышенного внимания'; но фраза Эта задача трудная имеет самодостаточный смысл: она передает непосредственное впечатление говорящего, сообщает о 'трудной задаче' как о непосредственно данном факте.
В высказывании с Sh в фокусе внимания оказывается изменение в состоянии адресата, вызываемое тем, что ему сообщается нечто "новое" о предмете; высказывание с L направлено на достижение тождества между говорящим и слушателем в отношении того, как они представляют себе данный предмет. В первом случае предшествующее состояние изменяется, и именно этот переход от прежнего суждения о предмете к новому составляет подразумеваемый "сюжет" данного сообщения; во втором — предшествующее состояние, каким бы оно ни было, отступает перед непосредственной наглядностью данного впечатления. Высказывание с L вкрапливается в речь в качестве статичной образной картины. Оно может стать отправной точкой, фоном для последующих суждений о предмете; но само оно как бы не имеет предыстории, появляясь как непосредственная данность.
4) Взаимоотношения с адресатом.
Различие позиции, занимаемой говорящим по отношению к адресату в связи с выбором Sh либо L, можно описать как различие между стремлением создать объективированное утверждение, с одной стороны, и стремлением к контакту, к эмпатии — с другой. В первом случае говорящий исходит из некоторой презумпции, по отношению к которой он нечто "сообщает" своим высказыванием. От адресата ожидается, что он обладает надлежащим предварительным знанием, позволяющим адекватно воспринять смысл сделанного по отношению к этому исходному состоянию сообщения. В этом случае адресат выступает в качестве абстрактного получателя сообщения, соответствующим образом "квалифицированного", а не живого лица, к которому непосредственно апеллирует говорящий. Успешность принятия сообщения адресатом определяется знакомством с необходимой фоновой информацией, а не личными взаимоотношениями с автором сообщения.
В отличие от этого, высказывание с L не нуждается в презумпции; оно указывает на непосредственно возникшее впечатление или ощущение. Но именно поэтому такое высказывание нуждается в эмпатическом соучастии говорящего; принять высказывание с L — значит разделить с говорящим испытанное им впечатление. Такая ожидаемая реакция предъявляет определенные требования к адресату как личности. Его объективная, чисто функциональная подготовленность к роли адресата — владение необходимой фоновой информацией — оказывается недостаточной, да и не столь существенной. Важнее то, что говорящий считает собеседника лицом, способным разделить его впечатление и ощущение. Если высказывание с Sh всегда так или иначе подразумевает, "что знает" или "что думает" по этому поводу адресат сообщения, то высказывание с L так или иначе подразумевает, "кто таков" этот адресат, как относится к нему говорящий. Это соотношение, разумеется, остается в силе не только в случае конкретного собеседника, но и в коммуникации, обращаемой к обобщенному адресату. И в этом случае сохраняется различие между подразумеваемым внеличным адресатом, обладающим должной квалификацией, и подразумеваемым личным адресатом — потенциальным союзником говорящего, с которым он может "поделиться" своим высказыванием.
Соотношение высказываний с L и Sh несколько напоминает соотношение обращений на 'ты' и на 'Вы': 'ты' предполагает личное отношение к собеседнику, 'вы' — чисто функциональную роль, которая может быть заполнена любым адресатом. Неудивительно, что существует довольно сильная корреляция в употреблении 'ты' и L, с одной стороны, 'Вы' и Sh, с другой. Так, в знаменитом стихотворении Пушкина обращение на 'Вы' сочетается, вполне закономерно, с Sh:
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю!
Однако в ситуации интимного обращения (в письме к жене) Пушкин пользуется обращением на 'ты' — и формой L:
Какая ты умненькая, какая ты миленькая! какое длинное письмо! как оно дельно!
Высказывания с 'ты' самой своей формой программируют прямой, интимно-непринужденный контакт с адресатом. В этом апеллятивном и стилевом пространстве выбор L оказывается полностью естественным. Отклонение от этого выбора может произойти лишь в "особых случаях", при наличии очень резко выраженных противодействующих факторов.
А. М. Пешковский в свое время подметил, что выражение Ты глуп звучит как оскорбление, но реплика Ирины в "Трех сестрах" Чехова: Ты, Машка, глупая — не только не заключает в себе ничего оскорбительного, но напротив, подчеркивает интимность контакта.141 К этому можно добавить, что и выражение Ты очень умен звучит если не оскорбительно, то во всяком случае резко и сухо; в таком высказывании как будто подразумевается: 'Ты очень умен, но... '. Дело тут в том, что Sh, с его объективирующим характером, плохо сочетается со смысловым и стилистическим полем высказываний с 'ты'. В условиях прямого и очевидного контакта, задаваемого местоимением 'ты', установка на "объективированность" суждения осмысляется как отстраняющий жест: хотя говорящий явно имеет интимно-личные отношения с адресатом, дающие право на 'ты', однако он почему-то выбрал объективированную форму для своего суждения, которая как бы игнорирует всякое личное соучастие собеседника; отсюда эффект особой сухости или неприязни, исходящий от такого рода высказывания.
141 Пешковский, ор. сit, стр. 225.
Противоположный эффект возникает в высказываниях с 'Вы' (в значении вежливого обращения). Обращение на 'Вы' задает модус формального, безлично-объективированного отношения к адресату. В этом смысловом поле высказывания с Sh оказываются естественным выбором. Ты сегодня весел. Ты болен звучит как несколько резкое по тону суждение — безапелляционный приговор, в подтексте которого угадывается конфронтация с собеседником (он забыл о том, как еще вчера жаловался на жизнь, он отказывается обращаться к врачу, и т. п.). Но высказывания Вы сегодня веселы. Вы больны — оказываются более нейтральными по тону; эффект объективированного суждения, задаваемый Sh, не имеет здесь такого подчеркнутого, нарочитого смысла, поскольку он не противоречит формальному модусу взаимоотношений с адресатом, определяемому обращением на 'Вы'. Напротив, в этих условиях выбор L будет резко маркирован, создавая ощущение повышенной интимности; эффект получается такой, как будто прямая апелляция к адресату как бы пробивается сквозь оболочку формальных отношений, заданную обращением на 'Вы'. Характерен в этом отношении следующий пример из Бабеля ("Гюи де Мопассан"):
Я потянулся к Раисе и поцеловал ее в губы. Они задрожали и вспухли.
- Вы з а б а в н ы й! — прорычала она ...
Что касается предложений с субъектом в третьем лице, то здесь объективирующая установка Sh и апеллятивная направленность L не выражаются прямо, но подразумеваются, окрашивая собой смысловую перспективу и стилевую тональность высказывания. Можно сказать, что высказыванияс Sh подчеркивают отстраняющий, экстернализирующий потенциал, свойственный форме третьего лица. Но в выражениях с L предмет высказывания как бы играет роль медиума, через посредство которого возникает эмпатическая связь между говорящим и его собеседником.
Так, высказывание Он .жив/может иметь разный смысл, в зависимости от смыслового фона: простое утверждение (в ответ на вопрос), возражение, удивление, радость. Некоторые из этих возможных интерпретаций включают в себя и эмоциональное отношение говорящего к сообщаемому факту, и определенную позицию по отношению к собеседнику. Но эти эмотивные и апеллятивные обертоны не обязательны: они появляются лишь как результат осмысления высказывания в определенном контексте. Первичным его содержанием является собственно утверждение, которое может быть по-разному (в том числе и эмоционально) осмыслено в разных ситуациях. Но высказывание Он живой! по самой своей сути неотъемлемо от непосредственной эмоциональной реакции говорящего — и того, что он рассчитывает на такую же реакцию со стороны адресата. Какой бы конкретный смысл ни имело это высказывание в разных контекстах — радость, изумление, сострадание, ужас, — неизменным остается стремление говорящего передать адресату возникший у него импульс-ощущение.
Характерно, с точки зрения подразумеваемого отношения к адресату, соотношение следующих двух предложений:
Д е л о я с н о е — вот вам карта,
Это — Америка, а это — мы.
(Маяковский, "Христофор Коломб")
- Милостивый государь... — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, — я не знаю, как понимать слова ваши...
Здесь все дело, кажется, совершенно о ч е в и д н о... (Гоголь, "Нос")
В первом случае (Колумб стремится убедить купцов дать ему деньги на экспедицию) подчеркивается апеллятивное давление, оказываемое говорящим на собеседника; предмет речи как бы приближается к собеседникам, его "ясность" должна им быть непосредственно, образно очевидной. Во втором — герой явно затрудняется в обращении к собственному носу; при всей объективной "очевидности" его дела, ему не ясно, каким образом он может адресоваться с ним к данному собеседнику. Это различие апеллятивного жеста — в одном случае подчеркнуто открытого, в другом — затрудненного и неуверенного — передается контрастными выражениями с L и Sh.