Альбер Камю{120}. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде
Абсурдное рассуждение
Театр
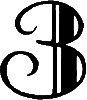
«Зрелище — петля, чтоб заарканить совесть короля», — говорит Гамлет. Хорошо сказано — «заарканить», ибо схватить совесть нужно на лету, в то неуловимое мгновение, когда она бросает беглый взгляд на самое себя. Повседневный человек не любит задерживаться, он в вечной гонке. Но в то же время он ничем, кроме себя самого, не интересуется, в особенности когда речь идет о том, кем бы он мог стать. Отсюда его склонность к театру, к зрелищам, предлагающим на выбор столько судеб. Он может ознакомиться с ними без сострадания и горечи. В этом легко узнать бессознательного человека, торопливо стремящегося к неведомо каким надеждам. Абсурдный человек появляется, когда с надеждами покончено, когда ум уже не восхищается игрой, а вступает в нее. Проникнуть во все жизни, пережить их во всем их многообразии — вот что значит играть. Я не хочу тем самым сказать, будто все актеры следуют этому зову, что все они люди абсурда. Но их судьба — это абсурдная судьба, она полна соблазна, она влечет к себе сердце ясно видящего человека. Эта оговорка необходима, чтобы не было недоразумений по поводу того, о чем пойдет речь.
Актер царит в преходящем. Известно, что его слава — одна из самых эфемерных. Так, по крайней мере, говорят о ней. Но эфемерна любая слава. С точки зрения обитателя Сириуса{150}, десять тысячелетий превратят в пыль произведения Гёте, предадут его имя забвению. Всего несколько археологов, быть может, станут разыскивать «свидетельства» нашей эпохи. В этой идее всегда было что-то поучительное. Если продумать все ее следствия, то вся наша суета исчезнет, уступив место полному благородства безразличию. Оно направляет наши заботы по самому верному пути, то есть к непосредственно данному. Наименее обманчива слава, которой живут каждый день.
Так что актер избирает несметную славу: ту, что освящает и оправдывает самое себя. Из того, что все когда-нибудь должны умереть, он сделал наилучшие выводы. Актер либо состоялся, либо нет. Даже никому не известный писатель сохраняет надежду, полагая, что о нем будут свидетельствовать оставленные им произведения. От актера нам в лучшем случае останется фотография. Каким он был, со своими жестами и паузами, спертым дыханием и любовными вздохами, — это до нас не дойдет. Не знать его — значит не видеть его игры, не умирать сотни раз вместе с его героями, которых он наделял своей душой и воскрешал на сцене.
Удивительно ли, что слава, воздвигнутая на фундаменте из столь эфемерного материала, оказывается преходящей? У актера всего три часа, чтобы быть Яго или Альцестом, Федрой или Глостером. В короткий промежуток времени, на пятидесяти квадратных метрах подмостков все эти герои рождаются и умирают по его воле. Трудно найти другую столь же полную и исчерпывающую иллюстрацию абсурда. Эти чудесные жизни, эти уникальные и совершенные судьбы, пересекающиеся и завершающиеся в стенах театра на протяжении нескольких часов, — найдется ли еще более ясный вид на абсурд? Сойдя со сцены, Сигизмунд{151} превращается в ничто. Через два часа он сидит в кафе. Возможно, тогда-то жизнь и есть сон. Но вслед за Сигизмундом приходит другая роль. Страдающий от неуверенности персонаж сменяет неистового мстителя. Пробегая, таким образом, по векам и жизням, подражая людям, таким, как они есть, или таким, какими они могли бы быть, актер сливается с другим абсурдным персонажем — путешественником. Подобно путешественнику, он исчерпывает что-то и спешит дальше. Актеры — путешественники во времени и, если брать лучших среди них, они путешествуют, выслеживая души. Если мораль количества вообще имеет питательную почву, то ею является эта единственная в своем роде сцена. Трудно сказать, что за польза актеру в его персонажах. Это неважно. Единственно, что необходимо знать: в какой степени он отождествляет себя с этими неповторимыми жизнями? Да, бывает так, что актер проносит их по своей жизни, и они слегка выступают за пределы того времени и пространства, в котором родились. Они сопровождают актера, ему уже нелегко отделаться от тех, кем ему довелось побывать. Случается, что он берет стакан, воспроизводя жест Гамлета, поднимающего чашу. Нет, дистанция между ним и сыгранными персонажами не так уж велика. Ежемесячно и ежедневно он иллюстрирует ту плодотворную истину, что нет границы между тем, чем хочет быть человек, и тем, чем он является. Своим повседневным лицедейством он показывает, насколько видимость может создавать бытие. Ибо таково его искусство — доведенное до совершенства притворство, максимальное проникновение в чужие жизни. В итоге его призвание ясно: всеми силами души он стремится быть ничем, то есть быть многими. Чем уже границы, заданные ему при создании образа, тем больше нужен талант. Через три часа он умрет под маской, которая на сегодня стала его лицом. За три часа он должен пережить и воплотить судьбу во всей ее неповторимости. Это и называется: потерять себя, чтобы найти. За эти три часа он дойдет до конца того безысходного пути, прохождение которого требует от зрителя в партере всей его жизни.
Мим преходящего, актер лишь внешне упражняется и совершенствуется. Театральные условности таковы, что выразить и постичь муки сердца можно либо с помощью жеста, во плоти, либо посредством равно принадлежащего душе и телу голоса. Закон этого искусства гласит, что все должно уплотниться, перейти во плоть. Если бы на сцене стали любить так, как любят в жизни, вслушиваясь в неизъяснимый голос сердца, смотреть так, как созерцают друг друга влюбленные, то язык театра превратился бы в никому не понятный шифр. В театре должно говорить даже молчание. О любви свидетельствует повышенный тон голоса, даже неподвижность должна сделаться зрелищной. В театре царит тело. Ставшее по недоразумению предосудительным слово «театральность» полностью охватывает всю эстетику и всю мораль театра. Полжизни человек проводит молча, отвернувшись ото всех, говоря нечто само собой разумеющееся. Актер вторгается в его душу, снимает с нее чары, и раскованные чувства затопляют сцену. Страсти говорят в каждом жесте, да что там говорят — кричат. Чтобы представить их на сцене, актер словно бы заново сочиняет своих героев. Он изображает их, лепит, он перетекает в созданные его воображением формы и отдает призракам свою живую кровь. Само собой разумеется, я говорю о настоящем театре, дающем актеру возможность физически реализовать свое призвание. Посмотрите Шекспира. С первого же явления мы видим в этом театре неистовый танец тел. Ими все объясняется, без них все рухнет. Король Лир не начнет своего пути к безумию без того брутального жеста, которым он изгоняет Корделию и осуждает Эдгара. Именно поэтому трагедия разворачивается под знаком сумасшествия. Души преданы пляске демонов. В итоге — не меньше четырех безумцев (один по ремеслу, другой по своей воле, еще двое из-за мучений): четыре необузданных тела, четыре невыразимых лика одного и того же удела.
Недостаточны даже масштабы человеческого тела. Маски и котурны, подчеркивающий черты лица грим, костюм, который преувеличивает или упрощает, — в этом универсуме все принесено в жертву видимости, все создано для глаз. Чудом абсурда является телесное познание. Мне никогда по-настоящему не понять Яго, пока я не сыграю его. Сколько бы раз я его ни слышал, но постичь смогу, только увидев. С абсурдным персонажем актера роднит монотонность: один и тот же силуэт, чуждый и в то же время знакомый, упрямо сквозит во всех его героях. Отличительной чертой великого произведения театрального искусства является то, что в нем мы находим это единство тона115. Вот почему актер противоречив: он один и тот же, и он многообразен — столько душ живет в его теле. Но именно такова противоречивость абсурда: противоречив индивид, желающий всего достичь и все пережить; противоречивы его суетные усилия, его бессмысленное упрямство. Но то, что обычно находится в противоречии, находит свое разрешение в актере. Он там, где тело сходится с умом, где они теснят друг друга, где ум, утомившись от крушений, возвращается к своему самому верному союзнику. «Блажен, — говорит Гамлет, — в ком кровь и ум такого же состава. Он не рожден под пальцами судьбы, чтоб петь, что та захочет».
Удивительно, что церковь не запретила актеру подобную практику. Церковь осуждает в этом искусстве еретическую множественность душ, разгул страстей, скандальное притязание ума, отказывающегося жить лишь одной судьбой и склонного к невоздержанности. Она налагает запрет на этот вкус к настоящему, на этот триумф Протея{152} — ведь это отрицание всего того, чему учит церковь. Вечность — это не игра. Ум, настолько безумный, чтобы предпочесть вечности комедию, теряет право на спасение. Между «повсюду» и «всегда» нет компромисса. Поэтому столь низкое ремесло может привести к безмерным духовным конфликтам. «Важна не вечная жизнь, — говорит Ницше, — но вечная жизненность». Вся драма, действительно, в выборе между ними.
Адриена Лекуврёр{153} на смертном ложе хотела было исповедаться и причаститься, но отказалась отречься от своей профессии и тем самым утратила право на исповедь. Разве это не противопоставление богу всей силы чувства? В агонии эта женщина со слезами на глазах не желает отречься от своего искусства — вот пример величия, которого она никогда не достигала при свете рампы. Такова ее самая прекрасная и самая трудная роль. Выбрать небеса или смехотворную верность преходящему, предпочесть вечность или низвергнуться в глазах бога — вот исконная трагедия, в которой каждому необходимо занять свое место.
Комедианты той эпохи знали, что отлучены от церкви. Избрать эту профессию означало избрать муки ада. Церковь видела в актерах своих злейших врагов. Какие-то литераторы негодовали: «Как, ради Мольера лишиться вечного спасения!» Но именно так стоял вопрос, особенно для того, кто, умирая на сцене под румянами, завершал жизнь, целиком отданную распылению самого себя. В связи с этим следуют ссылки на гениальность, которой все извинительно. Но гениальность ничего не извиняет именно потому, что отказывается от извинений.
Актер знал об уготованных ему карах. Но какой смысл имели столь смутные угрозы в сравнении с последней карой, уготованной для него самой жизнью? Он заранее предчувствовал ее и полностью принимал. Как и для абсурдного человека, преждевременная смерть непоправима для актера. Ничем не возместишь те лица и века, которые он не успел воплотить на сцене. Но, как бы то ни было, от смерти не уйти. Конечно, актер повсюду, пока жив, но он находится и в своем времени, которое оставляет на нем отпечаток.
Достаточно немного воображения, чтобы ощутить, что означает судьба лицедея. Во времени он создает одного за другим своих героев. Во времени учится господствовать над ними. И чем больше различных жизней он прожил, тем легче он отделяет от них свою собственную жизнь. Но вот настанет время, когда ему нужно умирать и на сцене, и в мире. Все прожитое стоит перед его глазами. Взор его ясен. В своей судьбе он чувствует нечто мучительное и неповторимое. И с этим знанием он готов теперь умереть. Для престарелых комедиантов есть пансионы.













