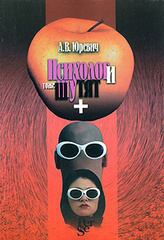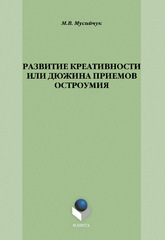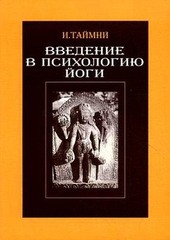Эрих Фромм{96}. Психоанализ и религия
Психоанализ — угроза для религии?

Как я пытался показать выше, мы можем ответить на этот вопрос, различив авторитарную и гуманистическую религии, а также «советы по приспособлению» и «исцеление души». Но я пока не рассматривал различные аспекты религии: одни из них подвергаются воздействию со стороны психоанализа и других факторов современной культуры, а другие остаются незатронутыми. Хотелось бы обсудить следующие аспекты: 1) переживание, 2) научно-магический аспект, 3) ритуал, 4) семантический аспект.
Под переживанием я имею в виду религиозное чувство и служение. Основатели всех великих восточных и западных религий считали высшей целью жизни заботу о человеческой душе и раскрытие сил любви и разума. Психоанализ не представляет здесь какой-то угрозы, напротив, он во многом способствует достижению этой цели. Этому аспекту не угрожают и другие науки. Нельзя себе представить, чтобы какое-то открытие, сделанное в естествознании, могло стать угрозой для религиозного чувства. Наоборот, углубляющееся понимание природы Вселенной, в которой мы живем, только способствует такому чувству, делает человека более смиренным и полагающимся на собственные силы существом. Что касается социальных наук, понимание природы человека и законов его существования скорее помогает развитию религиозной установки, чем угрожает ей.
Для религии опасность представляет не наука, а практика повседневного существования. Здесь человек перестал заниматься поисками высшей цели в жизни и сделал из себя инструмент, служащий экономической машине, его же руками и построенной. Он заботится об эффективности и успехе, а не о счастье и развитии души. Если говорить точнее, в наибольшей степени религиозной установке угрожает то, что я называю «рыночной ориентацией» современного человека95.
Рыночная ориентация стала доминировать только в нашу эпоху. На рынке личностей появляются все профессии, занятия и статусы. Наниматель, нанимаемые и свободная рабочая сила — все они зависят от тех, кто будет пользоваться их услугами.
Здесь, как и на рынке товаров, потребительной стоимости недостаточно, чтобы определить меновую стоимость. «Личностный фактор» важнее, чем умения, а в оценке рыночной стоимости он очень часто играет решающую роль. Хотя и верно, что даже самая привлекательная личность не может обойтись без каких-то умений, — иначе наша экономическая система не могла бы функционировать, — редко когда успех приносят исключительно умение и честность. Формула успеха включает и такие компоненты, как «продавать себя», «ломать собственную личность», «быть здравым», «амбиция», «добродушие», «агрессивность» и т. д., проштампованные на упаковке, в которую завернута пользующаяся успехом личность. Важны также и другие неосязаемые вещи, такие, как происхождение, клубы, связи и влияние; они рассматриваются, так или иначе, в качестве достоинств предлагаемого товара. Исповедовать религию и практиковать ее — одно из требований, необходимых для достижения успеха. Каждая профессия и сфера имеет свой выигрышный личностный тип. Продавец, банкир, прораб и камердинер — каждый из них по-своему и в разной степени отвечает предъявляемым требованиям, но их роли узнаваемы, они подходят под установленную мерку, они «требуются».
Отношение человека к себе неизбежно обусловливается этими стандартами успеха. Чувство собственного достоинства основывается главным образом на том, сколько стоят человеческие способности и какое применение они находят в обществе; достоинство зависит от его продажной стоимости на рынке, или мнения, которое имеется у других о «привлекательности» того или иного человека. Человек чувствует себя товаром, предназначенным привлекать покупателей на самых благоприятных, дорогих условиях. Чем выше предлагаемая цена, тем выше устанавливаемая ценность. Человек-товар с надеждой выставляет бирку, пытается выделиться из ассортимента, лежащего на прилавке, он старается быть достойным самого дорогого ценника; но если его не замечают, а других берут, то он может быть обвинен в неполноценности и никчемности. Какими бы высокими ни были его человеческие качества и умения, ему может не повезти, и тогда его обвинят в том, что он вышел из моды.
С раннего детства человек узнает, что быть модным — значит пользоваться спросом и что ему тоже придется «выйти» на рынок личностей. Но добродетели, которым человек научен, — честолюбие, чувствительность к чужому настроению, способность приспособиться к требованиям других — носят слишком общий характер, чтобы обеспечить успех. Он обращается к популярной литературе, газетам, фильмам за более конкретными образцами и находит лучшие, последние модели для подражания.
Ничего удивительного, что в этих условиях чувство самоценности человека жестоко страдает. Условия для самоуважения — не в его власти. Человек зависит от других в одобрении и постоянной потребности в одобрении; неизбежным результатом являются беспомощность и неуверенность. В рыночной ориентации человек теряет тождество с собою; он становится отчужденным от себя.
Если высшая ценность человека — успех, если любовь, истина, справедливость, нежность, милосердие ему не нужны, то, даже проповедуя эти идеалы, он не будет к ним стремиться. Полагая, что поклоняется богу любви, он в действительности поклоняется идолу — идеализации его реальных целей, порожденных рыночной ориентацией. Те, кого заботит одно только выживание религии и церквей, могут использовать эту ситуацию. Человек ищет приют в церкви и религии, потому что внутренняя пустота заставляет его искать какое-нибудь убежище. Но проповедь человеком религии не означает, что он религиозен.
Те же, кто заботится о религиозном чувстве, — неважно, являются эти люди религиозными или нет, — не будут очень уж радоваться переполненным церквам и новообращенным. Они подвергнут самой резкой критике мирскую практику и признают, что именно самоотчуждение человека, его безразличие к себе и другим, коренящееся во всей нашей мирской культуре, — а вовсе не психология или любая другая наука — являются реальными угрозами для религиозной установки.
Совершенно иным является воздействие научного прогресса на научно-магический аспект религии.
В первых попытках выжить человеку мешали и недостаточное понимание сил природы, и относительная беспомощность в их использовании. Человек выдвигал теории о природе и изобретал, чтобы совладать с нею, определенные действия, которые становились частью его религии. Я называю этот аспект религии научно-магическим, потому что общее с наукой здесь — понимание природы с целью развития техники успешного манипулирования ею. Пока человеческое познание и способность управлять природой были недостаточно развиты, этот аспект религии с необходимостью играл очень важную роль в мышлении человека. Удивляясь движению звезд, росту деревьев, наводнениям и землетрясениям, человек выдвигал гипотезы, объяснявшие эти происшествия по аналогии со своим человеческим опытом. Он предполагал, что за этими событиями стоят боги и демоны, точно так же, как объяснял происшествия в своей собственной жизни волей определенных лиц и человеческими отношениями. При неразвитости производительных сил в сельском хозяйстве и промышленности он вынужден был молить богов о помощи. Если он нуждался в дожде, он молился о дожде. Если нуждался в лучшем урожае, молился богиням плодородия. Если боялся наводнений и землетрясений, молился тем богам, которых считал ответственными за эти беды. По сути дела, история религии дает нам возможность судить об уровне развития науки и техники, достигнутом в различные исторические периоды. Человек обращался к богам, чтобы они удовлетворили те практические нужды, которые он не мог обеспечить самостоятельно, а то, о чем он не просил, уже находилось, следовательно, в его власти. Чем глубже человек понимает природу и чем в большей степени он ею овладевает, тем меньшей становится нужда в религии как средстве научного объяснения и магического управления природой. Если человечество способно накормить всех, ему не нужно молиться о хлебе насущном. Человек может достичь этого своими силами. Западная религия сделала этот научно-магический аспект неотъемлемой частью своей системы и тем самым противопоставила себя прогрессивному развитию научного знания. Великие религии Востока поступили иначе. Они всегда различали те части религии, которые имели дело с человеком, и те ее аспекты, которые пытались объяснить природу. Вопросы, которые на Западе вызывали яростные споры, за которые преследовали, — такие, как конечен ли мир, вечна ли Вселенная и другие, — обсуждались в индуизме и буддизме с юмором и иронией. Будда, когда его спрашивали об этом, отвечал снова и снова: «Не знаю и не хочу знать, потому что, каким бы ни был ответ, он не имеет отношения к единственно важной проблеме: как облегчить человеческие страдания». Тем же духом пронизан один из гимнов Ригведы{116}:
Откуда родилось, откуда это творение?
Далее боги (появились) посредством сотворения
этого (мира).
Так кто же знает, откуда он появился?
Откуда это творение появилось:
Может, само создало себя, может, нет —
Тот, кто надзирает над этим (миром)
на высшем небе,
Только он знает или же не знает96.
С развитием научного мышления и прогрессом в промышленности и сельском хозяйстве конфликт между утверждениями религии и наукой неизбежно обостряется. Антирелигиозные аргументы Просвещения были по большей части направлены не против религиозной установки, но против притязаний религии на то, что ее «научные» утверждения следует принимать на веру. В последние годы делалось множество попыток — со стороны как религиозных деятелей, так и некоторых ученых — показать, что конфликт между религиозными взглядами и последними достижениями в естествознании не столь велик, как полагали еще пятьдесят лет назад. Огромное количество данных было выдвинуто в поддержку этого тезиса. Но я думаю, что при этом было упущено главное. Даже если кто-то скажет, что иудео-христианский взгляд на происхождение мира не менее оправдан в качестве научной гипотезы, чем любой другой, этот аргумент будет касаться «научной» стороны религии, а не собственно религиозной. Важны не гипотезы о природе и ее творении, а благо человеческой души; и сегодня это столь же истинно, как во времена Вед или Будды.
В предыдущих главах я не касался ритуалистического аспекта религии, хотя ритуалы — один из важнейших элементов во всякой религии. Психоаналитики обращали на ритуал особое внимание, поскольку это обещало новые проникновения в природу его религиозных форм. Было обнаружено, что пациенты определенного типа выполняют личные ритуалы, не имеющие ничего общего с их религиозным мышлением или практикой и в то же время, видимо, очень напоминающие религиозные формы. Психоаналитическое исследование может показать, что вынужденное ритуалистическое поведение есть результат сильных аффектов, которые сами по себе не очевидны для пациента и с которыми он справляется, сам того не сознавая, с помощью ритуала. В частном случае, ритуале омовения, мы обнаруживаем, что это — попытка избавиться от глубокого чувства вины; последнее вызвано не реальными действиями пациента, а неосознаваемыми им разрушительными импульсами. В ритуале омовения постоянно нейтрализуется разрушение, которое человек бессознательно планирует и которое ни в коем случае не должно достигнуть его сознания. Человек нуждается в этом ритуале, чтобы справиться с чувством вины. Если он знает о существовании разрушительного импульса, то может иметь с ним дело непосредственно и, понимая его источник, в конце концов ослабить его до приемлемого уровня. Вынужденный ритуал выполняет неоднозначную функцию. Он и защищает пациента от непереносимого чувства вины, но и увековечивает эти импульсы, не имея с ними дела напрямую.
Неудивительно, что психоаналитики, которые занимались религиозными ритуалами, были поражены сходством личных навязчивых ритуалов, которые наблюдали у своих пациентов, с социально детерминированными церемониями, обнаруживаемыми в религии. Они думали, что религиозные ритуалы имеют тот же механизм, что и невроз навязчивых состояний, и искали бессознательные влечения, такие, например, как разрушительная ненависть к фигуре отца, представленной богом, которая, как они полагали, должна быть или прямо выражена, или отвращена в ритуале. Несомненно, психоаналитики сделали здесь важное открытие о природе религиозных ритуалов, даже если их конкретные объяснения не во всем оказались правильными. Но, поглощенные исследованием патологических феноменов, они иногда не замечали, что ритуалы не обязательно носят иррациональный характер, как это имеет место в неврозе навязчивых состояний; они не различали иррациональные ритуалы, основанные на подавлении иррациональных импульсов, и ритуалы рациональные, имеющие совершенно иную природу.
Мы нуждаемся не только в системе ориентации, которая придает какой-то смысл нашему существованию и которую мы можем разделять с другими людьми; мы нуждаемся также в том, чтобы выразить нашу приверженность преобладающим ценностям с помощью общих действий. Вообще говоря, ритуал — это общее для многих действие, выражающее общие стремления, которые имеют основания в общих ценностях.
Рациональный ритуал отличается от иррационального прежде всего по функции; он не отвращает подавленные импульсы, но выражает стремления, которые индивид считает ценными. Следовательно, у него нет того навязчиво-вынужденного характера, которым отличается иррациональный ритуал; если последний не выполняется хотя бы раз, подавленное угрожает вырваться, и поэтому любая ошибка порождает сильное беспокойство. Ошибки в выполнении рационального ритуала не имеют последствий; о невыполнении можно сожалеть, но уж никак его не бояться. Фактически иррациональный ритуал всегда можно распознать по той степени страха, который возникает при любой ошибке в его выполнении.
Простыми примерами современных светских рациональных ритуалов являются наши привычки здороваться с другими людьми, награждать артистов аплодисментами, почтительно относиться к умершим97 и многие другие.
Религиозные ритуалы не всегда иррациональны. Религиозный ритуал омовения может быть понят как осмысленное и рациональное выражение внутреннего очищения, без какого-либо компонента навязчивости или иррациональности, как символическое выражение нашего желания внутренней чистоты, выполняемое как ритуал, подготовляющий к деятельности, которая требует полной концентрации и преданности. Далее, такие ритуалы, как пост, религиозная брачная церемония, практика концентрации и медитации, могут быть совершенно рациональными и не нуждаются в анализе, кроме разве что анализа, нацеленного на понимание вкладываемого в них смысла.
Подобно тому как символический язык снов и мифов является частной формой выражения мыслей и чувств с помощью образов чувственного опыта, ритуал является символическим выражением мыслей и чувств с помощью действия.
Вклад психоанализа в понимание ритуалов состоит в выявлении психологических оснований потребности в ритуальном действии; психоанализ также различил те ритуалы, которые являются навязчивыми и иррациональными, и те, которые выражают нашу общую приверженность идеалам.
Какова сегодня ситуация с ритуалистическим аспектом религии? Практикующий религиозный человек участвует в разнообразных ритуалах своей церкви, и, несомненно, именно это — одна из наиболее важных причин для ее посещения. Поскольку современный человек почти не имеет возможности разделять с другими людьми действия по служению, любая форма ритуала обладает громадной привлекательностью, даже если она никак не связана с важнейшими чувствами и стремлениями, бытующими в повседневной жизни.
Вожди в авторитарных политических системах хорошо понимают потребность в общих ритуалах и предлагают новые формы политически окрашенных церемоний, которые удовлетворяют эту потребность и привязывают средних граждан к новой политической вере. В современных демократических культурах ритуалов немного. Неудивительно поэтому, что потребность в ритуалистической практике принимает самые разнообразные формы. Эту нужду в совместном действии выражают изощренные ритуалы в ложах, ритуалы, связанные с патриотическим почитанием государства, ритуалы вежливого поведения и многие другие; однако зачастую это лишь признак оскудения цели служения и разрыв с идеалами, официально признанными религией и этикой. Привлекательность братских организаций, как и поглощенность подобающим поведением, описываемым в книжках по этикету, убедительно доказывает, насколько велика потребность современного человека в новых ритуалах; это доказывает и пустоту тех ритуалов, которые он сегодня продолжает выполнять.
Потребность в ритуале неоспорима, и она крайне недооценивается. Все выглядит так, как будто перед нами альтернатива: либо мы станем религиозными людьми, будем совершать бессмысленные ритуалы, либо будем жить, вообще не удовлетворяя этой потребности. Если бы изобретение ритуалов было простым делом, мы бы создали новые гуманистические ритуалы. Такие попытки уже предпринимались глашатаями религии Разума в XVIII столетии, квакерами{117} с их рациональными гуманистическими ритуалами, это пробовали делать и маленькие гуманистические общины. Но ритуалы не производятся подобно промышленным товарам. Они зависят от существования подлинных общих ценностей, и только в той мере, в какой такие ценности возникают и становятся частью человеческой реальности, мы можем ожидать появления значимых рациональных ритуалов.
Обсуждая смысл ритуалов, мы затронули уже четвертый аспект религии — семантический. Религия в своих учениях, как и в ритуалах, говорит на языке, отличном от нашего обыденного языка, — на языке символов. Сущность символического языка в том, что внутренние переживания, мысли и чувства выражаются таким образом, как если бы они были чувственными ощущениями. Все мы «говорим» на этом языке, пусть даже это происходит только во сне. Однако язык снов ничем не отличается от того языка, который используется в мифах и религиозном мышлении. Символический язык — единственный универсальный язык, который знает человечество. Это язык древних мифов и язык снов наших современников. Он одинаков в Индии, Китае, Нью-Йорке и Париже98. В обществах, где первой заботой было понимание внутренних переживаний, на этом языке не только говорили, его также и понимали. В нашей культуре, хотя на нем и говорят во сне, понимают его редко. Непонимание заключается главным образом в том, что содержание символического языка принимается за реальные события в царстве вещей; их не трактуют как символическое выражение опыта души. По этой причине сны считаются бессмысленными продуктами воображения, а религиозные мифы — ребячьими понятиями о реальности.
Именно Фрейд возродил для нас этот забытый язык, открыл путь к пониманию особенностей символического языка и выявил его структуру и значение. Одновременно он показал, что язык религиозных мифов, в сущности, не отличается от языка снов, будучи осмысленным выражением значимых переживаний. И хотя верно, что его интерпретация снов и мифов узка, поскольку преувеличивает значение сексуального влечения, тем не менее он заложил основания для нового понимания религиозных символов в мифе, догме и ритуале. Это постижение языка символов — не возврат к религии, однако ведет к новому взгляду на глубокую и значимую мудрость, выраженную с помощью религии в символическом языке.
Итак, ответ на вопрос, что составляет сегодня угрозу для религии, зависит от того, какой конкретно аспект религии имеется в виду. Основная тема предыдущих глав — доказательство того, что религиозная проблема — это не проблема бога, но проблема человека; религиозные формулировки и символы являются попыткой выразить определенные виды человеческого опыта. Важна здесь сама природа данного опыта. Символическая система — лишь намек, из которого мы можем сделать выводы о подлинной человеческой реальности. К сожалению, дискуссия вокруг религии со времен Просвещения уделяла главное внимание утверждению или отрицанию веры в бога, а не определенным человеческим установкам. «Верите ли вы в существование бога?» — этот вопрос имел решающее значение для религиозных людей, а отрицание бога стало позицией тех, кто сражался против церкви. Но легко увидеть, что многие проповедники веры в бога являются по своей человеческой установке идолопоклонниками или лишены веры, в то время как некоторые наиболее пылкие «атеисты», посвятив свои жизни благу человечества, делам братства и любви, обнаруживают веру и глубокую религиозность. Акцент на утверждении или отрицании символа «бог» мешает пониманию религиозной проблемы как проблемы человеческой и препятствует развитию человеческого отношения к миру, которое можно назвать религиозным в гуманистическом смысле.
Делались многочисленные попытки сохранить символ «бог», придав ему смысл, который бы отличался от традиционно монотеистического. Одним из выдающихся примеров является теология Спинозы. Используя строго теологический язык, Спиноза дает определение «бога», близкое к его отрицанию, в смысле иудеохристианской традиции. Однако он все еще очень связан с той духовной атмосферой, в которой символ «бог» представляется необходимым, и не сознает, что своим определением отрицает существование бога.
В сочинениях многих теологов и философов XIX столетия и нашего времени можно заметить похожие попытки оставить слово «бог», наделив его смыслом, фундаментально отличным от того, который вкладывали в него библейские пророки или христианские и еврейские теологи средних веков. Нет нужды спорить с ними, хотя не сводится ли все к сохранению символа, значение которого имеет чисто исторический характер? Как бы то ни было, несомненно одно. Реально наличествует не конфликт между верой в бога и «атеизмом», но конфликт между гуманистической религиозной установкой и подходом, который равен идолопоклонству, независимо от того, каким образом последний выражается — или каким образом маскируется — в сознательном мышлении.
Употребление слова «бог» проблематично даже со строго монотеистической точки зрения. Библия настаивает, что человек не должен пытаться сотворить образ бога. Несомненно, одним из аспектов этого повеления является табу, охраняющее благоговейное почитание бога. Другой же аспект — в представлении о боге как символе всего, что есть в человеке, и в то же время всего, чем человек не является; как символе духовной реальности, которую мы можем стремиться осуществить в себе, но не можем описать или определить. Бог подобен горизонту, ставящему предел нашему взгляду. Наивному уму он представляется чем-то реальным, чем-то, что можно потрогать; однако заниматься поисками горизонта — значит искать миражи. Когда движемся мы, горизонт отступает, но все же остается границей, и никогда не станет вещью, которой можно завладеть. Идея о неопределимости бога ясно выражена в библейской истории о явлении бога Моисею. Моисей, на которого возложена задача говорить с сынами Израилевыми и вести их из плена к свободе, однако знающий о духе рабства и идолопоклонства, в котором они жили, говорит богу: «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею: я есмь сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам» (Исх. 3:13–14).
Смысл этих слов еще более проясняется, когда мы внимательно прочитаем древнееврейский текст: ehje asher ehje — «Я есть сущий, который есть сущий». Моисей спрашивает у бога его имя, потому что имя — это что-то, что можно ухватить и чему можно поклоняться. Бог на всем протяжении Исхода делает уступки Моисею и называет свое имя. Но в этом имени скрыта глубокая ирония. Оно выражает процесс бытия, а не что-то конечное, что можно назвать подобно вещи. Смысл текста был бы передан правильно в следующем переводе: «Мое имя БЕЗЫМЯННЫЙ».
В развитии христианской и еврейской теологии мы наблюдаем повторяющиеся попытки достичь более чистого понятия о боге, избегающего и следа положительного описания или определения (Плотин, Маймонид){118}. Как говорит великий немецкий мистик Майстер Экхарт{119}, «то, что называют богом, не бог; то, что не называют богом, более бог, чем то, что им называют»99.
С точки зрения монотеизма, доведенного до его логического завершения, спорить о природе бога невозможно; никто не вправе считать, что обладает каким-то знанием о боге, которое позволяет ему критиковать или осуждать других или претендовать на исключительную правильность собственной идеи бога. Религиозная нетерпимость, столь характерная для западных религий, возникает именно из таких претензий. С психологической точки зрения, она вырастает из отсутствия веры или отсутствия любви и оказывает уничтожающее воздействие на религиозное развитие, приводя к новой форме идолопоклонства. Образ бога сотворяется уже не в дереве и камне, но в словах, и люди начинают поклоняться «святыне». Исаия критиковал это искажение монотеизма в следующих словах: «Почему мы постимся, а ты не видишь? смиряем души свои, а ты не знаешь?» — «Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот, вы поститесь для ссор и распрей и для того, чтобы дерзкою рукою бить других; вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным господу? Вот пост, который я избрал: разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава господня будет сопровождать тебя» (Ис. 58: 3–8).
Ветхий завет и особенно пророки столь же озабочены отрицанием — борьбой с идолопоклонством, как и утверждением — признанием бога. Но озабочены ли проблемой идолопоклонства мы? Мы проявляем к ней интерес, когда находим, что какие-то «первобытные люди» поклоняются идолам из дерева и камня, и делаем при этом вид, что мы выше такого поклонения, что мы решили проблему идолопоклонства, поскольку не поклоняемся более ни одному из этих традиционных символов. Мы забываем, что сущность идолопоклонства не в поклонении тому или иному конкретному идолу, но в особом человеческом отношении. Это отношение можно описать как обожествление вещей, частностей и повиновение им. Существует и прямо противоположное человеческое отношение, в нем жизнь человека посвящена осуществлению высших принципов жизни — принципов любви и разума, решению задачи становления того, что человек есть потенциально, — существа, созданного по подобию божию. Идолами бывают не только изображения в камне и дереве. Идолами могут стать слова, машины, вожди, государство, власть и политические группы. Наука и мнение ближних тоже могут быть идолами; для многих идолом стал сам бог.
Не пришло ли время прекратить споры о боге и вместо этого объединиться в деле разоблачения современных форм идолопоклонства? Сегодня это — не Баал и Астарта, это — обожествление государства и власти в странах с авторитарным режимом; и обожествление машины и успеха в нашей собственной культуре, угрожающее наиболее ценным духовным обретениям человека. Религиозные мы люди или нет, верим мы в необходимость новой религии или же в религию без религии либо в продолжение иудеохристианской традиции, — в той мере, в какой мы заботимся о сущности, а не о внешнем, о переживании, а не о слове, о человеке, а не о церкви, — мы можем объединиться в твердом отрицании идолопоклонства и найти, возможно, в этом отрицании больше общей веры, чем в любых утвердительных суждениях о боге. И, конечно, так мы обретем больше смирения и братской любви.