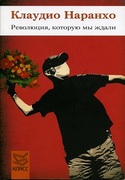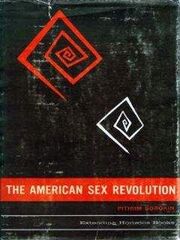Глава 1. За политику осознанности
Я назвал эту главу «За политику осознанности», не только имея в виду «неосознанность» современной политики, но и полагая в более широком смысле, что отсутствие осознанности сейчас преобладает в мире.
Действительно, в недалеком прошлом большинство людей страдало от последствий различных ограничений, ассоциирующихся с фрейдовским бессознательным: некоторые некрасивые побуждения подавлялись, ибо мы не признавали себя агрессивными и эгоистичными, в чем-то даже похожими на животных. Люди так называемой викторианской эпохи пребывали в заблуждении об изначальной человеческой добродетели, и существовало немало вещей, на которые закрывали глаза и о которых старались не говорить вслух. Но мне кажется, что с тех пор благодаря культуре и искусству многое изменилось.
В наши дни то, о чем запрещено говорить, уже не касается сексуальных или агрессивных желаний. Можно сказать, что сейчас в обществе, в отличие от фрейдовского бессознательного, царит «политическая неосознанность». Как будто мировой политике на руку, чтобы мы оставались мало осознающими людьми, на которых можно влиять и которые не в состоянии думать самостоятельно.
Но я собираюсь говорить не только о недостаточной осознанности и о том, что нам было бы полезно осознавать больше и лучше, но и в целом о зле: о корнях зла, о том, как можно было бы сделать мир лучше в это кризисное время, если бы мы опирались на свои знания о том, что такое зло и болезнь.
Затрагивая тему «корней зла», я считаю нужным рассмотреть на относительно рациональном, научном уровне, что мы знаем о своей деструктивности. Даже до возникновения науки существовали люди, способные ясно мыслить, но с развитием психологии начали говорить о болезни, понимая её в более глубоком смысле, чем просто телесное недомогание. А говорить о болезни в психологическом плане — значит говорить о зле и нездоровье, то есть, другими словами, о деструктивности и страдании.
Раньше считалось, что люди по своей природе склонны к агрессии, и, таким образом, в человечьей шкуре скрыто гораздо больше волчьего, чем у волка; эту идею разделяли Фрейд и Мелани Кляйн. Но мне кажется, развитие терапевтической культуры показало, что человек может изменяться — не до полного совершенства, конечно, но в определенной степени. И тот факт, что некоторые люди начинают чувствовать себя лучше и менять своё поведение, проявляя всё больше любви и всё меньше ненависти по мере стихания эха детских страданий, заставляет усомниться в истинности теории, объявляющей человеческую природу деструктивной, — особенно в русле гуманистической психологии
Раньше много говорили о грехопадении человека (скорее мужчины, чем женщины, хотя считалось, что женщина была причиной грехопадения мужчины); ещё больше в грехопадении винили Змея. А ведь ещё во времена, предшествовавшие известной Книге Бытия, именно змея символизировала Богиню-мать и силы природы — так сказать, естественный порядок. О падении и грехе говорилось даже раньше, чем о болезни, но слово «грех» в настоящее время кажется неуместным, потому что коннотация этого термина изменилась. Наши предки под грехом понимали отклонение психической энергии, связанное с ошибкой перспективы; но века церковного наказующего авторитаризма придали этому термину дополнительный смысл: не только осуждающий, но и нормативно-оценочный и моралистский. Это делает его менее полезным, чем сегодняшнее широкое понимание эмоциональных отклонений, которые, в свою очередь, связаны с неполным развитием или психологической незрелостью.
Средневековое христианство, говоря о грехе, всегда связывало его с ошибкой или же с отклонением от правильного курса. И мне кажется, что человек, проработав на глубинном уровне смысл одного из известных древних грехов, должен был не только почувствовать, что он поступил плохо (и, соответственно, ощутить вину и стыд), но и прийти к пониманию своей ошибки. Ведь очень важно осознать, что ты сбился с пути: например, заботился лишь о внешней стороне жизни, стараясь быть не хуже остальных, наживал состояние, а не делал то, чем действительно хотел заниматься; а может быть, всю жизнь действовал по чужой указке, а не слушал своё собственное сердце. Есть люди, которые однажды говорят «Стоп!», и этот момент называется в христианстве metanoia или «обращение». Слово «обращение» позже стали употреблять, говоря о принятии новой веры, что подразумевает изменение более поверхностное, чем metanoia — «преобразование ума», предполагающее трансформацию — внутреннюю метаморфозу, характеризующую человеческий опыт.
Мы — существа, в цикле развития которых имеется стадия личинки и стадия зрелости, сильно различающиеся между собой. Однако об этом известно немного, и это знание не является частью нашей культуры, в которой зрелость как жизненная стадия встречается довольно редко. Напротив, в нашем обществе поддерживается незрелость, распространяемая с помощью эмоциональной эпидемии, по выражению Вильгельма Райха. Эмоциональная эпидемия передается через поколения, мешая эмоциональному росту, который позволял бы людям полностью реализовать свой потенциал.
Я мог бы сформулировать проблему иначе: «Что делать, если принять во внимание теории невроза?» При этом «теория невроза» — слишком современный термин, который в то же время устаревает, потому что, к сожалению, слово «невроз» исчезает из лексики в сфере психопатологии. Это было очень полезное слово, так как оно намекало на некую общность, скрывающуюся за многими синдромами, за, казалось бы, различными проявлениями эмоциональной патологии. Сейчас (по крайней мере, в современной американской психологии, представленной в Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам DSM-V) общепринятыми являются только различные поверхностные синдромы, без идеи общего корня. Идея невроза была бы очень полезна.
Однако я возьму на себя смелость говорить о «теориях невроза», предшествовавших научной психологии Разве менее правдивым является психоаналитический взгляд Будды на причины человеческих страданий?
Объяснение сансары, которой в буддизме называется обычное состояние ума, буквально означающее «череда перерождений», является великой теорией невроза, сформулированной Буддой. Будда отмечал, что страдание и зло происходят от нашего незнания.
На первый взгляд, современному человеку такая теория может показаться несколько устаревшей и упрощенной, но только потому, что мы уже забыли, что означает незнание, считая этот недостаток отсутствием информированности. Сегодняшние учителя стараются вбить ученикам в голову как можно больше знаний, в то время как древних интересовало не столько их количество, сколько качество, и под мудростью они понимали способность воспринимать вещи такими, какие они есть.
Мудрость в изначальном понимании не зависит от количества знаний или даже от ума, поскольку требует от нас способности видеть явления в их совокупности, а также улавливать контекст. Такой навык гештальт-восприятия, как мы сегодня знаем, является интегративной способностью правого полушария мозга, он не может быть заменен дискурсивным мышлением, в основе которого лежит анализ разрозненных элементов. Наш аналитический мозг, воплощающий сумму охотничьих инстинктов, направленных на добывание и захватывание, достигает наивысшего развития в способности к овладению науками и освоению новых технологий, которые послужили основанием для легенды о прогрессе современного мира. И хотя, вне всякого сомнения, в Новейшей истории произошел огромный научный и технический скачок, это в то же время принесло свои проблемы, потому что одновременно с тем, как мы шли семимильными шагами вперёд в чём-то одном, в другом мы отступали назад, что-то упрощалось в одной области по мере усложнения другой. Правое полушарие, которое является вместилищем мудрости человеческого мозга, которое воспринимает явления в их совокупности, позволяет мыслить метафорами и является хранителем ценностей и способности к эмпатии, стало у нас практически глухим, потому что левое полушарие, которое может быть охарактеризовано как «изворотливый ум», имеет свойство во внутренних разговорах заглушать все остальные голоса разума: мы стали односторонними, непробиваемыми догматиками, присваивающими себе высокомерие науки, отрицающей всё интуитивное знание, начиная с нашего восприятия наиболее очевидного.
Были времена, когда учителя, убеждённые в ценности гуманизма, считали необходимым приучать детей к классической литературе, читая с ними древнегреческих и латинских авторов, переоткрытых заново после свержения монополии христианства в Средние века. Считалось, что таким образом прививаются некоторые способности — например, классические доблести истинных римлян, то есть те гражданские достоинства, которые не так просто объяснить, но которые передаются через восприятие произведений искусства и литературы.
К несчастью, гуманизм превратился в ещё один энциклопедический раздел, изучаемый с филологической или академической позиций, а часто попросту ради того, чтобы блеснуть перед другими своей образованностью и приверженностью культурным ценностям, — к сожалению, в нашу эпоху культура является уже не возделыванием ума, а лишь яркой оберткой, навешанной на пустой каркас. Гуманизм не смог выполнить изначальную функцию передатчика человеческой натуры через поколения, и даже занятия искусствами исчезают из современных школьных программ, потому что чиновники, ответственные за принятие решений в области образования, считают нужным прежде всего готовить кадры со стратегическим мышлением, которые нужны производству и коммерческим предприятиям. И даже родители не заботятся о том, чтобы их детей учили гуманизму: и так понятно, что хорошие оценки в школе способствуют лучшей карьере в будущем, поэтому старшее поколение, думая в первую очередь о хорошем заработке в дальнейшем для своих детей, поддается на соблазн и соглашается на то, чтобы их отпрыски продавали душу дьяволу. И те сызмальства научаются правильно писать тесты, получать высокие баллы, и будут продолжать делать для этого усилия, которые ни ради предполагаемых вознаграждений, ни ради того, чтобы сдать экзамены, не будут способствовать их созреванию, как не дадут и настоящего знания, настоящего понимания вещей, которое могло бы уже на этом этапе заронить в них зерно мудрости.
Я говорил, что мудрость — это способность понимать, для которой требуется больше, чем дискурсивное или инструментальное аналитическое мышление, являющееся специализированной функцией одного из полушарий человеческого мозга, которое в недавнем прошлом почти полностью вытеснило интуитивное полушарие. Иэн Макгилкрист в своей недавно вышедшей книге «Учитель и его эмиссар»4, рассуждая о связи между полушариями мозга, говорит, что эта связь подобна бинокулярному зрению: совмещая две плоские картинки под разными углами, мы имеем возможность видеть глубину и объем, и точно так же, соединяя два голоса — мудрости с одной стороны и практического разума с другой, полушария мозга дают нам в итоге глубокое, целостное представление об окружающем мире. Макгилкрист также утверждает, что именно лёгкий шёпот правого полушария доносит до сознания мудрость нашего внутреннего учителя, в то время как громоподобный глас левого полушария представляет неглубокий разум, лишь облачённый в мантию учителя, словеса которого мы ошибочно принимаем за истину.
4 Iain McGilchrist. "The Master and His Emissary".
Если мы хотим заново обрести ту мудрость, которую не только Будда, но и Сократ и святой Августин считали средством исцеления от незнания, являющегося источником наших страданий и нашей деструктивности, нам необходимо восстановить интуитивное мышление, к которому прибегали в решении сложных вопросов мудрецы всех времен. И стоит помнить, что научные знания определенной исторической эпохи по прошествии десятков лет устаревают, но мы продолжаем читать Шекспира, жившего более пятисот лет назад, Гомера, жившего более двух тысяч лет назад, и даже эпос о Гильгамеше, сложившийся у шумеров во времена зарождения письменности. Гуманистические ценности обладают большим постоянством, чем научные, и, несмотря на досужие предубеждения, создавшие множество проблем в наш информационный век, мудрость в итоге оказывается намного глубже прозорливости.
Тогда мы можем заключить, что правы были Будда и Сократ, говорившие, что одной из важных причин страданий и деструктивности в человеческой жизни является своеобразная слепота, неспособность видеть вещи такими, какие они есть. Эта слепота прекрасно совмещается с аналитическим знанием, грамотностью и чрезвычайной информированностью: сегодня мы живем в очень хорошо напитанном знаниями мире, мы постигли множество вещей, но остаёмся образованными невеждами, не замечающими ничего дальше собственного носа, и уж точно не способны совершать мудрые поступки.
Например, что происходит сейчас в экономике. Практически всем известно, что хозяевами мира сейчас являются не правители, и тем более не народ, а экономисты. По меньшей мере, можно сказать, что власть имущие прибегают к авторитету экономистов, таким образом, экономика стала инструментом политики. Но по большому счету, именно экономисты и банкиры принимают важные решения, как будто они на самом деле являются наиболее квалифицированными вождями для человечества. Однако, как это ни смешно, чем больше власти мы даём экономистам, тем больше у нас экономических проблем. Все уже поняли это, и есть люди, начинающие пересматривать экономику, а одно из замечаний критики сегодня, после экономического кризиса 2008 года, заключается в том, что экономисты не смогли предсказать этот кризис, который они сами же вызвали своей «экономической наукой», оказавшейся не наукой в строгом понимании, а скорее оправданием принятых экономических практик. И некоторые экономисты начинают говорить, что система коммерческих уравнений, составляющих основу экономики, не принимает во внимание ни человеческий фактор, ни окружающую среду. Может ли считаться научным видение, представляющее собой такую необоснованную закрытую систему (в то время как реальность является открытой системой), которое рассматривает куплю-продажу работы и имущества отдельно от людей и природы и игнорирует такие очевидные вещи, как невозможность бесконечного индустриального роста в условиях ограниченных природных ресурсов?
Даже научно обоснованные представления иногда искажаются при отсутствии зрения, и мне очень нравится книга Жозе Сарамаго «Слепота»5, являющаяся прекрасной метафорой того, как люди невидящие наносят себе большой вред. Похоже, существуют вещи, в которых люди слепы коллективно; и тот факт, что действия незрячих можно оправдать логически, попускает и распространяет невежество. Другими словами, то, что видится очень четко нашим ловким мозгом, прикрывает глупость, и мы перестали использовать творческий и мудрый мозг, являющийся нашим внутренним учителем, узурпированный пронырливостью технократических варваров.
5 José Saramago. "Ensayo sobre la ceguera".
Макгилкрист, в уже названной книге «Учитель и его эмиссар», приводит историю о мудром учителе, взятую из одной работы Ницше. Король некоторой страны был очень мудр, и в его королевстве жили очень счастливые подданные, ведь благодаря его мудрости там царило процветание. Но когда королевство стало расти, ему пришлось отправить посланников или эмиссаров, чтобы они правили в провинциях и отвечали за детали управления, поскольку он не мог ни находиться на всех территориях, ни постоянно разъезжать. И он доверял своим эмиссарам, и более того: ему необходимо было доверять им, чтобы его королевство могло существовать; но одному эмиссару пришло в голову, что учитель не знал всего, что знал он, будучи в курсе происходившего. И считая себя более информированным, он забрал власть у учителя и стал носить его мантию, чтобы ещё и выглядеть более могущественным.
Макгилкрист утверждает, что у людей есть мудрый мозг, он является учителем, то есть тем, кто должен управлять, но его эмиссар, ловкий мозг, отвечающий за детали, как, например, ведение счетов (мозг Homo oeconomicus — «человека, стремящегося к личному обогащению»), узурпировал власть учителя, который пропал из виду, потому что наша культура его забросила и забыла.
Что бы мы сделали, если бы приняли во внимание очень старую, но очевидную теорию (её разделяли не только Будда и Сократ, но и святой Августин), которая утверждает, что незнание является основной причиной зла и страдания и не даёт видеть нам вещи такими, какие они есть?
Очевидно, мы бы занялись пристальным изучением того, что называют мудростью, правда, являющейся для нас пока чем-то туманным, так как мы забыли, что это такое. Мы едва улавливаем, что мудрость не равна сумме знаний, тем не менее не видим разницы между интеллектуальным знанием и другим уровнем познания, которым обладают мудрецы или «провидцы», как принято сейчас говорить, хотя мы чувствуем, что речь идет не только о странном, но и спорном явлении, особенно после того, что произошло в знаменитую эпоху Просвещения, когда, развенчав деспотизм церкви, европейский мир стал противником веры, которую путали с кредо Католической церкви, хотя на самом деле это была не вера, а догма. Истинная вера — это развитая интуиция, то есть отличная от рационального форма понимания того, что сегодня, с научной точки зрения, считается неправильным.
Итак, первый вывод из диагноза: мы допускаем, что причиной наших несчастий является незнание, и в поисках мудрости обязательно сталкиваемся с тем, что, не понимая своей сущности, мы слишком заняты внешней стороной реальности. Но когда мы ставим перед собой задачу поиска той самой загадочной мудрости, мы спрашиваем себя: а как можно стать более мудрыми?
Очевидно, основной путь лежит через культуру, образование и, может быть, через институты охраны здоровья, потому что мудрость делает нас полноценными, а без неё мы остаемся хромыми в смысле психического состояния. Но как?
Из того, что мы знаем о функционировании полушарий головного мозга, мы можем подтвердить правоту наставников йоги и практики медитации или созерцания, которые учат тишине мысли и покою. Ведь если мы понимаем, что не умеем слушать мудрое полушарие мозга, потому что обращаем внимание исключительно на изворотливое полушарие охотников и завоевателей благ, то согласимся и с тем, что нет ничего полезнее для нашего холистического восприятия и осознания ценностей, чем уменьшение шума мыслительного процесса, который препятствует нашему реальному контакту с настоящим моментом. И кто попытается уменьшить этот шум, поймет, что для того, чтобы снизить шум мыслей, надо также утихомирить компульсивное стремление прогнозировать каждое следующее мгновение жизни, которое, похоже, является причиной бесконечного мыслительного потока внутри нас. Тогда можно достигнуть того, что в даосизме называется У-вэй (wu-wei) — «недеяние», возможное только при полном спокойствии духа.
Но давайте перейдем ко второй причине страдания. Почему деградировало наше сознание? Практически в то же время, когда в Индии появляется идея о незнании как причине страдания, возникает представление о страдании (и причинении страданий другим) из-за того, что можно было бы назвать гипертрофированным желанием. При переводе буддистских или индуистских текстов часто упоминается просто о желании, но более правильно было бы говорить в этих случаях о жадности или привязанности, и особенно подходящим здесь кажется психоаналитический термин оральность, относящийся к тому, что развивается в ребёнке, испытавшем фрустрацию из-за недостаточного материнского ухода. В ответ на эту детскую фрустрацию ребёнок обречен на избыточную настойчивость, как будто таким образом он может компенсировать свои лишения, и эта неприкрытая алчность, или гипертрофированное желание, делает его мамоном. В мире есть много людей-мамонов, и как бы ни ассоциировали эту аффективную зависимость с подразумеваемой идеей, что требовательность или ностальгия приведут к удовлетворению, происходит ровно наоборот.
Прав был Кьеркегор, говоря, что дверь в рай открывается изнутри; чем больше её толкаешь снаружи, тем хуже она поддаётся. Потребительское отношение к жизни или положение крайне нуждающихся в каких-то её благах отражает нашу деструктивность, ибо такое состояние противоположно восприимчивости; ведь именно тогда человек что-то получает для себя, когда он восприимчив, а не когда требует, настаивает или протестует, как неразумный в своем поведении младенец, который от чрезмерной жадности кусает сосок матери, дающей ему грудь.
Шопенгауэр заимствовал из восточной философии идею о том, что страдания происходят от наших непомерных желаний, и, соответственно, считал нужным умерить свои желания, чтобы стать счастливыми, как уже предлагал Эпикур, слегка маргинальный современник Аристотеля. Эпикура много критиковали в его эпоху, и в первую очередь за то, что он осуждал всех учителей философии — современников Аристотеля, главенствовавшего тогда в этой сфере. Но его влекла такая тема, как счастье, не очень-то актуальная для философов, которые считали её незначительной. Также Эпикура сильно интересовал вопрос о дружбе, о коллективной жизни, и он даже принимал в свое сообщество женщин. Говорили, будто бы там устраивались оргии, но, скорее всего, это была в большей степени фантазия его врагов; а главное послание Эпикура заключалось в том, что для того, чтобы быть счастливым, надо довольствоваться меньшим, потому что несчастье по большей части возникает от фрустрации чрезмерных желаний. Но Шопенгауэр пошел в своих размышлениях ещё дальше, предположив, что для избавления от чрезмерных желаний важно культивировать в себе нейтральность, в соответствии с учением Будды: нечто похожее на возможность войти внутрь ума, где можно почувствовать себя как дома, где тепло, уютно и достаточно пищи, и не зависеть от обычных потребностей внешнего мира.
Но эти вещи трудно объяснить исходя из концепций, признающих существование исключительно внешней реальности. Что-то похожее есть у Паскаля, который говорил, что большинство проблем нашего мира происходит оттого, что люди не могут оставаться одни в своей комнате, вот и шастают где придётся, влезая в чужие дома.
Вопрос о лекарстве от жадности ведет нас ещё раз к уже упомянутому средству от незнания, возникающего от разрыва связи с нашей внутренней мудростью. Большинство людей даже не отдают себе отчета в том, до какой степени они неспособны оставаться неподвижными, что следует из неумения дать своему мозгу отдохнуть в настоящий момент. Мы даже не замечаем в себе нехватку этого внутреннего мира и живем в реальности, которая заставляет нас всё быстрее бежать в будущее. Вращаясь, как белки в колесе, мы ищем следующую вещь или следующую мысль, гонимые неясным недовольством и верой в то, что следующий момент или следующее сбывшееся желание принесет то, что нам нужно.
В древней культуре — в Индии и Греции — наиболее ценной считалась способность сдерживать свои чрезмерные желания, воспитывая в себе непоколебимую нейтральность, залегающую в глубинах нашего сознания, и греки персонифицировали эту нейтральность в образе одного из богов — Аполлона, который символизировал не только знание себя (приведение души в состояние гармонии), но и необходимую отрешённость, дающую внутреннему зрению наибольшую ясность.
Фриц Перлз, основатель гештальттерапии — метода, который в 1960-е годы внес свежую струю в психоанализ, сделав популярным выражение здесь и сейчас, повторяемое всё с большим благоговением по мере обретения сокровищ, до времени скрытых в нём. Сила «здесь и сейчас» заключается не просто в том, что, осознавая свои умственные процессы, мы вносим в жизненный опыт элемент корректирующей обратной связи, но сама возможность находиться в настоящем добавляет оптимизма нашей жизни. Почему? Потому что мы существа, потенциально наделенные сознанием, и сознание наше чисто, и в то же время в действительности мы пребываем в полусне, напоминая лунатиков. Таким образом, у нас есть сознание и у нас есть желания, у нас есть сознание и есть импульсы инстинктивные влечения, различные эмоции, и, конечно, осознание собственных мыслей, а не только чувств и восприятии. Обобщая, можно сказать, что у нас есть ментальные феномены, но сознание как бы не является одним из них, оно лежит в их основе, будучи фундаментальным состоянием за пределами мышления, чувств и желаний. Мысли приходят и уходят, эмоции непостоянны — на этом настаивает буддизм. Все, что проходит, — эфемерно, и хотя мы всё время смотрим спектакль преходящего мира, похожий на сны или плывущие в небе облака, наше сознание могло бы сравниться с пространством, вместилищем, полем, содержащим в себе всё, но не имеющим собственных характеристик.
Мудрецы всех времен и, думаю, всех культур имели эту способность познать собственное сознание — состояние, в котором человек является как бы беспристрастным свидетелем самого себя и к которому некоторые люди приходят через опыт и фрустрации собственной жизни. И хотя иногда боль несчастий ведет их к бесстрастной мудрости, эту способность можно развить в себе также с помощью духовных практик. Результатом становится некая отрешённость от материального мира, но не принудительный отказ, а такое состояние, как у ребёнка, когда он перестает замечать старые игрушки. И удовлетворение юношеских страстей может помочь нам при старении (в хорошем смысле этого слова), если мы будем постепенно отстраняться от них, освобождаться от груза желаний и упрощать свою жизнь.
Говорят, что на входе в храм Аполлона была надпись: «Никаких излишеств», и в греческой культуре придавалось большое значение умеренности — и не с уклоном в ханжество, как потом произошло с христианством, и не столько в вопросах секса, сколько в отношении еды. Умеренность в еде отличала благородного человека, и идеалом благородства считался тот, кто умел себя контролировать, ограничивая свои потребности. Это выдавало стремление быть более независимым от тела и его нужд, что являлось частью аполлонического духа. И это стремление не было капризом греческой культуры, сегодня нам тоже было бы полезно нейтральное сознание, присущее тем, кто встал на терапевтический и духовный путь и осознал свои преувеличенные невротические потребности в одобрении, заботе, поддержке или подтверждении, материнской или отцовской опеке, оберегающей и направляющей длани. Все эти потребности типичны в детстве и уменьшаются при взрослении, особенно в ходе познания и осознания самого себя.
Если мы сообща захотим сделать мир лучше, самопознание сыграло бы здесь очень большую роль. Сократ говорил, что жизнь без самопознания «не есть жизнь для человека». Но учат ли нас школьные учителя больше и лучше осознавать? Увы, наоборот: они заставляют нас тратить всё время на заучивание информации и на соблюдение определённой дисциплины, что не только достойно сожаления, но и смехотворно, ибо после значительного шага, который сделал самый великий из всех учителей, открывший нам путь к самопознанию, современное образование не принимает его всерьез. Школа так сильно ориентирована на внешний мир, что предложение «пути самопознания» воспринимается с подозрением. И обучение психологии или философии не восполняет недостатка самопознания, потому что этот процесс предполагает участие наставника, ведущего ученика за собой, как примерно происходит при обучении игре на музыкальном инструменте.
Но давайте перейдём к рассмотрению третьей теории невроза — той, которая утверждает, что мы страдаем из-за определенных внутренних состояний, похожих на умственных паразитов, отбирающих у нас энергию. В христианском мире зло и неблагополучие было в основном представлено смертными грехами в Средние века, и сегодня нам наверняка покажется, что эти «грехи» — лишь догматические пережитки прошлого, имеющие малое или сомнительное отношение к нашей жизни. Но на Востоке существовало что-то похожее — так называемые клеши, или эмоциональные препятствия, в традиции индуизма означавшие примерно то же — например, гордость или зависть. Почему именно эти состояния, а не другие? Почему среди стольких негативных эмоций христианская традиция выбрала семь смертных грехов, а буддизм обычно пять? В христианстве до Папы Григория I Великого, который систематизировал грехи до семи, их было восемь, а в настоящее время распространяется знание о системе эннеаграммы — девятиконечной фигуре, являвшейся древним символом азиатской христианской культуры, пришедшим к нам из Афганистана, знание о которой в современный мир принес Георгий Гурджиев. Но будь грехов семь, восемь или девять, оправданно ли называть их «смертными» и утверждать, что они являются корнем наших видимых бед?
В первом приближении можно сказать, что психология постепенно открыла эти же психические состояния. Так, например, несколько десятилетий назад Карен Хорни выстроила целую теоретическую и психотерапевтическую систему вокруг гордости и, в частности, вокруг идеи, что мы тратим свою жизнь попусту, чтобы добиться славы, вместо того чтобы реализовать свой потенциал. Жить ради славы — это значит жить с позиций идеализированного Я. При этом мы думаем, что реализуем себя, а на самом деле живем в соответствии с далеким от реальности представлением, которое сами о себе составили. Мы строим его исходя из заниженного видения себя, сформировавшегося в нашей психике из-за недостатка любви, и в дальнейшем мы не учимся любить и ценить себя. Что-то похожее есть в разработках Мелани Кляйн о зависти, а Фрейда — о страхе и тоске как основе всех наших невротических проблем. Практически, отталкиваясь от каждого из смертных грехов, можно сформулировать теорию невроза; а теория, объединяющая их в совокупности, может объяснить множество вещей, если бы кто-то посвятил себя отслеживанию причинных связей собственных повседневных переживаний с той или иной мотивирующей причиной. Но наряду с тем, что психология, и особенно опыт терапии, подтвердили важность так называемых смертных грехов в объяснении страдания, недавнее применение психологии эннеатипов6 в психотерапии было принято с таким энтузиазмом терапевтами разных школ, что у меня не остаётся сомнений, что это помогло им стать лучшими терапевтами, и более того, описание характеров, предлагаемое психологией эннеатипов, совпадает с Диагностическим и статистическим руководством по психическим расстройствам DSM-V Американской ассоциации психиатрии и даже является более глубоким, что приводит многих к мнению, что на сегодняшний день это лучшее объяснение характеров.
6 Психология эннеатипов профессора Клаудио Наранхо определяет девять типов личности в академических психологических терминах. Из неё в 1980–1990-е годы возникло течение помощи самому себе, известное как «Эннеаграмма», базирующееся на учебном материале, который доктор Наранхо преподавал в 1970-е годы, но не совпадающее с его оригинальным учением. Для более подробного изучения психологии эннеатипов обращайтесь к 11-му изданию книги «Характер и невроз» (Claudio Naranjo. Carácter у neurosis. Una visión integradora. Ediciones La Llave. Barcelona, 2012. 11a editión). — Все примечания без указания того, чьи они, принадлежат автору.
Но я не буду сейчас останавливаться на отдельных грехах, а подчеркну их общие черты: это комбинация жадности, деструктивности и фальшивой любви. Когда о ком-то говорят, что он «страстный», часто имеют в виду некоторый переизбыток любви, не являющейся настоящей, это скорее неправильно понятая любовь: ею можно задушить любимого человека, не давая пошевелиться, контролируя каждый шаг, можно владеть им и даже убить его. Убивают из ревности, убивают из собственнических чувств, убивают, потому что хотят получить от другого человека то или иное, так что эти грехи как разновидности страсти являются формами поглощения, формами того, что А. Маслоу называл дефицитарной мотивацией, в которой жизнь ведется не от избытка, а от недостатка: человеком как будто движет стремление заполнить пустоту внутри себя.
Несмотря на дефицитарную мотивацию, определяющую нашу жизнь в период незрелости, внутри нас, однако, находится потенциал психодуховной трансформации, который ведёт нас от состояния поглощения в состояние избытка. Подобно гусенице бабочки, которая только и делает, что ест, мы являемся «обжорами», как я уже говорил, настоящими пожирателями. Фрейд был пессимистичен в своем взгляде на человеческую натуру, называя нас потенциальными паразитами и латентными людоедами. Но зрелая генерация человека похожа на бабочку, которая летает свободно не обременённая излишком страстей. И переход к зрелости предваряет очищение, начинающееся с самопознания. И хотя миром правят старинные грехи, среди которых непомерная потребность в удовольствиях, власти, тщеславие, ощущение собственной важности, в свою очередь опирающееся на деньги, а также необходимость накопления ресурсов из-за неуверенности в завтрашнем дне, — тем не менее путь трансформации известен с давних времен, он начинается с признания своих ошибок и продолжается воспитанием добродетелей.
Вот только старинные рецепты, широко известные в Средние века, уже не работают в наше время, ибо в мире корпораций наличие грехов совершенно необходимо, а добродетель не пользуется хорошей репутацией: она не имеет рынка. А кроме того, предлагая стать более добродетельными, мы рискуем остаться непонятыми, потому что точно так же, как мы не знаем, что такое мудрость, мы не понимаем, что такое добродетель. Против этого выступает ещё и тот факт, что история морали, особенно в западном мире, является историей морализма, а не добродетели. Когда была провозглашена независимость США и внесены поправки в Конституцию, группа людей, редактирующая этот документ, со всей очевидностью понимала, что управление через закон, предлагаемое как альтернатива старому монархическому режиму, возможно, только если люди добродетельны. Но, похоже, это их не очень беспокоило, так как они были уверены, что все, как и они сами (выходцы из Англии, первопоселенцы-пуритане, которые приехали с мечтами о создании лучшего мира), добродетельны. Кроме того, о добродетели заботилась церковь, и они были убеждены, что церковь продолжит свою работу. Но что там реально происходило: морализм пуритан кажется нам достаточно карикатурным, потому что, например, африканцев они не считали за людей. Соответственно, как животных, их продавали и обращали в рабство. Такое деяние не считалось аморальным — да можно ли требовать морального поведения в отношении существ, не являющихся людьми? Ещё дальше от них отстояли экологические понятия и вера в то, что у природы тоже есть свои права. Индейцы были ближе к природе, о них можно сказать, что они, подобно францисканцам, любили деревья и травы, рыб, зверей и птиц и относились к ним, как к братьям. Такое отношение гораздо дальновидней, чем утилитаризм, призывающий нас беречь «истощаемые ресурсы». Это основанные на эмпатии отношения субъекта с объектом, отношения Я-Ты, по словам Мартина Бубера, отношения, которые гуманизируют другого человека и даже деревья. Наша испорченная наукой культура, построенная на современных представлениях мозга ловких охотников, строить такие отношения не способна.
Если мы хотим преодолеть свои деструктивные страсти, развивая добродетели, прежде всего мы должны различать этику авторитарной морали и этику добродетели.
Под добродетелью я имею в виду нечто, что Лao-цзы, легендарный основатель даосизма, называл таковой в своей известнейшей книге Дао дэ цзин — «Книга пути и достоинства». Хотя слово «Дао» переводится дословно как путь или как природа, оно также намекает на космический закон, на глубины сознания, на высшую правду и начало всего. Слово «дэ» означает «добродетель» и говорит о добродетели тех, кто существует в гармонии с космическим законом. Иными словами, заглавие этого классического даосского трактата можно прочесть как «Даосизм и его добродетели», и таким образом можно понять, что добродетель естественно вытекает из соединения с Дао. Достаточно быть самим собой, жить в соответствии с законами Вселенной, чтобы наши поступки были добродетельными. Следовать Дао — единственное необходимое условие для того, чтобы деяния были благотворными, это внутренний закон, в отличие от внешней морали, прописанной в заповедях или законах, диктующих, что такое хорошо и что такое плохо. Моральные нормы имеют ту же природу, что и сами эти законы, поскольку они представляют собой авторитарные утверждения и по своей сути предполагают полицейскую систему, пронизывающую всю этику западного мира.
Многие терапевты считают своей задачей помогать людям избавляться от полицейского, который живет у них в голове, чтобы они поняли, что им не нужно внутреннее полицейское управление; более того: если человек научится жить без стражника или внутреннего преследователя, результат будет лучше, а не хуже. Несмотря на то, что благодаря воспитанию и образованию мы твердо усвоили, что спонтанные желания вредны, нам следовало бы научиться доверять своим чувствам и своему организму и прийти к пониманию, что мы потенциально гуманные существа, а вовсе не чудовища, которые, как нас учит думать психоанализ рвутся с цепи в подвалах нашей психики.
Американский лингвист Джордж Лакофф уверен, что в нас укоренено убеждение, которое он называет «моделью строгого отца»: мы считаем, что лучшее лекарство от бед — «тяжёлая рука». Если ребёнок плохо учится, нужно сообщить родителям чтобы они его наказали; если весь класс получает неудовлетворительные оценки, нужно ввести более сложные экзамены, и если ученики их не выдержат, перекрыть им пути к получению профессии; если граждане ведут себя недостойно, надо отправить их в тюрьму; а если и это не помогает, необходимо ввести смертную казнь. Есть сторонники смертной казни или, по крайней мере, более суровой системы правосудия, хотя всем хорошо известно, что понимание и любовь действуют благотворнее, чем наказание и угрозы. Но в нашем обществе преобладает принцип наказания и угроз, им заражены все уровни — от семьи до политики, и почти не верится, что люди могли бы жить мирно без контроля закона и полиции.
Хотя были времена, когда этика стояла на страже порядка довольно исправно. Вера в морализм была утеряна, когда люди стали более сложноорганизованными и постигли наказующую сущность морализма. И мне кажется, в наши дни мы начинаем понимать, как хорошо был сфабрикован миф о грехопадении человека после вкушения им плода с дерева познания добра и зла. Библейский текст утверждает, что, вкусив от плода этого дерева, божье творение пожелало сравняться с богами, но лучше бы нам действительно не зазнаваться и не пытаться судить о том, что есть добро, а что зло. В тот момент, когда мы становимся судьями хорошего и плохого, мы становимся моралистами, и стоит только раз и навсегда решить быть хорошими или совершать только добро, как внутри нас рождается дух противоречия.
Но кто верит в то, что можно доверять «интеллекту организма»? Кто верит в интеллект своей животной сущности? Коллективно мы криминализировали не только плоть, но и удовольствие. Когда Фрейд предлагает нам признать во внутреннем мире конфликт «принципа удовольствия» и «принципа реальности» и утверждает, что мы становимся зрелыми людьми, когда признаем границы, накладываемые реальностью на удовольствие, мне кажется, он не учитывает одну вещь: то, что он называет реальностью, является реальностью патриархального мира, то есть реальностью общества, в котором удовольствие осуждалось на протяжении веков.
Ещё на заре цивилизации человек восстал против природы, начав эксплуатировать её не только во внешнем мире, но и во внутреннем, а именно отношением к самим себе как к вьючным ослам — то есть к ресурсу или средству, которое само по себе не человек, а нечто, что служит для удовлетворения амбиций или получения материальных благ, преследуя эгоистические или невротические цели, лишь бы облегчить ужасное, губительное чувство вселенской обделённости. И поскольку этот поворот против всего естественного в нашей природе и окружающем нас мире является потерей добродетели, та добродетель, о которой говорил Лао-цзы, а вместе с ним Сократ и Аристотель, называя её eudaimonia — радостное спокойствие, то есть состояние, в котором человек хорошо себя чувствует и естественным образом совершает достойные поступки, — больше всего похожа на психическое здоровье.
Ближе всего к морали, интересовавшей греческих и римских моралистов, таких как стоики, эпикурейцы, циники, — философов, пришедших за Сократом и размышлявших больше о том, как надо жить, чем о научных проблемах в современном их понимании (Марк Аврелий, Эпиктет, Цицерон), сейчас находится то, что мы называем терапией. Эти философы размышляли о сознании, заботились о том, как людям сосуществовать друг с другом, учили их жить лучше. И если бы мы хотели вернуться к добродетели, нам надо было бы сделать образование не более моральным, а более терапевтичным, чтобы оно заботилось о счастье.
Поэтому жаль, что у нас существует барьер между образованием и, как полагают, сильно отличной от него психотерапией; считается, что это разные дисциплины, тем более в нынешних условиях рынка они конкурируют между собой, как политические партии или футбольные команды. Поскольку преобладающей ментальностью является ментальность гегемонии, каждый кусочек территории отстаивает свои взгляды, и учителя не хотят, чтобы на их поле заходили психологи. Но нам дорого обходится результат образования, который не помогает стать счастливее или построить хорошие отношения с другими людьми. Психопедагога вызывают, лишь обнаружив у ученика серьезные проблемы в учебе, а не потому, что образовательные институты важность эмоционального развития считают одной из базовых ценностей. Хотя образование, которое так озабочено получением информации, что забывает о человеческом развитии, — и это в эпоху вездесущего Гугла или всеведущей Википедии! — выглядит довольно смешно.
Наверное, уже пора озвучить другую теорию невроза, о которой я уже говорил между строк, предполагая, что ответом на идею о классических грехах христианства должна стать не только отрешённая нейтральность, но и добродетель, присущая психическому здоровью. Я имею в виду взгляд на страдание, высказанный Фрейдом. Основатель психоанализа сформулировал множество теорий, но одним из самых глубоких порождений фрейдовской мысли является идея коллективной кастрации.
Фрейд разоблачил криминализацию инстинкта, и в особенности криминализацию желания. Видение Фрейда пронизывает идея, что зверь лежит в основе человеческой сущности. Фрейд как бы говорит нам: «Достаточно уже измышлений о духовности. Пора постепенно признать: мы в своей сущности недалеко ушли от животных, и, как животным, нам не нравится клетка, в которую нас посадили. Мы создали антиэротичную, репрессивную цивилизацию. И эта Цивилизация учит нас подавлять удовольствия и ставить разум во главу угла: разум и его полномочия, — таким образом, долг превыше удовольствия. В каком-то смысле это и есть цивилизация: когда долг побеждает удовольствие. Так и было записано в воинских уставах древних народов. Воин мог пасть, пронзенный стрелой, не издав ни единого стона, потому что воинский дух выше страданий тела, а сознание управляет нашим поведением, отдавая телу приказы долга. Японцы способны расстаться с жизнью, вспоров себе живот, потому что такое поведение диктует кодекс чести и героический идеал, воплощённый в людях, способных преодолевать базовые инстинкты».
Действительно, в нас есть что-то, что переживёт тело, но я не думаю, что правильно учить людей презирать своё естество и его желания. Расплата за отсутствие счастья очень велика, и месть неудовлетворенного инстинкта, который превращается в фантасмагорические явления, такие как невротические желания и разрушительные страсти, поистине ужасна.
Учение Фрейда складывалось под влиянием Ницше, и, я уверен, он взял больше у Ницше, чем у своих наставников — физиологов, неврологов или врачей. А Ницше считал, что окаменевшему христианству необходимо вливание дионисийского духа. Что являлось дионисийским духом для Ницше? В частности, доверие природе. Если в Нас есть животные инстинкты, то они похожи на тропизмы у растений, которые знают, куда пускать корни, где взять воду, и умеют поворачивать свои цветки вслед за солнцем… И никому не приходит в голову осуждать цветок за такие действия или же считать первертными желания зверей пить, поглощать пищу или спариваться. Мы не можем контролировать животных, и было бы иллюзией пытаться вмешиваться в инстинкты и половое поведение кошек или собак: мы не осмеливаемся настолько регулировать их жизнь — им в этом повезло. И нам тоже, потому что психическое здоровье кошек, лошадей, дельфинов нас поддерживает. Бывает, что кошки и собаки помогают своим хозяевам пережить моменты депрессии или отчуждения.
Если Фрейд прав в своих предположениях, утверждая, что мы очень несчастные животные, заключённые в клетку цивилизованной жизни, то, может быть, стоило бы принять предложение Ницше культивировать дух дозволенности наших желаний: придавать им большую ценность и меньше криминализировать их. Эту идею развивал также ученик Фрейда Вильгельм Райх, который ещё больше, чем сам Фрейд, верил в освобождение репрессированных обществом внутренних сил, вдохновлённый идеей выпустить зверя из клетки или тюрьмы. Один учитель, под глубоким воздействием идеи Райха, — Александр Сазерленд Нилл — создал известную школу Саммерхилл, эксперимент по воспитанию детей в условиях свободы и любви. Он был воодушёвлен идеей, что самым главным в образовании является именно свобода и любовь. Из этой школы выходили очень благополучные люди, но о Саммерхилле многие высказывались плохо. Злые языки сумели заглушить научные выводы, основанные на результатах долговременных исследований, и в обществе разразился такой ужасный скандал, что некоторые родители испугались, что их детей воспитывают в атмосфере вседозволенности. Похожее произошло снова в 1960-е годы, когда родилось движение контркультуры. Власти испугались возможных социальных последствий от действий этих молодых людей, которые принимали наркотики и высказывали более чем критические суждения о своих благонравных родителях, бабушках и дедушках. Произошел, как его назвали американцы, разрыв поколений: такая огромная пропасть между отцами и детьми, что политики стали демонизировать молодежь.
В 1960-е годы в Калифорнии, которая была своеобразной Меккой этого движения, начались многие революционные инициативы: экологическое движение, новый феминизм, движение за гражданские свободы, давшие новое вдохновение для терапии и особенно большой прогресс в духовном поиске. Когда власти справедливо почувствовали, что, если молодежь выиграет, уже невозможно будет манипулировать обществом, они решили вмешаться и запустили движение неоконсерваторов, которые превалируют в обществе до сегодняшнего дня. Возникло направление, которое обвиняло молодежь и для этого также криминализировало наркотики, потому что они были связаны с потенциально опасной молодежной ментальностью, ослушивающейся властей. И так же, как в Германии хотели во всем обвинить евреев, публике попытались внушить, что молодежь со своей контркультурой и наркотиками представляет большую опасность для Америки. Эта криминализация была очень хорошо организована, особенно так называемая «война с наркотиками», которая основывалась не на заботе медиков о здоровье людей, — несмотря на то, что были опубликованы фальшивые эксперименты, подтверждавшие якобы вредное влияние ЛСД на хромосомы, — это была тайная политическая война, базирующаяся на страхе перед осознанием и освобождением.
Становится стыдно, что борьба с наркотиками на сегодняшний день, при значительном росте экономических преступлений, продолжает убивать стольких людей, и хуже всего, что от этого гибнет больше людей, чем от потребления наркотиков. Откуда берётся такая непримиримость? Мне кажется, причина только в том, что некоторые понимают, что пробуждение сознания имеет политические последствия, поскольку люди перестают быть стадом, погоняемым школой, телевизором и конформизмом. Потому что те же наркотики, которые служили инструментом в религиозной жизни примитивных народов и помогают сегодня в психотерапии, могут привести к опасной мудрости.
Я затронул тему репрессированного духа и необходимости более разрешающей культуры под влиянием инсайта Фрейда о том, что мы отвернулись от природных желаний. И если уже проверено, что высокая степень свободы как в образовании, так и в воспитании вызывает такое противодействие в обществе, что мы можем сделать для оздоровления культуры?
Может быть, камень преткновения в том, что жизнь родителей становится неудобной, если дети отказываются выполнять библейскую заповедь любить и уважать своих родителей, — немногие из них готовы принять критику от своих детей. И пусть даже родители знают о своем несовершенстве, это не значит, что они готовы принять эту правду из уст детей, потому что только на более продвинутом, относительно среднего, уровне сознания родители способны учиться у своих детей.
Некоторые считают, что сейчас рождаются дети, которые учат нас развиваться; дети более мудрые, они как будто приходят в мир, чтобы пренебречь идеалами своих предков и таким образом смести все условности и ложные идеологии, приготовляя нас к совсем другому миру. Как бы то ни было, по крайней мере, следовало бы признать, что репрессивные силы общества — это часть зла, часть проблемы, и нам лучше иметь ясное представление о том, что так называемая цивилизация является элементом репрессивной культуры. И сегодня мы уже хорошо знаем, что становление патриархального строя, репрессивного по своей природе, является авторитарным с самого своего начала, и поэтому то, что происходит сейчас, — это не осложнения цивилизации, а проявления старых противоречий, которые мы уже не можем терпеть.
Но продолжим о фрейдовском видении невроза. Почти с момента зарождения психоанализа и терапии в целом стало ясно, что люди страдают не только по причине скованности их инстинктивной природы, но также из-за ран любви, от «болезни любви», появившейся вследствие фрустрации детских потребностей в заботе. Можно сказать, что эта недолюбленность передается, как инфекция, от старших к младшим, от отцов к детям и к внукам, поэтому мы не можем быть такими близкими своим детям, как того хотим, не можем оказать им то внимание, которое им нужно. Мы очень сильно заняты, и особенно мы заняты тем, чтобы добиться любви, которой нам так не хватало в детстве, а чтобы получить эту любовь, приходится делать множество вещей, противоречащих нашей природе.
Одни люди, чтобы получить любовь, изо всех сил стараются достичь совершенства, другие становятся чрезмерно вежливыми, а третьи придумывают себе страдания, полагая, что они более несчастны, чем есть на самом деле. У каждого свой способ, в зависимости от характера, и есть люди, которым, чтобы чувствовать себя любимыми, необходимо удовлетворять все свои желания, и поэтому они не могут пережить фрустрацию. Потребность в любви достигла масштабов эпидемии. Я думаю, что каждый из нас может найти внутри себя зависимость от любви, поэтому японцы удивляются, как мы, жители западных стран, помешаны на романтике.
Однако мы поняли, что наша любовная зависимость не даёт нам стать более любвеобильными. Психическое здоровье — это счастливое состояние, опорой которому служит потенциал любви. Когда человек любит, он счастлив, любит ли он другого человека, наслаждается музыкой, защищает справедливость или заботится о ребёнке. Есть много форм любви.
Может показаться, что лечением потребности в любви является способность во взрослой жизни восполнить её недостаток в прошлом. Но получить любовь, которой нам когда-то не хватало, трудно вдвойне: если даже это случается, мы не получаем удовлетворения. Это чуть-чуть помогает, потому что человек способен любить, когда чувствует себя любимым. Но недолго, и мы уже знаем, что счастье в любви преходяще. Хотя нас продолжают любить, влюблённость теряет свою новизну… Тем самым это не решение проблемы.
Чтобы вылечить болезнь любви, надо любить. А чтобы быть способным любить, необязательно создавать ложную личность или прививать эту отсутствующую способность, и хотя человеческая сущность любвеобильна, проблема лишь в том, что обида и болезнь препятствуют способности к любви.
Одна из форм любви, существующая внутри нас, — это наслаждение. И никто не сомневается в том, что внутри каждого из нас есть стремление получать его. У нас есть врожденная способность наслаждаться, она теряется, если её не развивать, и многие научаются страдать гораздо лучше, чем наслаждаться, и настаивать на страдании, как будто от горьких слёз больше пользы, чем от слёз восторга и радости.
Милосердная любовь непроста, ибо кто из нас умеет прощать? Наш психический аппарат, в механизм которого встроена функция обусловленности, реагирует на фрустрации и обиды с большим раздражением, и нам гораздо проще мстить, чем прощать. Простить — это как бы выйти за пределы психологической машины, выйти за собственные пределы. Это духовный поступок: прощение происходит после того, как мы вошли в положение другого, узнали нужду другого и поняли, что теперь чувствуем себя лучше, — прощая другого или самого себя. Но сделать этот шаг трудно.
Притом что на сегодняшний день в терапии существуют такие методы, образование, к сожалению, не использует их. Впрочем, если бы мы действительно хотели соответствовать идеалам «западной христианской цивилизации», эти методы были бы очень важны, потому что только тот способен пройти по дороге любви, кто входит через дверь прощения. Побороть гнев сложно, если только тебе не помогает кто-то, кто уже пережил подобный процесс. Некоторые современные терапевты освоили этот метод довольно хорошо, но школьных учителей это обычно не интересует, так как они считают, что заниматься душевным здоровьем учеников — не их забота.
Как важно развить в себе сочувствующую, или эмпатическую, любовь, которая близка материнской, столь же важно развить другой тип любви, направленный на идеал, возникающий от связи ребёнка с его отцом. Отец для маленького ребёнка — это фигура, на которую смотрит мать, и поэтому — точка отсчета. И даже если ребёнок мало контактирует с отцом, он для него — примерно как курица для идущих за ней цыплят — шкала ценностей. В нашем агонизирующем патриархальном мире мы потеряли любовь к «отцам отечества», к «отцам церкви» и к отцу в доме, который ещё недавно был фигурой, пользующейся большим уважением. Значимость отца снизилась, что в последующей жизни ребёнка приводит к потере ценностей: мы уже не восхищаемся сильно, не уважаем сильно, не смотрим снизу вверх; и нужно восстановить отсутствующую шкалу ценностей с помощью образования, их прививающего. Но сегодняшнее образование строится на базе проповедей «Как красива красота!» или «Как честна честность!». Можно петь славу каждой из ценностей, но попытки сделать нас приверженцами справедливости или солидарности с помощью прекрасных речей не заменяют здорового развития любви-восторга, которая, как сострадание и наслаждение, является естественной частью нашей сущности, как бы мы её ни называли — восхищение идеалом, преклонение перед божественным или просто поклонение. Это свободная любовь, сродни созерцанию или интуитивному узнаванию своего потенциала, мотивирующая на его реализацию.
И трудно поверить, что излечение болезни любви, от которой так страдает человечество, не произойдет ни с усилением её жажды, ни в попытках завоевать или купить любовь, — эти действия ещё больше отдаляют нас от получения желаемого.
Счастье в любви, которое мы так ищем, достигается не при условии, что будут любить нас, а когда мы сами станем более любящими, реализуя таким образом любовный потенциал, свойственный человеческой природе. Но нам будет сложно воспитать следующее поколение в любви к ближнему или в любви к жизни, не начав с более элементарного, а именно с любви к самому себе.
Ошибочно думая, что любим себя, мы даже не представляем, насколько себя ненавидим, преследуем, мучаем или принижаем. А не имея любви к себе, нам сложно будет полюбить других, это похоже на эффект накопления. Любовь к Богу, очевидно, была бы проще, ведь Бог совершенен, а у людей столько недостатков…
Тем не менее мы давно потеряли как веру, так и способность к поклонению, а кроме того, у нас на коллективном уровне проблемы с фигурой отца. Но источником поклонения является благодарная любовь, любовь, направленная вверх, которую можно воспитать вне зависимости от веры. Например, можно воспитать любовь-восторг от соприкосновения с искусством. Слушать «Героическую» симфонию Бетховена или находиться в Сикстинской капелле — опыт, который мы называем божественным, потому что в самих произведениях заключена устремленность к небесам, в противоположность любви сострадательной, обращенной к земле или к человеку.
Я думаю, что греки были правы, когда говорили, что в области воспитания достаточно гимнастики для тела и музыки для души, а настоящее воспитание относится к компетенции и ответственности законодателей.
Мы можем понять, насколько важно, строить мир, открытый для гармоничного и свободного развития, наблюдая, как на сегодняшний день нам приходится жить в мире, который делает нас эгоистичными, продажными и больными.
Сейчас, однако, как кажется, мы живём при экономической диктатуре, в которой правители подчиняются законам прибыли и распоряжениям Глобальной коммерческой империи, и в нем нет места ничему, кроме денег и политики. В любом случае, все те вещи, о которых я говорил ранее, считая их важными для развития нашего сознания, являются наименее важными для наших законодателей и институтов.
Если задуматься о том, что необходимо для общества, принимая во внимание причины страданий в мире, то, кажется, действительно нам нужны люди более осознающие, мудрые и способные любить, которые, любя, были бы и более добродетельными, потому что лучшие люди стали бы основой более счастливого общества. Разве может быть здоровая ткань без здоровых клеток?
Но, оказывается, говорить о таких вещах практически запрещено; говорить о любви в академической среде или в образовательном учреждении — это значит не быть ни научным, ни академичным, это значит использовать не ту часть мозга. Но именно совокупность этих тем могла бы стать политикой осознанности, а то, что эти темы неактуальны сегодня, ещё раз доказывает, что ныне правит политика неосознанности, для которой ни одна из этих тем не имеет отношения к образованию и даже не является полезной или важной.
Но я ещё не закончил рассказ о теориях невроза, и нам предстоит также рассмотреть то, что иногда называют экзистенциальной теорией. Изначально она возникла из психоанализа. В ней утверждалось, что у некоторых людей «слабое Я», то есть подразумевалось, что они страдают, потому что ищут себя и не могут найти. Но мне кажется, что если кто-то страдает по той причине, что не находит себя, то только потому, что небольшое количество людей вообще способны искать себя. На самом деле, мы все потеряли душу, и небольшое число избранных пытаются найти её вновь. Другими словами, только некоторые у себя обнаруживают кажущееся отсутствие существования и понимают, что знаменитая фраза Декарта «Мыслю — следовательно существую» — тоже всего лишь размышление. Кто знает, что он существует, помимо того, что он так думает? Мало кто. Поэтому, может быть, чем больше мы думаем, тем меньше мы действительно проживаем свое существование, и, наверняка, правильнее было бы сказать: «Я не думаю — значит существую», потому что нам проще воспринимать сиюминутное существование, когда мы не отвлекаемся от непосредственного ощущения на собственные мысли.
Чувствовать существование, чувствовать, что существуешь, — это не функция мышления, поэтому картезианская логика ставилась под сомнение такими философами, как Поль Рикер. «Мыслю — следовательно существую» — логическая конструкция, и немногие понимают её неправильность. Говорят, люди заболевают, когда теряют себя, но я думаю, всё происходит наоборот: только глубокие люди понимают, что они не существуют, истина заключается в том, что мы не существуем. Или, другими словами, существование — это состояние существа, до которого мы ещё не доросли. Вместо того чтобы обманывать себя, думая, что существуешь, лучше признать как факт: «Когда я вырасту, я буду существовать». Потому что только тот, кто дожил до мудрости, находит наслаждение в знании, что он действительно существует.
Есть несколько уровней объяснения, почему нам не хватает ощущения истинного существования, несмотря на то, что у нас достаточно доказательств существования физических, эмоциональных и когнитивных ощущений. Объяснение психоаналитиков заключается в том, что мы разделены на части: не будучи единым целым, человек не может чувствовать свое Я. Машина, являющаяся результатом сборки составных частей, не может воспринимать себя как целое. А если наши мысли отделены от наших чувств, а наши желания — это самостоятельный мир, то где же часть, говорящая «Я существую»?
Некоторые нейрофизиологи, а также их коллеги нейробиологи или когнитивисты, говорят, что за синтез наших психических частей отвечает префронтальная область коры головного мозга. Я помню, как Даниэль Сегаль описывал случай женщины, у которой была повреждена префронтальная область. Она продолжала жить, как раньше, делать всё то, что делала раньше, но её дети говорили: «Наша мать как будто бы потеряла душу». В ней отсутствовало что-то неощутимое, отчего она была больше похожа на зомби, чем на человека. Она могла думать, ходить за покупками и даже заботиться о своих детях, но ей словно не хватало какой-то жизненной части, которая делала её человеком: функции синтеза её в единое целое.
Мы триедины — как иногда говорят, у нас три «мозга»: интеллектуальный мозг, или человеческий, — неокортекс; средний мозг, эмоциональный, или мозг отношений, подобный мозгу других млекопитающих, и инстинктивный мозг, или мозг рептилий. Но эти три мозга должны быть объединены функцией синтеза, которая, похоже, у большинства людей неразвита и работает лишь частично.
На меня эта идея произвела большое впечатление под влиянием двух учителей. Первый из них — Георгий Гурджиев, духовный учитель, который родился в конце XIX века в Грузии, как и Сталин, и стал известен в России незадолго до большевистской революции, но потом вынужден был эмигрировать — сначала в Турцию, а потом во Францию. Он создал школу, которую назвал Институтом гармонического развития человека; и говорил о триедином мозге, когда Пол Маклин ещё не сформулировал эту идею, базировавшуюся на эволюционных исследованиях. Словами своего героя Вельзевула, который путешествует на космическом корабле к центру Вселенной после окончания своей миссии и объясняет своему внуку проблемы несчастных обитателей планеты Земля, Гурджиев резюмирует: они страдают оттого, что не могут координировать свои три мозга, и объясняет состояние человека через метафору повозки, которую везет лошадь, управляемая кучером. Повозка — это тело, кучер, конечно, интеллект, который знает, как попасть на ту или иную улицу, а лошадь представляет нашу эмоциональную или мотивационную часть. Но после объяснения Гурджиев добавляет, что мы как будто повозки, взятые напрокат, везущие не того пассажира, для которого предназначены. В разные моменты своей жизни мы подвержены различным влияниям и начинаем служить то одной, то другой цели, но глубоко внутри чувствуем пустоту, потому что пассажира, для которого была построена эта повозка, нет. Его можно называть Я, истинное Я или просто «сущность», это не так важно. Главное, что надо понимать, — у нас нет стабильного Я, а то, что мы под этим понимаем, есть всего-навсего опыт данного момента, — потому что в первую очередь из этого понимания естественно может возникнуть стремление, а от стремления — встреча с тем, кто мы есть на самом деле, и мотивация для необходимой практики. А особенно полезной Гурджиев считал ту практику, что стала самым важным аспектом его учения, он назвал её воспоминанием о себе: концентрация на ощущении существования за пределами ментальных феноменов.
Похожий метод лежит в основе в учения Шри Рамана Махарши, который предписывал исследование ощущений от вопроса «Кто я такой?» как важнейшее упражнение, необходимое для развития внутреннего сознания.
Но если мы забыли опыт бытия до такой степени, что все попытки вспомнить его терпят неудачи, из нашей экзистенциальной пустоты мы можем стремиться к собственному Я, — и это стремление быть, неотделимое от стремления к божественному, уже является культом или, как минимум, началом культа, за пределами его ритуализированных форм, таких как молитва, концентрация на священных символах, мантрах, именах Бога и т. д. Таким образом, осознание забвения своей сущности уже представляет собой болезненную попытку проснуться и является стимулом для внутреннего поиска.
В заключение добавлю: идея о том, что потеря проживания «я есть» происходит из-за дезинтеграции психики, представляет собой очень плодотворную точку зрения, поскольку выставляет напоказ важность и необходимость разрешения внутрипсихических конфликтов, которые очень близки к семейным.
Об этом также говорил современник Гурджиева, которого посчастливилось знать лично и который оказал сильное влияние на меня в юношеские годы, — Тотила Альберт, известный в Чили как скульптор, но скорее мудрец, чем художник, и даже, я бы сказал, пророк, потому что он был первым критиком патриархального строя. Больше всего на свете он желал предупредить своих современников об опасности заблуждений нашего мира и необходимости строительства нового, который бы основывался на равновесии отца, матери и ребёнка в человеческом бытии — не только на уровне семьи, но и в плане внутрипсихическом, а также в области культурных ценностей.
Уже Иоганн Якоб Бахофен, интересовавшийся матриархатом у некоторых доисторических народов, косвенно обнаружил патриархальную предвзятость нашего общества, но идеализировал его, представляя шагом вперед в развитии культуры: как обычно думают, рождение цивилизации было обусловлено прогрессом, то есть возникновением письменности, календаря, строительством крупных городов и храмов. Но затем археологи выяснили, что в патриархальном обществе возникли и зачатки неравенства и несправедливости, рабство, войны и другие проблемы, так что подавление женщины не принесло миру благ, если не считать благом подавление эмоционального мира и способности к эмпатии, а также то, что с унижением женщины дети остались незащищенными от считающегося природным деспотизма отцов, и таким образом были потеряны диалогические отношения примитивных людей, которые любили своих детей сильнее, давали им больше пространства и принимали во внимание их потребности в своих решениях.
Если мы понимаем психические страдания как ощущение внутренней пустоты, появившееся в результате дезинтеграции, нам нужно не только осознать своё внутреннее психическое состояние, но и развить стремление к разрешению внутренних конфликтов — между интеллектом, эмоциями и инстинктами, а также между своей отцовской частью, потенциально воинственной, эмпатичной материнской частью и частью, которая является нашим ребёнком или животным: наше внутреннее природное существо, каким оно было до социализации.
Подход Тотилы Альберта включает в себя видение, которое можно назвать системной теорией невроза.
То, что мы именуем «цивилизацией», — это мир, в котором отец доминирует над матерью и ребёнком, и мы можем сказать, что причиной нашего персонального невроза (учитывая то, что части нашего мозга не могут работать согласованно) является некоторое культурное загрязнение. В мире, где царит ложь, где не принимают во внимание переживания ребёнка (у которого почти нет прав чувствовать и ещё меньше прав говорить, что он чувствует), дети постепенно теряют возможность чувствовать то, что они чувствуют. Рональд Лэйнг говорил о политике переживания — репрессивной политике в отношении переживания и табу на осознанность.
По мнению Тотилы Альберта, альтернативой патриархату является вовсе не матриархат и не возврат к его ценностям, потому что, согласно его видению, до того, как люди стали жить оседло, обществом руководили дети. Как животные, мы не ведали, что такое угнетение, и самоконтроля свободного индивидуума, похоже, было довольно для жизни, пока опыт голода в последний ледниковый период не привёл нас, о чем свидетельствуют пробитые черепа наших предков-неандертальцев, к каннибализму. После этого установился строй, в котором группа становится важнее индивидуума, — матриархальное управление, примитивный коммунистический строй, который может быть назван тиранией группы над индивидуумом, и кажется, что в этот период неолита, ассоциирующийся у нас с появлением керамики и ткачества, возникли не только искусства, но и религия — то, что мы называем духом. Зародилась культура, что представляется шагом вперед. Но затем появилось централизованное правительство, деспотичное, авторитарное и патриархальное, вероятно, изначально оно было функциональным и необходимым в периоды великой засухи. Нужно было мигрировать, организовать сообщество, и ради выживания потребовалось стать хищниками. Свидетельством этому является обожествление жертвоприношения во всех религиях. Нет такой религии, где не было бы жертвоприношений. Почему жертвоприношения? Как будто нам захотелось оставить историческое воспоминание, что иногда убийство свято, потому что оно необходимо: чтобы защитить жизнь, нужно убивать. Даже убивать животных было трагедией для человека, который жил в природе, в непосредственной близости от них… А потом начали убивать людей…
Мы стали варварами. Цивилизация родилась из варварства когда охотники на животных превратились в охотников на людей, нападавших на более цивилизованные оседлые народы, жившие по берегам великих рек.
В отличие от тех, кто сходится во мнении, что альтернативой патриархату является возврат к матриархальному строю, концепция Тотилы Альберта включала в себя понятие «трижды наш» (аллюзия к «Отче наш»): мир, в котором не только находятся в равновесии три интерпретации божественного — Отец, Мать и Сын, но и власть разделена между ними поровну. А принимая во внимание превышение власти тиранами и мечты некоторых людей о мире без правительств, должен заметить, что групповым психотерапевтам давно известно, что наличие небольшой власти сильно ускоряет процесс самоорганизации. И я думаю, Тотила был прав, говоря, что нужно объединить три принципа — отцовский, материнский и детский, которые соответствуют трём частям нашего мозга, и альтернативой политике патриархального строя может стать баланс между самоуправлением, демократией и центральным правительством. И таким образом, социальный порядок представлял бы собой не иерархию, а гетерархию.
Но как сделать это реальностью, притом что всё, о чем я говорю, совершенно несущественно в сегодняшней политике? Если бы кто-то захотел сделать реальностью альтернативный мир, приоритетным было бы формировать людей более добрых, более осознающих, более добродетельных… но эта задача кажется непосильной, учитывая огромную массу населения в мире и мизерный интерес со стороны людей к тому, чтобы кто-то помогал им меняться.
Тогда зачем я донкихотствую здесь, говоря о вещах, противоречащих ощущению реальности? Да потому, что наш мир катится под откос, цивилизация вошла в критическую фазу, когда выстроенная нами искусственная иерархия становится всё более и более дисфункциональной и даже катастрофичной, так что патология системы становится заметной и правительства, оторванные от масс, лишились их доверия.
Видя такое положение дел, я стал размышлять несколько апокалиптично, при этом я понимаю слово апокалипсис как «откровение». Я думаю, откровение именно в том и состоит, чтобы отдавать себе отчет в настоящий момент, что с нами происходит. И не то ли происходит? Кажется, впервые в жизни люди узрели лик Чудовища, которое веками пребывало с ними, ибо Чудовище — не что иное, как дух цивилизации.
Древний Рим называли «Зверем Апокалипсиса», иудеи чувствовали уничтожающее зло великих цивилизаций, которые они пережили: сначала египетское, потом вавилонское пленение. Метрополис — это чудовище, с которым мы пребываем вместе, независимо от его форм: сам патриархальный строй, который мы вознесли до размеров цивилизации, с монополией власти и постепенным его угасанием через века и тысячелетия.
В период контркультуры впервые мы заметили извращенность системы, управляющей нами, и сейчас люди снова начинают понимать её слепоту и неповоротливость, и это их возмущает. Такая ситуация заставила меня вспомнить совет, который я однажды услышал от суфийского мудреца, в ответ на вопрос, как нужно поступать с Эго, о чем я рассказал в самом начале этой книги.
Эго, или невроз, или та часть нас, нарциссичная по сути и желающая быть центром всего, которая не является нашим настоящим Я и против которой мы боремся, чтобы стать самими собой, — нужно ли её разрушать? Или она изменится? Или просто изменятся отношения с Эго, как случается, когда кто-то берёт в руки повод и направляет коня туда, куда ему нужно?
Надеюсь, не требуется повторять читателям анекдот, рассказанный на первых страницах книги, я напомню только его вывод: «Отпадёт само».
Мне кажется, надежда заключается в том, что в той же мере, как самые опасные и болезненные черты нашей личности могут потерять власть над нами, потому что, осознав причину их возникновения, мы в какой-то момент начинаем относиться к ним с юмором, так и в нашей коллективной жизни намечается процесс распада устаревшего и бесполезного уклада, что оставляет место для появления новых форм сознательной жизни и новых способов управления.
В кризисные годы часто повторяют, что И-Цзин, идеограмма кризиса, включает в себя смысл «опасности» и одновременно «возможности». Но само слово «кризис» пришло из медицины, где оно обозначает момент развития болезни, когда больной или начинает поправляться, или умирает. Всё это абсолютно соответствует сегодняшнему моменту, когда невозможно представить себе выживание человечества без глубинной трансформации сознания, принимая во внимание невозможность продолжения коллективного существования бессознательной, личиночной жизненной формы.
Нам стоит взглянуть в лицо кризису как на возможность выходящую за пределы его опасности и несчастий. Как мы организуем питание, если не будут работать торговые и транспортные компании? И если перестанет действовать экономическая система, придется вернуться к бартеру или создать деньги, альтернативные принятым у банков и правительств? Но может быть, если мы отпустим наше катастрофичное воображение на свободу и примем на вооружение возможность сообщества самоорганизовываться и использовать свою творческую силу, то обнаружим что сможем делать многие вещи лучше, чем организации, которые сейчас ответственны за это, когда отмершие способы управления развяжут нам руки.
Я думаю, что современной молодежи предстоит строить новый мир, и строить его надо будет, беря за основу мир индивидуальный — сознание, обращая внимание на воспитание детей, на образование, на способы и культуру увеличения осознанности. В западном обществе не уделялось должного внимания развитию сознания: теперь уже можно заметить, насколько опасно забывать о сознании и, более того, о заговоре против сознания: в нынешней войне систем верхам невыгодно, чтобы мы слишком многое осознавали.